Текст книги "От Баркова до Мандельштама"
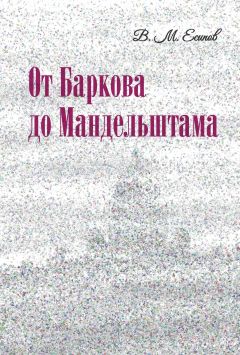
Автор книги: Виктор Есипов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Из записок пушкиниста
Петербург или Москва?
В «Комментариях» к балладе «Тень Баркова», где эта нецензурная баллада без достаточных на то оснований приписывалась Пушкину, М. А. Цявловский немалое место уделил полемике с противником такой точки зрения, известным в конце ХIХ – начале ХХ столетия издателем произведений поэта, членом– корреспондентом Императорской академии наук П. А. Ефремовым. В частности, он достаточно подробно остановился на утверждении Ефремова о московском происхождении баллады, приведя при этом следующее замечание последнего:
«Еще я выбросил (из очередного собр. соч. Пушкина. – В. Е.) отрывки из поэмы “Тень Баркова”, которые взял было из статьи Гаевского[108]108
Гаевский В. П. Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения // Современник. 1863. № 7. Отд. I. См. об этом выше в настоящей книге: «Нет, нет, Барков! скрыпицы не возьму…» (Размышления по поводу баллады «Тень Баркова»).
[Закрыть] в “Современнике”, обставившего его такими подробностями о времени написания, чтении лицеистами и т. п., что не было сомнения, что это написал Пушкин. Найдя полную поэму в рукописной тетради, я увидел, что в ней дело идет не о Петербурге, а о Москве, и с такими подробностями, которых Пушкин не мог о ней знать, вывезенный из нее еще почти ребенком»[109]109
Цявловский М. А. Комментарии. С. 163–164.
[Закрыть].
Ефремов, к сожалению, не пояснил, какие именно подробности убедили его в том, что «дело идет не о Петербурге, а о Москве». Однако не подлежит сомнению, что для него – человека, родившегося в Москве в первой половине XIX века, – различия между Петербургом и Москвой в укладе, языке, стиле жизни были гораздо более ощутимы, чем для нас. Колорит Петербурга или Москвы мог распознаваться Ефремовым по столь тончайшим признакам, что нами сегодня не различимы.
Но М. А. Цявловский в пылу заочной полемики (Ефремов умер в 1907 году) свел это замечание своего оппонента лишь к двум стихам первой строфы баллады:
«Но как бы там ни было, Ефремов, конечно, имеет в виду стихи баллады: “В бордели на Мещанской” и “Московский модный молодец”. Но первый стих говорит именно за то, что место действия – в Петербурге, где на Мещанской издавна находились публичные дома… Что же касается “московского модного молодца”, то более, чем странно думать, что он может быть только в Москве, скорее наоборот: естественно назвать “московским” человека, приехавшего из Москвы в чужой город»[110]110
Цявловский М. А. Комментарии. С. 164.
[Закрыть].
Отмеченные М. А. Цявловским два стиха взяты им из первой строфы баллады, поэтому приведем ее здесь с сокращениями, необходимыми по соображениям благопристойности:
Не вдаваясь в суть не вполне убедительных, на наш взгляд, возражений М. А. Цявловского, отметим, что он слишком упростил позицию Ефремова: прочитав всю балладу, его оппонент мог ощущать московский колорит и в других ее стихах.
Отметим также, что стих 2 («В борделе на Мещанской») Ефремов прочитал лишь в полном тексте баллады. Ведь в опубликованных Гаевским в 1863 году отрывках из нее присутствовали только стих 1 и стихи 4–8 первой строфы.
Видимо, ощущая недостаточность своих аргументов, М. А. Цявловский заметил в заключение этого аспекта полемики:
Однако Ефремов, как мы отметим дальше, считал иначе.
Но реплика М. А. Цявловского важна тем, что вся она в целом свидетельствует о признании М. А. Цявловским гипотетической возможности существования в балладе московского антуража.
Не обладая той степенью способности распознавать в литературном тексте приметы Петербурга или Москвы, на которую претендовал Ефремов, мы все же привели некоторые аргументы в пользу Москвы в уже упомянутой нашей статье «Нет, нет, Барков! скрыпицы не возьму…» (Размышления по поводу баллады «Тень Баркова»)[113]113
См. выше в настоящей книге: с. 21–22.
[Закрыть].
Повторим их здесь снова:
– «Мещанская» – известная улица в Москве, примыкающая к району Марьиной рощи, – вспомним название сентиментальной повести Жуковского, ведь именно Жуковский издевательски пародируется в балладе;
– «Московский модный молодец» – скорее всего московский приказчик, потому что именно так (молодец) нередко называли в Москве приказчиков[114]114
Елистратов В. С. Язык старой Москвы: лингвоэнциклопедический словарь. М., 1997. С. 296.
[Закрыть];– «Подьячий из Сената» – тоже может быть указанием на Москву, потому что с 1763 года два департамента Сената располагались в Москве (четыре – в Петербурге)[115]115
БСЭ. М., 1976. Т. 23. С. 248.
[Закрыть].
Кроме того, слово «подьячий», утратившее к началу XIX века свое прямое значение («приказный служитель, писец в судах»[116]116
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1880. С. 219.
[Закрыть]), приводится в словаре «Язык старой Москвы» как старомосковское со следующим разъяснением:
Да и сам подбор честной компании, представленной в строфе, незначительностью бегло упомянутых в ней персонажей свидетельствует более в пользу Москвы, нежели столичного Петербурга.
За пределами первой строфы обратим внимание на следующие стихи строфы четвертой:
Выражение «ломает в стих», безусловно, московского толка. Сравним со словарем «Язык старой Москвы»:
Видимо, в балладе слово «ломать» (по аналогии с приведенным его значением, относящимся к игре в карты), хотя и обращает на себя внимание стилистическим несоответствием окружающему контексту, обозначает попытки незадачливого стихотворца (Хвостова) вставить в стих слово, туда не помещающееся.
Обратим также внимание на стихи одиннадцатой строфы:
Не совсем ясный смысл последнего стиха (ведь биржа – это «учреждение для заключения крупных торговых и финансовых сделок»[121]121
Словарь языка Пушкина.: В 4 т. Т. 1. М., 2000. С. 100.
[Закрыть]) проясняется также с помощью словаря старомосковского говора, где к слову «биржа» дается следующее разъяснение:
«…биржа в Москве гораздо обширнее, чем кажется: она собирается во многих местах, почти целый день не редеет толпа на тычке, который для торговцев средней руки, не имеющих права посещать биржу…, может почесться истинной биржей. Подрядчики и служащие транспортных контор, извозчики и вообще все занимающиеся извозом чернеют темной тучей на углу против Гостиного двора… Смешанная куча промышленного люда толчется день– деньской против извозчичьей биржи, там и сям с деловыми людьми мешается особый класс промышленников, зовомых здесь жуликами, разные рядские ширялы, нищие обоих полов и разных видов – смешение весьма разнообразное и вполне демократическое»[122]122
Елистратов В. С. Язык старой Москвы. С. 56.
[Закрыть].
Здесь-то, по-видимому, по замыслу автора баллады, и должен был исполнять свои похабные куплеты, восхваляющие Баркова, неведомо как сделавшийся их сочинителем поп-расстрига.
На это указывает и упоминание биржи в одном ряду с трактирами и кабаками, потому что в том же Словаре языка старой Москвы отмечается их связь между собою:
Остановим еще внимание на начальных стихах строфы XII:
Вряд ли такие вывески существовали в действительности в Москве начала XIX века, но сама тенденция доходчиво обозначать на них «сущности торгового предприятия» имела в Москве широкое распространение: «… изображались шляпы, подносы с чайным прибором, блюда с поросенком и сосисками, колбасы, сыры, сапоги, чемоданы, очки, часы, – словом, на грамотность публики и на витринную выставку торговцы не надеялись и представляли покупателям свой товар в грубо нарисованном и раскрашенном виде»[125]125
Елистратов В. С. Язык старой Москвы. С. 101.
[Закрыть].
Отметим, кстати, что в шутливой поэме В. Л. Пушкина «Опасный сосед», живописующей один из притонов допожарной Москвы, обрисован домик, весьма похожий на наш:
(Курсив издателей. – В. Е.)
«Херы с Покоями сцеплялись по стенам» – это, надо думать, вензели, образованные заглавными буквами непристойных названий соответствующих мужских и женских принадлежностей, «украшавшие» фасад заведения, дабы доходчивее объяснить «сущность торгового предприятия» потенциальным клиентам…
Возможно, внимание Ефремова привлекли еще какие-то детали баллады, подсказавшие ему, что «дело происходит» в Москве, но мы, к сожалению, не имеем на этот счет никаких сведений. Укажем лишь снова, что отмеченные нами стихи (с не совсем обычным употреблением глагола «ломать», с упоминаниями биржи и чрезмерно откровенной вывески) стали известны Ефремову лишь при ознакомлении с «полной поэмой», – отрывки из нее, опубликованные Гаевским в 1863 году, этих стихов не содержали. Все отмеченные нами детали, вопреки категоричным возражениям M. A. Цявловского, подтверждают определенный резон в утверждениях Ефремова о существовании в балладе московского антуража. Таким образом, и сомнения Ефремова в том, мог ли Пушкин (если бы он действительно являлся автором баллады) знать «такие подробности» о Москве, «вывезенный из нее почти ребенком», – не беспочвенны.
При этом мы не собираемся отрицать возможности отнесения кем-либо части отмеченных деталей и к Петербургу, что лишь подтверждает напрашивающийся в данном случае вывод: вопрос о том, где происходит действие баллады – в Петербурге или в Москве? – остается открытым.
«Не дай мне Бог сойти с ума…»
Мы не будем рассматривать тему безумия в творчестве Пушкина конца 1820-х – начала 1830-х годов в увязке с европейской литературой романтизма, которая, как известно, проявляла особый интерес к тайным движениям человеческой души, ко всему интуитивному и бессознательному и которая интерпретировала безумие как феномен исключительности, несовместимой с обыденностью повседневной жизни и с ходячим здравым смыслом. Лариса Вольперт писала, что такому рассмотрению нашей темы противоречит пушкинская точность в «социально-исторических характеристиках современности» и «неповторимость портретов людей восемнадцатого столетия»[127]127
Вольперт Л. И. Тема безумия в прозе Пушкина и Стендаля («Пиковая дама» и «Красное и черное») // Пушкин и русская литература. Сборник научных трудов. Латвийский государственный университет. Рига, 1986. С. 49.
[Закрыть]. Или, как отмечено Евгенией Таборисской: «Слишком густо социальное окружение героев, слишком прочны и многообразны их связи: безумие не несет героям петербургских повестей Пушкина полного высвобождения от социального амплуа (чиновник, офицер, влюбленный, игрок), оно лишь меняет их статус в обществе»[128]128
Таборисская Е. М. Своеобразие решения темы безумия в произведениях Пушкина 1933 года // Пушкинские чтения. Сборник статей. (Сост. С. Г. Исаков.) Таллинн, 1990. С. 71–87.
[Закрыть].
В этой статье мы сосредоточим свое внимание на том обстоятельстве, что тема безумия в пушкинских произведениях указанного периода почти всегда отягощена политическими аллюзиями или, во всяком случае, дает основания рассматривать ее в этом ключе.
Первым в ряду таких примеров должна быть поставлена устная повесть Пушкина «Уединенный домик на Васильевском», записанная в 1828 году Владимиром Титовым и опубликованная им же в 1829-м с позволения Пушкина[129]129
Что само по себе не может не вызывать удивления.
[Закрыть] в альманахе Дельвига «Северные цветы» под псевдонимом Тит Космократов. Там сумасшествие Павла, главного героя повести, удивительным образом совпадает с реальным безумием М. А. Дмитриева-Мамонова, который был объявлен сумасшедшим за отказ присягать взошедшему на престол Николаю I. Как проницательно отметила (со ссылкой на Ю. М. Лотмана) Анна Ахматова, «сумасшествие Мамонова было вроде гамлетовского (во всяком случае, в начале) или чаадаевского <…> C ним обошлись как с душевнобольным, но держали как арестанта, Мамонов уехал в свою подмосковную, отрастил бороду, сделался человеком-невидимкой. Подписывал бумаги не своим именем, запрещал упоминать при нем о государе, государыне, вел. князьях, избил лакея (все это делал и Павел “Домика”)»[130]130
Ахматова А. О Пушкине. Л., Советский писатель, 1977. С. 219.
[Закрыть].
Ахматова высказала предположение о связи повести с личностью самого императора:
«Кроме того, Павел приходил в исступление при виде (где он его брал в своей подмосковной?) высокого белокурого человека с серыми глазами.
Весьма таинственный блондин!
Но здесь нельзя не вспомнить, что Пушкину была предсказана гибель от белокурого человека, а что Николай I был совсем белокурым и у него были серые глаза…»[131]131
Ахматова А. О Пушкине. С. 219.
[Закрыть]
В повести «Пиковая дама»[132]132
Принято относить повесть к 1833 году, однако достоверных доказательств такой датировки не имеется.
[Закрыть] главу I предваряет невинный как будто бы стихотворный эпиграф:
А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули – Бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.
Эти стихи еще задолго до опубликования повести Пушкин сообщал в своем письме Вяземскому – шуточные строки о собственном времяпрепровождении летом 1828 года. А потом они пригодились для повести. Все как будто бы просто. Но простота эта кажущаяся. Ведь стихотворный размер эпиграфа в точности повторяет размер известной декабристской агитационной песни, написанной совместно Рылеевым и Бестужевым между 1822 и 1825 годами:
Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят.
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят.
Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо.
А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо.
Как курносый злодей
Воцарился по ней —
Горе!
Но господь, русский Бог,
Бедным людям помог
Вскоре.
В середине XIX века оба текста часто воспринимались как одно целое, что, конечно, не случайно: эпиграф написан как продолжение песни. На это обратил внимание Натан Эйдельман:
«… Для определенной, весьма просвещенной части читателей пушкинского и послепушкинского времени строчки “Как в ненастные дни…” были частью сверхкрамольного агитационного декабристского сочинения о том, как “давили” цари друг друга… и, понятно, – о том, что эту традицию нужно продолжить. Действительно, размер, ритм, которым написаны разные куплеты этого сочинения, последовательно выдержан, он очень оригинален, его невозможно спутать с каким-либо другим, это настолько очевидно, что в конце прошлого и начале нашего века специалисты готовы были допустить:
1) что все опасные куплеты написал Пушкин;
2) что те же самые строки, включая и “Ненастные дни”, сочинили Рылеев и А. Бестужев».
Далее он писал: «Пушкин, конечно, все это понимал, и если “воспользовался легким размером Рылеева”, то совершенно сознательно. Зачем же? Простая пародия была бы невозможным кощунством»[133]133
Эйдельман Н. Я. А в ненастные дни… М.: Звезда. 1974. № 6.
[Закрыть].
В нашей давней работе[134]134
Есипов В. М. Исторический подтекст «Пиковой дамы» // В кн.: Есипов В. М. Пушкин в зеркале мифов. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 206–223.
[Закрыть] показано, что это не «простая пародия», а указание на то, что картежная игра в повести, помимо выполнения основной, сюжетной функции, является еще и развернутой метафорой, что за ней скрывается другая игра, по мнению Пушкина, еще более азартная – борьба за власть. Так, две первые игры совпадают по времени с дворцовыми переворотами 1762 и 1801 годов, а третья игра, игра Германна, соответствует восстанию декабристов. И тем самым его безумие в финале повести может ассоциироваться с поражением восстания. При этом точное указание «нумера» в Обуховской больнице (17), где он сидит, вызывает ее ассоциации с Петропавловской крепостью, а сам «нумер» провоцирует нас сопоставить его с номерами тюремных камер вождей декабризма, в результате чего выясняется, что в номере 17 Алексеевского равелина содержался Рылеев[135]135
Пругавин А. Петропавловская крепость. Ростов н/Дону, 1906. С. 13–15.
[Закрыть].
Картежники, которые в «ненастные дни» гнут пароли «от пятидесяти на сто», в иные дни давили царей, а заговорщики в иные, счастливые дни, совершавшие дворцовые перевороты, – тоже азартные игроки, только ставки в их игре неизмеримо крупнее…
При сопоставлении текстов под таким углом зрения затемненный пушкинский эпиграф прояснял содержание агитационной песни, а само содержание агитационной песни получало в пушкинском эпиграфе нравственную оценку.
В том же направлении воздействует на наше восприятие повести и фраза Германна в главе III, обращенная к потерявшей сознание графине:
«Перестаньте ребячиться, – сказал Германн, взяв ее руку».
Выделенные курсивом слова удивительно напоминают повелительное обращение графа Палена к великому князю Александру Павловичу в ночь на 12 марта 1801 года, когда с его отцом императором Павлом I было уже покончено: «Будет ребячиться, идите царствовать…»[136]136
Эйдельман Н. Я. Грань веков. М.: Мысль, 1986. С. 328.
[Закрыть]
В незавершенном «Дубровском» (1832) в неявном виде присутствует та же аллюзия. Доведенный до отчаяния такой же обедневший дворянин, как Евгений «Медного Всадника», становится бунтовщиком и привлекает к участию в бунте своих крестьян. А противостоит ему, что специально подчеркнуто автором, выдвиженец 1762 года («восшествие Екатерины»!) богатый помещик Троекуров. Заметим, что сопряжение этого незаконченного произведения с нашей темой уместно, потому что в планах продолжения романа имеется вариант, в котором Владимир Дубровский сходит с ума:
«[разлука, объяснение, обручение. Капитан Исправник] Жених. Князь Ж. Свадьба. [похищение] [Хижина в лесу], команда, сражение [franc. (?) Сумасшествие] Распущенная шайка» (XII, 831–832).
Подобным же образом можно взглянуть и на стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума…». Не случайно стихи эти родились в тот же период времени, когда написаны были «Пиковая дама», «Медный Всадник» и «Дубровский». Мысль о собственном безумии стала вдруг беспокоить поэта. Но о каком безумии он задумывался? Возможно, его волновало безумие не физиологическое, а, по выражению Анны Ахматовой, «гамлетовско-чаадаевское».
Примером такого безумия, как свидетельствовали современники, могла стать, например, возмущенная реакция 34-летнего поэта на пожалование ему звания камер-юнкера в последние декабрьские дни 1833 года: «…Но друзья, Вельегорский и Жуковский, должны были обливать холодною водою нового камер-юнкера: до того он был взволнован этим пожалованием! Если б не они, он, будучи вне себя, разгоревшись, с пылающим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю»[137]137
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.: В 2-х т. М.: Художественная литература, 1974. Т. 2. С. 192.
[Закрыть].
Вероятность оказаться в сумасшедшем доме за независимость поведения упоминается и в письме Жуковского от 6 июля 1834 года, вызванном историей с отставкой Пушкина: «Я, право, не понимаю, что с тобою сделалось; ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение» (ХV, 185).
Ситуация действительно была очень серьезной: 25 июня Пушкин в письме Бенкендорфу, ссылаясь на семейные обстоятельства, просил разрешить ему оставить отягощавшую его службу при дворе, где он вынужден был находиться в качестве камер-юнкера. Просьба Пушкина вызвала неудовольствие Николая I, что могло быть чревато непредсказуемыми последствиями.
Нетрудно догадаться, что и в ноябре 1833 года, в пору создания стихотворения, у Пушкина возникали такие же поводы «сойти с ума», например, в связи с особым вниманием императора к Наталье Николаевне, что и стало причиной присвоения поэту месяцем спустя звания камер-юнкера. Так, те же П. В. и В. А. Нащокины рассказывали П. И. Бартеневу, имея в виду это время, что, по словам Пушкина, царь, «как офицеришка, ухаживает за его женою; нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах, спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены»[138]138
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 194.
[Закрыть].
Нельзя не отметить в стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума…» и определенного сгущения красок в том, что касается содержания сумасшедшего: цепь, решетка, «визг и звон оков». Пушкин знал достаточно примеров в своем кругу, когда пораженные этим недугом дворяне содержались дома, под присмотром близких: поэт Батюшков, Николай Афанасьевич Гончаров, отец Натальи Николаевны, тот же Дмитриев– Мамонов. Да и в доме родителей Пушкина некоторое время жила его сумасшедшая двоюродная или троюродная сестра, которая содержалась в отдельной комнате, но не была лишена общения с родственниками, в частности с самим Пушкиным.
Почему же для себя он нарисовал столь страшную картину, где заключительные строки ассоциируются скорее с тюремным казематом, нежели с лечебницей?
Кроме того, имеются сведения, что стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума…» имело продолжение, впоследствии отброшенное Пушкиным и не дошедшее до нас…
Первоначальное (после возвращения из Михайловской ссылки) обольщение Николаем I прошло, но оставалась в силе сформулированная Пушкиным для себя в письме Жуковскому от 7 марта 1826 года линия поведения: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (XIII, 265–266).
Иногда, правда с трудом, удавалось выдерживать эту линию, и тогда случались кризисные моменты (как после присвоения звания камер-юнкера или как после заявления об отставке со службы), но Пушкин твердо помнил о том, что открыто противоречить общепринятому порядку в современной ему России равносильно безумию, как это было и в не столь отдаленные времена Екатерины II.
В статье 1836 года «Александр Радищев» именно так охарактеризовал Пушкин поведение Радищева: «Если мысленно перенесемся мы к 1791 году <…> если представим себе силу нашего правительства, наши законы, не изменившиеся со времен Петра I-го <…>, если подумаем, какие суровые люди окружали еще престол Екатерины, – то преступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего» (ХII, 32).
Политически мотивированное сумасшествие находим мы и в «Медном Всаднике» (1833), кстати, в таком плане поэма уже не раз рассматривалась.
Евгений в поэме – представитель того обедневшего дворянства, к слою которого принадлежал сам автор и о судьбе которого так много писал и размышлял. Имя Евгения незнаменито, но:
…в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданиях звучало.
То же Пушкин мог сказать и о себе. Поэтому в «Медном Всаднике» он осмысляет свою собственную судьбу в контексте судьбы русского дворянства, в контексте истории России.
То, что может быть отнесено нами сегодня к разряду проблем социологических или исторических, Пушкиным еще воспринималось как вопрос текущей политики.
В конспективных заметках «О дворянстве», писавшихся в 1830–1835 годы, Пушкин приходит к неутешительным выводам: «Петр. Уничтожение дворянства чинами. Майоратства – уничтоженные плутовством Анны Ивановны. Падение постепенное дворянства; что из этого следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.» (XII, 206).
Эти же утверждения находим в дневниковой записи разговора с великим князем Михаилом Павловичем от 22 декабря 1834 года: «…что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» (ХII, 335).
Весьма любопытную характеристику поэме с большевистской откровенностью дал в начале тридцатых годов ХХ века нарком советской культуры А. В. Луначарский:
«Он (Пушкин. – В. Е.) поднимается, в сущности, до гегелевской постановки вопроса, хотя он вряд ли имел о ней хоть какое-нибудь представление… Великий конфликт двух начал, который чувствовался во всей русской действительности, Пушкин брал для себя, для собственного своего успокоения, как конфликт организующей общественности и индивидуалистического анархизма.
Помимо изумительных красот этой поэмы с точки зрения живописной и музыкальной, она остается живой и потому, что стоит только подставить подлинные величины под пушкинские мнимые – и вся его формула станет правильной».
И далее Луначарский применительно к условиям своего времени с беспощадной прямотой подставляет эти «подлинные величины» на место «мнимых»:
«И когда теперь те или другие “Евгении” противопоставляют вопросы своей личной судьбы интересам текущего дня, отстаивают свою свободу, как право толкать на другие пути и дезорганизовывать генеральную линию, то они точнехонько подпадают под характеристику безумцев, стремящихся остановить, говоря по-гегельски, “Дух Времени”, который зашагал теперь так энергично, как никогда еще не шагал»[139]139
Луначарский А. В. Александр Сергеевич Пушкин // Полн. собр. соч.: В 6 т. М., Л.: Госиздат, 1931. Т. 1. С. 39–41.
[Закрыть].
Луначарский трактует безумие Евгения с политической точки зрения, и поэтому не удивительно, что в Советском государстве любое сознательное отклонение от «генеральной линии» воспринималось в качестве отклонения психического. Этим и обосновывалось распространение карательной психиатрии в Советском Союзе в 60–80-е годы прошлого века, когда политические убийства и расстрелы, осуществлявшиеся Сталиным на предыдущем этапе как метод борьбы с инакомыслием, власть старалась не использовать.
Политический подтекст «Медного Всадника» не утратил своей актуальности до нынешнего дня. Ведь поставленный Пушкиным вопрос о противостоянии личности и общества в сегодняшней России так и остается далеким от разрешения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































