Текст книги "Орландо"
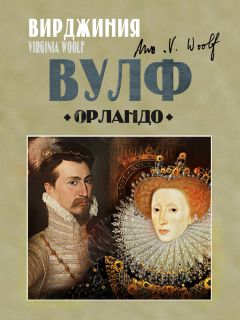
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Наконец она подъехала к универмагу «Маршал-энд-Снэлгроув» и вошла внутрь, в полумрак и благоухание. Настоящее слетело с Орландо, словно обжигающие капли воды. Свет мерцал, поднимаясь и опадая, словно тонкие занавески на летнем ветерке. Она достала из сумочки список и начала читать странным, напряженным голосом, будто удерживая слова – ботинки на мальчика, соль для ванны, сардины – под спудом разноцветной воды из-под крана. Под лучами света они менялись. Ванна и ботинки затупились, лишившись углов, сардины заострились как пила. Так она и стояла на первом этаже универмага господ Маршала и Снэлгроува, озираясь по сторонам, вдыхая то один запах, то другой, и теряла секунды впустую. Потом вошла в лифт, поскольку дверь была открыта, и плавно поехала вверх. Теперь сама ткань жизни, думала она, преисполнилась волшебства. В восемнадцатом веке мы знали, как все устроено, теперь же я возношусь в воздух, слушаю голоса из Америки, вижу, как люди летают, но даже не представляю, как все устроено. И вера в волшебство возвращается. Лифт дернулся, остановился на втором этаже, и ей привиделись бесчисленные цветные ткани, реющие на ветру, от которых исходили отчетливые, странные запахи, и каждый раз, когда лифт останавливался и распахивал двери, ей открывался другой кусочек мира со всеми прилагающимися к нему запахами. Орландо вспомнила реку возле Уоппинга во времена Елизаветы, где бросали якорь пиратские и торговые корабли. Как богато и необычно там пахло! Как хорошо ей помнилась шероховатость рубинов, когда она пропускала их сквозь пальцы, сунув руку в мешок с сокровищами! А потом они лежали с Сьюки – или как там ее звали – и нагрянул Камберленд с фонарем! У Камберлендов теперь дом на Портленд-плейс, и на днях она обедала у них и рискнула пошутить насчет богаделен на Шин-роуд. Старик ей подмигнул. И вот уже лифт добрался до самого верха, придется выходить – бог весть в какой ей нужно «отдел», как они это называют. Орландо остановилась, чтобы свериться с листом покупок, но так и не сподобилась найти, как велел список, ни соль для ванны, ни ботинки на мальчика. И так бы и вернулась в лифт, ничего не купив, однако счастливо избежала подобной опрометчивости, машинально произнеся вслух последний пункт списка, которым оказались «простыни на двуспальную кровать».
– Простыни на двуспальную кровать, – сказала она мужчине за прилавком, и, по воле Провидения, именно их он и продавал. Поскольку Гримсдитч – нет, Гримсдитч умерла, Бартоломью – нет, Бартоломью умерла, тогда Луиза – Луиза на днях примчалась к ней в полном смятении, обнаружив прореху в простыне на королевском ложе. Там спали многие короли и королевы – Елизавета, Яков, Карл, Виктория, Эдуард, поэтому неудивительно, что простыня прохудилась. Однако Луиза была уверена, что знает, кого винить: принца-консорта!
«Грязный фриц!» – воскликнула она (снова была война, на этот раз с Германией).
– Простыни для двуспальной кровати, – рассеянно повторила Орландо, для двуспальной кровати с серебряным покрывалом, в комнате, обставленной со вкусом, который теперь казался ей немного вульгарным: все в серебре, но в те времена серебро ей чрезвычайно нравилось. Пока мужчина ходил за простынями, она вынула из сумочки зеркальце и пуховку. Женщины стали гораздо раскованней, подумала она, небрежно обновляя макияж, чем в те дни, когда она стала женщиной и лежала на палубе «Влюбленной леди». Придав носику нужный оттенок, она убрала зеркальце. Щеки она не трогала никогда. Честно говоря, в свои тридцать шесть Орландо едва ли выглядела старше. Все такая же – с пухлыми губками, сердитая, красивая, цветущая (словно Рождественская елка в тысячу свечей, говорила Саша), как в тот день, когда Темза замерзла и они удрали кататься на коньках…
– Лучший ирландский лен, мэм, – объявил продавец, расстилая простыни на прилавке.
…И они встретили старушку, собиравшую хворост. Пока Орландо рассеянно перебирала белье, створка двери между отделами распахнулась и впустила, наверное, из отдела галантерейных товаров, дуновение с нотками воска, как от розовой свечи, и аромат закрутился, словно раковина, вокруг фигуры – юноши или девушки? – юной, стройной, соблазнительной – девушка, ей-богу! – укутанной в меха, в жемчугах, в русских шароварах, но ведь она обманщица, неверная обманщица!
– Обманщица! – вскричала Орландо (мужчина ушел), и магазин заполнился желтой водой, вдалеке мелькнули мачты русского корабля, уходящего в море, и тогда чудесным образом (вероятно, дверь снова открылась) раковина, которую создал аромат, превратилась в платформу, в помост, и с него сошла тучная женщина в мехах, удивительно хорошо сохранившаяся, соблазнительная, в диадеме, любовница великого князя – та, что поедала на палубе сэндвичи и, перегнувшись через борт, наблюдала, как в волнах Волги тонут люди – и двинулась ей навстречу.
– Ах, Саша! – вскричала Орландо. Ее в самом деле поразило, что так и вышло – Саша расплылась, осоловела, и она склонилась над прилавком с бельем, чтобы не видеть, как за спиной проходит призрак седовласой женщины в мехах и девушки в русских шароварах, вкупе со всеми запахами восковых свечей, белых цветов и старых кораблей.
– Предложить вам салфетки, полотенца, пыльники, мэм? – наседал продавец.
И лишь благодаря списку покупок, с которым сверилась Орландо, она смогла с величайшим самообладанием ответить, что единственное, чего ей недостает в этой жизни, – соль для ванн, которая продается в другом отделе.
Спускаясь на лифте – таково коварное повторение любого эпизода, – она вновь выскользнула за пределы настоящего момента, и когда лифт стукнулся о землю, ей послышалось, что о берег реки разбивается кувшин. Позабыв про поиски нужного отдела, она стояла среди сумочек, как зачарованная, глухая к предложениям любезных, одетых в черное, прилизанных, бойких приказчиков, которые несомненно прибыли, причем иные с неменьшей гордостью, чем она, из глубин прошлого, однако предпочли укрыться за непроницаемой ширмой настоящего момента и теперь выглядели типичными приказчиками из «Маршалл-энд-Снэлгроув». Орландо застыла в нерешительности. Сквозь огромные стеклянные двери виднелся поток транспорта на Оксфорд-стрит. Омнибусы наседали друг на друга, затем вновь разъезжались. Словно ледяные глыбы на Темзе в тот самый день. На одной из них сидел верхом старик-пэр в меховых тапочках. Так и пошел на дно – он стоял перед глазами, как живой, – призывая проклятия на головы ирландских мятежников. Утонул там, где сейчас стояла ее машина.
«Время надо мной не властно, – думала Орландо, пытаясь взять себя в руки, – я словно застыла посередине. До чего же странно! Вещи уже не могут быть чем-то одним. Беру в руки сумочку и вспоминаю старую торговку яблоками, вмерзшую в лед. Кто-то зажигает розовую свечу, и я вижу девушку в русских шароварах. Выхожу на улицу, вот как сейчас – и она ступила на тротуар Оксфорд-стрит – и что за вкус ощущаю? Вкус травы. Слышу козьи колокольчики. Вижу горы. Турция? Индия? Персия?»
Глаза ее наполнились слезами.
Видя, как Орландо собирается сесть в автомобиль – вся в слезах и в грезах о персидских горах – читатель может удивиться, насколько далеко ее унесло от настоящего момента. И в самом деле, нельзя отрицать, что наиболее успешные приверженцы искусства жить, кстати, часто люди никому не известные, умудряются совмещать шестьдесят или даже семьдесят разных времен, которые сосуществуют в каждом нормальном человеческом организме, и когда часы бьют одиннадцать, все времена вторят в унисон, и при этом настоящее никуда не врывается, круша все на своем пути, и не теряется в прошлом без следа. Наверняка про них можно сказать только одно: они прожили ровно шестьдесят восемь или семьдесят два года, как написано на могильной плите. Об остальных мы знаем, что они мертвы, хотя и бродят среди нас, некоторые еще не родились, хотя и проходят через разные стадии жизни; другим – сотни лет, хотя они считают, что им только тридцать шесть. Реальная продолжительность жизни человека, что бы там ни утверждал «Национальный биографический словарь», всегда вопрос спорный. Ибо вести отсчет времени – дело трудное, и соприкосновение с любым видом искусства его тут же нарушает; вероятно, именно любовь Орландо к поэзии заставила ее позабыть про список и отправиться домой без сардин, соли для ванны или ботинок. И вот она стоит, взявшись за ручку дверцы своей машины, и настоящее бьет ее по голове. Оно наносит одиннадцать жестоких ударов.
– Будь ты неладно! – восклицает Орландо, ибо для нервной системы это огромный стресс – слышать, как бьют часы, и пока нам больше нечего о ней сказать, разве что можно отметить, что она слегка нахмурилась, мастерски переключила передачу и вновь резко выпалила, как раньше: «Смотри, куда идешь!», «Ну же, или туда, или сюда!», «Так бы и сказал!», пока автомобиль мчится, лавирует, втискивается и скользит по Риджент-стрит, по Хэймаркету, по Нортумберленд-авеню, через Вестминстерский мост, то влево, то вправо, то снова прямо…
В четверг, одиннадцатого октября тысяча девятьсот двадцать восьмого года, Олд-Кент-роуд была очень загружена. Люди не помещались на тротуаре. Женщины несли полные сумки. Дети выбегали на дорогу. В магазинах тканей шли распродажи. Улицы расширялись и сужались. Длинные перспективы городского ландшафта неуклонно сжимались. Там – рынок. Там – похороны. Там – процессия с транспарантами, на которых виднелись буквы: «Ра – Со» и что-то еще. Мясо выглядело очень красным. Мясники стояли в дверях лавок. Женщины сбивали каблуки. «Амор Вин» – вывеска над крыльцом. Женщина смотрела из окна спальни, очень задумчивая и неподвижная. «Эпплджон» и «Эпплбед», «Андерт»… Ничего не разобрать или не прочесть от начала до конца. Любой эпизод – двое друзей идут навстречу друг другу через улицу – обрывался. Через двадцать минут ее тело и разум превратились в клочья рваной бумаги, сыпящиеся из мешка, и в самом деле, быстрая езда на автомобиле по Лондону настолько напоминает расщепление личности, которое предшествует забытью и даже смерти, что вопрос о том, существовала ли наша героиня в настоящем моменте или нет, остается открытым. В самом деле, речь могла бы зайти о полном распаде личности Орландо, если бы наконец справа не появилась зеленая завеса, и клочья бумаги посыпались медленнее, затем такая же завеса возникла слева, и стали различимы отдельные обрывки, кружащиеся в воздухе, а потом зеленые завесы потянулись по обе стороны дороги, и разум вновь обрел иллюзию целостности, и она увидела сельский домик, ферму и четырех коров – все в натуральную величину.
Орландо вздохнула с облегчением, зажгла папиросу и молча курила минуту или две. Затем нерешительно окликнула, словно той, кого звала, могло здесь и не быть: «Орландо?» Ведь если существует семьдесят шесть различных времен, которые тикают в сознании одновременно, то сколько разных людей – да помогут нам небеса! – уживаются в тот или иной момент в душе человека? Некоторые утверждают, что две тысячи и пятьдесят два. Так что вполне обычное дело, если человек окликнет, оставшись в одиночестве: «Орландо?» (или любое другое имя), подразумевая тем самым: ну же, иди сюда! Мне до смерти надоело это мое «я». Хочу другое. Отсюда те удивительные перемены, кои мы наблюдаем в своих друзьях. Однако пускаться в подобное плавание отнюдь не просто, иначе мы могли бы, как Орландо, позвать (выехав из города и, вероятно, нуждаясь в другой личности): Орландо? И все же Орландо может не прийти, ведь эти «я», из которых мы сложены, громоздятся одно поверх другого, как стопка тарелок в руке официанта, имеют свои привязанности, пристрастия, маленькие уставы и права, называйте их как угодно (и для многих подобных вещей названий просто нет), поэтому одно появляется, когда идет дождь, другое приходит в комнату с зелеными шторами, третье – в отсутствие миссис Джонс, четвертое – если пообещать ему бокал вина и так далее; ибо каждый может продолжить, основываясь на собственном опыте, список условий, выставленных ему различными «я», – и иные из них слишком дики и нелепы, чтобы упоминаться в печати.
Итак, на повороте возле сарая Орландо окликнула: «Орландо?» с вопросительной ноткой в голосе и подождала. Орландо не пришла.
– Ну и ладно, – добродушно сказала Орландо, как и приличествует в подобных ситуациях, и попробовала позвать другое «я». Ибо личностей, к которым она могла обратиться, у нее имелось великое множество – гораздо больше, чем найдется для них места в нашей биографии, вмещающей не больше шести-семи, в то время как у человека бывает и тысяча. Таким образом, выбирая только из тех, для кого у нас нашлось место, Орландо могла бы позвать юношу, который отрубает голову негру, юношу, который вешает ее обратно, юношу, который сидит на холме, юношу, который видел поэта, юношу, который вручил королеве чашу с розовой водой, или она могла бы позвать молодого человека, который влюбился в Сашу, или придворного, или посла, или воина, или путешественника, или она могла бы позвать женщину – цыганку, светскую леди, затворницу, девушку, влюбленную в жизнь, Покровительницу литературы, женщину, которая зовет Мара (подразумевая горячие ванны и вечер у камина), или Шелмердина (подразумевая крокусы в осеннем лесу), или Бонтропа (подразумевая смерть, которой мы умираем ежедневно), или все три сразу, подразумевая столько разных вещей, что записать их не хватит места, – и все эти «я» были разные, и она могла позвать любое из них.
Возможно, но сейчас кажется несомненным (мы вступаем в область того, что «возможно» и «кажется») только одно: именно то «я», в котором она нуждалась больше всего, держалось поодаль, ведь, судя по разговору, она меняла личности так же быстро, как вела машину – новое «я» встречало ее на каждом углу – как случается, если по непонятной причине сознательное «я», то есть самое главное и имеющее право желать, хочет быть только собой и никем иным. Иные называют его «истинным я», и, как говорят, оно представляет собой совокупность всех прочих «я», оно – Капитан, Ключ, который объединяет и контролирует их все. Несомненно, Орландо искала именно его, как читатель может заключить, подслушав ее разговор в дороге (и если тот кажется бессвязным, сбивчивым, заурядным, скучным и порой бестолковым, то виноват сам читатель, ибо нечего подслушивать леди, мы же всего лишь приводим дословно сказанное ею, в скобках замечая, какое именно «я» говорит, хотя вполне можем ошибаться).
– И что тогда? И кто тогда? – спросила она. Тридцать шесть лет, за рулем автомобиля, женщина. Да, но в то же время миллион других вещей. Сноб? Орден Подвязки в холле? Леопарды? Мои предки? Горжусь ли я ими? Да! Жадная, расточительная, порочная? Неужели? (Появляется новое «я».) Плевать, кто я. Правдивая? Пожалуй. Щедрая? О, это же не считается (входит новое «я»). Валяться утром в кровати на тончайших простынях, слушать голубей, серебряная посуда, вино, горничные, лакеи. Избалованная? Пожалуй. Суета сует! Отсюда и мои книги (здесь она упоминает пару-тройку классических названий, как нам кажется, ранних романтических произведений, которые она порвала). Непринужденная, бойкая на язык, романтичная. Но (входит другое «я») никчемная, неуклюжая недотепа! И… и… (здесь она колеблется, подбирая нужное слово, и если мы предложим «любовь», то можем ошибиться, хотя Орландо хохочет и краснеет, потом восклицает:) Жаба в изумрудах! Эрцгерцог Гарри! Навозные мухи на потолке! (Здесь входит другое «я».) А как же Нелл, Китти, Саша? (Погружается в уныние, на глаза наворачиваются слезы, хотя плакать она давно перестала.) Деревья, – сказала она. (Входит другое «я».) – Я люблю деревья (проезжает мимо купы деревьев), растущие здесь тысячу лет. И сараи (проезжает ветхий сарай на обочине.) И пастушьих собак (через дорогу трусит овчарка, Орландо осторожно ее пропускает). И ночь. А вот люди (входит другое «я») … Люди? (Повторяет как вопрос.) Не знаю. Болтливые, злобные, лживые. (Сворачивает на главную улицу родного городка, там людно – рыночный день, всюду фермеры, пастухи, старухи с курами в корзинках.) Я люблю крестьян. Разбираюсь в зерновых культурах. Но (на вершину ее сознания, словно луч маяка, падает другое «я»). Слава! (Смеется.) Известность! Семь переизданий. Премия. Фотографии в вечерних газетах (здесь она имеет в виду поэму «Дуб» и полученную премию баронессы Бердет-Кутс, и мы урвем кусочек места, чтобы отметить, насколько обескураживает биографа эта кульминация, к которой стремилась вся книга, эффектная концовка, которой книга должна завершиться, – от нас просто отделались походя, со смешком, но, сказать по правде, если пишешь про женщину, то все идет не по плану – кульминации и эффектные концовки – никогда не удается поставить акцент там, где нужно, в отличие от книг про мужчин). Слава! – повторила она. – Поэт – шарлатан, и то, и другое одновременно, с завидной регулярностью, как утренняя почта. Ужин, встреча, встреча, ужин, слава – слава! (Ей пришлось сбавить скорость, проезжая через рыночную толпу. Никто ее даже не заметил. Морская свинья в рыбной лавке и та привлекла бы больше внимания, чем леди, которая получила литературную премию и может, если пожелает, носить целых три венца сразу.) Ведя машину очень медленно, она напевала на манер старой песенки: «На свои гинеи я куплю, я куплю, я куплю цветущие деревья, среди цветущих деревьев я пойду, я пойду, я пойду и сыновьям расскажу, расскажу, расскажу, что такое слава». – Так она напевала, и вот слова начали провисать, как тяжелые дикарские бусы. – Среди цветущих деревьев гулять я пойду, – пела она с выражением, – и стану смотреть на луну… – тут она резко затормозила и уставилась на капот в глубоком раздумье.
– Он сидел за столом Твитчет, – задумчиво проговорила Орландо, – в грязной фрезе… То ли мистер Бейкер зашел померить брус, то ли Ш – п–р? (Ибо если мы называем имена тех, кого глубоко почитаем, то не произносим их полностью.)
Десять минут она смотрела прямо перед собой, почти позволив машине остановиться.
– Одержимая! – вскричала Орландо, резко выжимая газ. – Одержимая! С самого детства. Вон летит дикая гусыня! Она пролетает мимо окна в сторону моря. И я прыгаю, – (она крепче вцепилась в рулевое колесо), – и тянусь за ней. Но гусыня летит слишком быстро. Я видела ее здесь – и там, и там – в Англии, Персии, Италии. Вечно она летит к морю, и я бросаю ей вслед слова, – (она взмахнула рукой), – и толку от них не больше, чем от сетей, вытащенных на палубу, – одни водоросли и иной раз на дюйм серебра – всего шесть слов – на дне сети. И никогда не попадается в них огромная рыба, что живет в коралловых рощах.
Она склонила голову, глубоко задумавшись.
Именно в тот миг, когда она перестала звать Орландо и погрузилась в размышления о чем-то другом, сама собою явилась Орландо, которую она звала, что доказывает произошедшая с ней перемена (она въехала в ворота поместья и углубилась в парк).
Она помрачнела и осела, словно под действием амальгамы, которая делает поверхность непроницаемой, и плоское обретает глубину, близкое становится далеким, и все замыкается, как вода в стенках колодца. Итак, она помрачнела, осела и стала тем, что называют, справедливо это или нет, единым «я», настоящим «я». И умолкла. Ибо вполне вероятно, что люди разговаривают вслух сами с собой (которых может быть более двух тысяч), осознавая внутренний разлад, и пытаются общаться, но стоит общению наладиться, как они умолкают.
Уверенно и проворно она проехала по извилистой аллее меж вязами и дубами по пологому дерну парка, опускавшемуся столь же плавно, как вода накрывает берег зеленой волной. Кое-где росли степенные купы буков и дубов. Среди деревьев показался олень белый как снег, другой – со склоненной набок головой, потому что рогами запутался в проволочной сетке. Все это – деревья, олени, дерн – Орландо наблюдала с величайшим удовлетворением, будто сознание ее превратилось в жидкость, которая обтекала предметы и над ними смыкалась. И вот она въехала во двор, куда возвращалась столько сотен лет, верхом на лошади или в карете, запряженной шестеркой, в сопровождении свиты или без, и реяли плюмажи, горели факелы, и цветущие деревья, теперь ронявшие листву, осыпали ее лепестками. Сейчас она была одна. Падали осенние листья. Привратник открыл ворота.
– С добрым утром, Джеймс, – сказала она. – Не заберешь ли вещи из машины?
Слова, которые сами по себе не несут ни красоты, ни интереса или важности, сейчас наполнены таким глубоким смыслом, что падают, словно спелые орехи с дерева, и доказывают: если сморщенная кожура обыденности наполняется смыслом, то чрезвычайно приятна для органов чувств. Теперь это относилось к каждому движению и действию, пусть и обыденным, поэтому увидев, как Орландо сменяет юбку на габардиновые бриджи и кожаную куртку, что заняло у нее меньше трех минут, можно было бы восхититься красотой ее движений, как если бы мадам Лопокова танцевала балет. Затем она вошла в столовую, где со стен чопорно взирали ее старые друзья Драйден, Поуп, Свифт, Аддисон, словно ожидая, что она воскликнет: «Угадайте, кому вручили премию!», но когда узнали, что речь идет о двухстах гинеях, то одобрительно покивали. Такой суммой, казалось, говорят они, пренебрегать не стоит. Она отрезала себе кусок хлеба и ветчины, сложила их вместе и начала есть на ходу, мигом растеряв все светские манеры. Сделав пять или шесть кругов по комнате, Орландо залпом выпила бокал красного испанского вина, налила еще и зашагала по длинному коридору, потом прошла через дюжину гостиных и начала прогулку по дому в сопровождении тех элкхундов и спаниелей, которые соизволили к ней присоединиться.
Все это входило в распорядок дня. Вернуться и не пройтись по дому было равносильно тому, чтобы не поцеловать родную бабушку по возвращении. Орландо казалось, что в ее отсутствие комнаты дремлют и озаряются при ее появлении, потягиваются, протирают глаза. Еще ей казалось, что в те сотни и тысячи раз, когда она входила, комнаты всегда выглядят по-разному, ибо за долгую жизнь в них накопились мириады настроений, которые меняются в зависимости от времени года, от погоды, от перипетий ее собственной судьбы и личных качеств тех, кто приходит к ней в гости. С чужаками они всегда держались учтиво, хотя и немного с опаской; с ней всегда вели себя открыто и непринужденно. Почему бы и нет? Ведь они знакомы почти четыре сотни лет. Скрывать им было нечего. Она знала их печали и радости. Знала их возраст и маленькие секреты – потайные ящики, шкафы или какие-нибудь изъяны вроде деталей, которые заменили или добавили позже. От них она тоже ничего не скрывала, приходила к ним и юношей, и женщиной, плача и танцуя, в глубокой задумчивости и смеясь. На этой банкетке у окна написала первые стихи, в той часовне пошла под венец. И похоронят ее тоже здесь, думала Орландо, стоя на коленях на подоконнике в длинной галерее и потягивая испанское вино. Хотя она с трудом могла представить, как геральдический леопард будет отбрасывать лужицы желтого цвета в тот день, когда ее опустят в склеп и упокоят среди предков. Ни в какое бессмертие Орландо не верила и все же не могла отделаться от ощущения, что душа ее будет ходить взад-вперед среди красных лучей на панелях и зеленых на диванах. Ведь комната – она зашла в спальню посла – сияла, словно ракушка, пролежавшая на дне моря многие века, и вода покрыла ее налетом и раскрасила в миллион оттенков – розовый и желтый, зеленый и песчаный. Спальня была хрупкая, словно ракушка, такая же радужная и пустая. Не спать в ней больше послу. Да, но зато Орландо знала, где бьется сердце дома. Бережно приоткрыв дверь, остановилась на пороге, чтобы (так ей нравилось думать) комната ее не заметила, и смотрела, как вздымается и опадает гобелен на вечном сквозняке. Охотники все скачут, Дафна все бежит. Сердце дома бьется, подумала Орландо, пусть слабо, пусть далеко, хрупкое сердце огромного особняка.
Окликнув свою свору, она прошла по галерее, где пол устилали цельные спилы огромных дубовых стволов. Вдоль стены тянулись ряды кресел с выцветшей бархатной обивкой, протягивая ручки к Елизавете, Якову, возможно, к Шекспиру и Сесилу, которые уже не придут. При виде этого зрелища Орландо помрачнела. Сняв с крючка ограждающую веревку, она уселась в королевское кресло, открыла рукописную книгу на столе леди Бетти, поворошила пальцами древние розовые лепестки, расчесала волосы серебряной щеткой короля Якова, попрыгала на кровати (ни одному королю в ней уже не спать, несмотря на новые простыни Луизы) и прижалась щекой к потертому серебряному покрывалу. Повсюду виднелись лавандовые саше от моли и отпечатанные таблички: «Руками не трогать», которые, хотя Орландо расставила их собственноручно, смотрели на нее с укором. Дом больше не принадлежит мне целиком, вздохнула она. Теперь дом принадлежит истории и неподвластен живым. Больше никто не прольет здесь пиво, думала она (Орландо вошла в спальню, где раньше гостил Ник Грин), не прожжет ковер. Больше никогда две сотни слуг не побегут по коридорам шумною гурьбой с грелками и поленьями для огромных каминов. Больше никогда в мастерских снаружи особняка не сварят эль, не отольют свечей, не изготовят седел, не обточат камень. Молоты и молотки умолкли навсегда. Кресла и кровати опустели, серебряные пивные кружки и золотые кубки заперты в стеклянных шкафчиках. Громадными крыльями бьет тишина, поселившаяся в пустом доме.
Так она и сидела в конце галереи в окружении собак, на жестком кресле королевы Елизаветы. Галерея простиралась столь далеко, что свет в конце почти мерк. Словно туннель, ведущий в глубокое прошлое. Вглядываясь в даль, Орландо видела, как смеются и разговаривают люди – великие люди, которых ей довелось узнать (Драйден, Свифт и Поуп), как ведут беседы государственные мужи, как любовники забавляются на подоконниках, как гости едят и пьют, сидя за длинными столами, а вокруг вьется дым от каминов, заставляя их чихать и кашлять. Еще дальше она увидела ряды великолепных танцоров, выстроившихся для кадрили. Заиграла мелодичная, хрупкая и все же величественная музыка. Грянул орган. В часовню вносили гроб. Из часовни выходила свадебная процессия. Воины в шлемах отбывали на войну, возвращались из Флодена и Пуатье со стягами, вешали их по стенам. Так длинная галерея наполнялась, и в глубине, в самом конце, за елизаветинцами и Тюдорами Орландо мерещилась гораздо более старая, далекая, темная, фигура в капюшоне, в монашеской рясе, которая брела с книгой в руках, бормоча…
Громовым раскатом грянули часы, пробив четыре раза. Никогда еще ни одно землетрясение не сокрушало столь стремительно целый город. Галерея со всеми ее обитателями рассыпались в прах. Лицо Орландо, темное и суровое, когда она смотрела, озарилось словно от порохового взрыва. В этом свете все вокруг проступило с предельной четкостью. Она увидела двух кружащихся мух, блеснувших синим, увидела след сучка на древесине под ногами и заметила, как дергается ухо собаки. В то же самое время услышала, как в саду скрипит ветка, как в парке кашляет овца, как мимо окна с криком пронесся стриж. Ее била дрожь, все тело жгло, словно вышла голой на мороз. И все же она сохраняла, что ей не удалось сделать в Лондоне, когда часы пробили десять, полное самообладание (теперь она стала единой и цельной и, пожалуй, поверхность для ударов времени увеличилась). Она поднялась без лишней спешки, окликнула собак и решительно, но осторожно спустилась по лестнице и вышла в сад. Тени растений обрели поразительно четкие контуры. Она замечала отдельные крупицы земли на клумбах, словно к глазу приставлен микроскоп. Видела переплетение ветвей каждого дерева, различала каждую травинку, все прожилки и лепестки на цветах. По дорожке шел Стабс, садовник, и Орландо видела каждую пуговку на его гетрах, видела Бетти с Принцем, ломовых лошадей, и звездочка на лбу Бетти белела ярко, как никогда, а у Принца три волоса в хвосте свисали ниже остальных. Старые серые стены дома в четырехугольном внутреннем дворе выглядели, словно на новенькой фотографии, из репродуктора на террасе лилась танцевальная мелодия, которую слушали люди в Венской опере, сидя в красных бархатных креслах. Связанная настоящим моментом Орландо почему-то опасалась, что всякий раз, когда пропасть времени расступается и поглощает секунду, там может таиться неизвестная угроза. Столь острое напряжение казалось почти невыносимым. Она миновала сад и вышла в парк быстрее, чем хотела, словно ноги двигались сами. Возле столярной мастерской Орландо с огромным усилием заставила себя остановиться и посмотреть, как Джо Стабс мастерит колесо для телеги. Она стояла, не шелохнувшись, не отрывая глаз от его руки, и вдруг пробило четверть. Бой часов пронзил ее, словно метеор – такой горячий, что в пальцах не удержишь. Она с отвращением увидела, что у Джо не хватает ногтя на большом пальце правой руки – вместо него розовела голая плоть. Зрелище показалось ей настолько омерзительным, что она едва не лишилась чувств, зато в момент помрачения сознания, когда веки мигнули, наконец избавилась от бремени настоящего. Что-то странное есть в тени, которая возникает, стоит глазам моргнуть, что-то (в чем может убедиться любой, посмотрев в небо), вечно бегущее от настоящего момента – ужасное, неописуемое – и мы страшимся пригвоздить его к телу и назвать красотой, ибо у него нет тела, лишь тень без всякого содержимого, тем не менее обладающая силой видоизменять все, к чему прикоснется. И эта тень, пока Орландо в полуобморочном состоянии смеживала веки, стоя возле столярной мастерской, выбралась наружу и, соединившись с бесчисленными образами ее зрительного восприятия, составила из них нечто приемлемое, постижимое. Разум начал покачиваться, словно на волнах.
– Да, – подумала Орландо, вздохнув с глубоким облегчением и направляясь в сторону холма, – я начинаю жить заново. Я возле моего Серпентина, – подумала она, – игрушечный кораблик, пробирается сквозь пенистую арку тысячи смертей. Я вот-вот пойму…
Эти слова она произнесла вполне отчетливо, но мы не вправе умолчать о том, что теперь она стала весьма равнодушным свидетелем и легко могла перепутать овцу с коровой или старика Смита с Джонсом, хотя те даже не родственники. Ибо обморочная тень, которую палец без ногтя вызвал к жизни, сгустилась в затылочной доле ее мозга (самой далекой от органов зрения) в омут, где во тьме плавает такое, о чем мы даже не догадываемся. Орландо смотрела на этот омут или море, в котором отражается все – иные действительно считают, что наши самые неистовые страсти, искусство и религия, – лишь отражения того, что мы видим в темной впадине на затылке, когда зримый мир на время отступает. Она смотрела долго, пристально, проникновенно, и тропинка среди папоротников, ведущая на вершину холма, стала не совсем тропинкой, а отчасти Серпентином; кусты боярышника частично обратились в леди и джентльменов, сидящих с визитницами и тростями с золотыми набалдашниками; овцы – в высокие дома в Мэйфере; все стало отчасти чем-то другим, словно ее разум – лес с ветвящимися прогалинами; предметы то приближались, то удалялись, то собирались вместе, то расходились, объединяясь в самые причудливые сочетания и союзы в непрерывной игре света и тени. Внезапно Кнуд, элкхунд, погнался за кроликом, и напомнил ей, что сейчас, вероятно, около половины четвертого – на самом деле было без двадцати трех минут шесть, – Орландо совершенно позабыла про время.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































