Текст книги "Орландо"
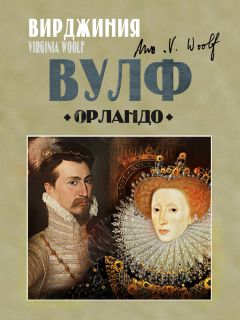
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Однако вскоре он понял, что сражения, которые вели сэр Майлз и остальные с вооруженными рыцарями, сражаясь за королевство, и вполовину не столь изнурительны, как битва с английским языком, в которую вступил он в надежде обрести бессмертие. Любому, хоть немного знакомому со сложностями композиции, подробности вряд ли нужны, ведь он может себе представить, как Орландо писал и ему все нравилось, потом перечитывал и все виделось ему отвратительным, как правил и рвал бумагу в клочья, вырезал, потом добавлял, как впадал то в эйфорию, то в отчаяние, как у него бывали удачные ночи и плохие дни, мысль приходила и ускользала, как ясно он видел перед собой будущую книгу, а потом та исчезала, как разыгрывал роли своих персонажей за трапезой, произносил их речи на ходу, как плакал и смеялся, как колебался, подбирая подходящий слог – то героический и помпезный, то простой и без прикрас, то бросался в долины Темпла, в поля Кента или Корнуолла, и не мог решить, то ли он величайший гений, то ли самый последний дурак на свете.
И вот, после долгих месяцев лихорадочного труда, желая рассеять сомнения, он решил нарушить многолетнее уединение и пообщаться с внешним миром. В Лондоне у него был друг, некий Джайлз Ишем Норфолкский, который, несмотря на благородное происхождение, водился с писателями и несомненно мог свести Орландо с кем-нибудь из этого благословенного, даже священного братства. Ибо теперь для Орландо престиж человека, написавшего и издавшего книгу, с лихвой затмевал славу любых военных и государственных мужей. Ему представлялось, что даже тела носителей божественного откровения претерпевают чудесные метаморфозы: вместо волос у них нимбы, дыхание благоухает фимиамом, меж губ расцветают розы – чего, конечно, нельзя сказать ни о нем самом, ни о мистере Даппере. Он не мог представить себе большего счастья, чем сидеть за кулисами и внимать. При мысли о беседах столь блистательных и разнообразных, Орландо чрезвычайно устыдился низменных тем, которые обсуждал с друзьями-придворными – собаки, лошади, женщины, карты. Он с гордостью вспомнил свое прозвище «грамотей» и насмешки из-за любви к уединению и книгам. Плетение изящных словес ему не давалось, в обществе женщин он стоял столбом, заливался краской и вышагивал по гостиной, как гренадер. По рассеянности дважды падал с лошади, сломал веер леди Уинчилси, сочиняя стишок. Жадно вспоминая эти и другие свидетельства того, что для светской жизни он не создан, Орландо лелеял тайную надежду, что бурная юность, неуклюжесть, стыдливый румянец, долгие прогулки и любовь к сельской местности доказывают: он принадлежит скорее к племени избранных, чем вельмож – он прирожденный писатель, а не аристократ! Впервые с ночи Великого наводнения он был счастлив.
И вот он поручил мистеру Ишему Норфолкскому передать мистеру Николасу Грину, проживавшему в Клиффордс-Инн, послание, в котором Орландо выразил восхищение его произведениями (в те времена Ник Грин считался очень известным сочинителем) и желание познакомиться, на чем не осмеливался настаивать, поскольку ничего не мог предложить взамен, но если мистер Николас Грин соблаговолит приехать, то к его услугам карета с четверкой лошадей, готовая ждать на углу Феттер-Лейн в любой назначенный мистером Грином час, чтобы доставить его в целости и сохранности в поместье Орландо. Дальнейшие фразы читатель может представить и сам, а также вообразить восторг Орландо: мистер Грин приглашение благородного лорда незамедлительно принял, сел в карету и благополучно прибыл, войдя в зал южной части особняка ровно в семь часов в понедельник, двадцать первого апреля.
В этом пиршественном зале принимали многих королей, королев и послов, здесь выступали судьи в горностаевых мантиях. Со всей Англии сюда съезжались самые прекрасные дамы и самые суровые воины. Зал украшали стяги, побывавшие в битвах при Флоддене и Азенкуре, и раскрашенные гербы со львами, леопардами и коронами. На длинных столах сверкала золотая и серебряная посуда, а в огромных каминах итальянского мрамора некогда сжигали за вечер по целому дубу с миллионом листьев, прямо с гнездами грачей и крапивников. Теперь там стоял поэт Николас Грин, одетый весьма просто – в черный камзол и широкополую шляпу, с небольшой сумкой в руке.
Поспешив ему навстречу, Орландо неизбежно испытал легкое разочарование. Ростом поэт был не выше среднего, фигуру имел невзрачную, худощавую и сутулую, вдобавок споткнулся о мастиффа, и тот его укусил. Более того, Орландо, при всем знании человеческой природы, понятия не имел, к какому типу его отнести: обликом Николас Грин не походил ни на слугу, ни на помещика, ни на вельможу. Голова с округлым лбом и хищным носом впечатляла, но подбородок подкачал. Глаза сверкали, но губы висели безвольно и слюнявились. В общем, настораживали не столько черты лица, сколько его выражение. Не было в нем ни того величавого самообладания, благодаря которому так приятно смотреть на лица аристократов, ни преисполненного достоинства подобострастия, как у вышколенной прислуги – лицо, изборожденное морщинами, дряблое, усохшее. Хотя и поэт, он скорее привык осыпать бранью, чем похвалами, пререкаться, чем утешать, ковылять на своих двоих, чем ездить верхом, бороться с трудностями, чем отдыхать, ненавидеть, чем любить. Это проглядывало в его суетливости, в неистовом и недоверчивом взгляде. Орландо даже немного растерялся, и тут подали обед.
И тогда Орландо, привыкший воспринимать свое богатство как должное, впервые ощутил необъяснимый стыд за толпу слуг, прислуживавших за столом, и великолепие убранства. Что еще более странно, он вспомнил с гордостью – сама мысль об этом обычно его угнетала – про свою прапрабабку Молл, которая доила коров. Он уже собрался упомянуть сию скромную женщину с ее подойниками, как поэт его опередил, посетовав, насколько распространена фамилия Грин, ведь его предки высадились вместе с Вильгельмом Завоевателем и принадлежали к высшей французской знати. Увы, положение в обществе они утратили и единственное, чем прославились – нарекли своим именем округ Гринвич. Разговоры подобного толка – об утраченных стадах, гербах, кузенах-баронетах на севере, смешанных браках со знатными семействами на западе и как некоторые Грины пишут свое имя с буквой «е» на конце, а другие без, продолжались до тех пор, пока не подали оленину. И тогда Орландо удалось вставить пару слов про бабушку Молл с ее коровами и немного облегчить душу перед тем, как принесли лесную дичь. Но лишь когда дошло до мальвазии, Орландо осмелился обратиться к теме гораздо более важной, чем Грины или коровы – к священной теме поэзии. В глазах поэта вспыхнул огонь, он мигом растерял манеры джентльмена, стукнул бокалом по столу и разразился самой длинной, путаной, страстной и горькой историей из всех, что доводилось слышать Орландо, кроме как из уст брошенной женщины, – поэт вещал о своей пьесе, о другом поэте и критике. О сущности поэзии Орландо понял лишь, что продавать ее труднее, чем прозу, и, хотя строк меньше, писать их гораздо сложнее. Разговор продолжался бы до бесконечности, не рискни Орландо упомянуть, что и сам осмелился кое-что написать – и тут поэт вскочил со стула. За панелью пискнула мышь, заявил он. По правде сказать, объяснил Грин, нервы так напряжены, что писк мыши выбивает его из равновесия недели на две. Дом наверняка кишит грызунами, просто Орландо их не слышит. Затем поэт подробно рассказал Орландо о своем самочувствии за последние десять лет. Здоровье оказалось таким плохим, что просто странно, как тот дожил до сего дня. Он перенес парез, подагру, лихорадку, водянку и три вида горячки одну за другой, вдобавок ко всему у него увеличены сердце, селезенка и больная печень. Хуже всего, заверил поэт, боли в спине, которые просто не поддаются описанию. Позвонок в верхней трети горит огнем, второй снизу – холоден как лед. Порой он просыпается, и голова налита свинцом, в иной раз в мозгу пылает тысяча восковых свечей и словно шутихи запускают. По его словам, он может почуять лепесток розы под матрасом и ориентироваться в Лондоне с завязанными глазами, узнавая дорогу по булыжникам под ногами. В то же время его организм – аппарат настолько тонкий и совершенный (тут он как бы непроизвольно поднял руку и действительно – та была идеальной формы), что просто уму непостижимо, почему его поэма разошлась всего в пятистах экземплярах, но виной тому, конечно, происки врагов. Все, что он может сказать, заключил Ник Грин, стукнув кулаком по столу, в Англии поэзия мертва!
Как такое возможно, если Шекспир, Марло, Бен Джонсон, Браун, Донн продолжают творить или только что перестали писать, удивился Орландо, перечисляя имена своих кумиров.
Грин сардонически хмыкнул. Шекспир, признал он, написал пару неплохих сценок, хотя и позаимствовал их по большей части у Марло. Надежды тот подавал, но что сказать о мальчишке, который не дожил до тридцати? В свою очередь, Браун пишет стихи в прозе, и публике скоро эти проделки наскучат. Донн – просто шарлатан, облекающий отсутствие смысла в суровые слова. Простаки ведутся, однако через годик подобный стиль наверняка выйдет из моды. Что касается Бена Джонса – Бен Джонс ему друг, а о друзьях он никогда не отзывается худо.
Да, заключил он, эпоха расцвета литературы миновала, кончилась вместе с Древней Грецией, и елизаветинская поэзия уступает греческой во всех отношениях. В античности люди лелеяли божественные устремления, которые сам он называет La Gloire[7]7
Слава (фр.). Произносится «глуар», поэтому Орландо не сразу понял, о чем идет речь.
[Закрыть] (Грин произнес «Глорр», так что Орландо понял его не сразу). Теперь же молодые сочинители – в кабале у книготорговцев и готовы строчить любую дрянь, лишь бы продать. Шекспир виновнее всех и уже за это расплачивается. Их собственная эпоха, по словам Грина, отмечена немереной фанаберией и сумасбродными экспериментами – греки ни на миг не допустили бы ни того, ни другого. Хотя ему очень больно такое говорить – литературу он любит, как жизнь, – в настоящем он не видит ничего хорошего, на будущее даже не надеется. Здесь поэт налил себе еще бокал вина.
Орландо его откровения потрясли, и все же он не мог не заметить, что сам критик не выглядит расстроенным. Совсем напротив, чем больше тот обличал свою эпоху, тем благодушнее становился. Помнится, однажды вечером в таверне «Петух» на Флит-стрит он встретил Кита Марло и кое-кого еще. Кит был в приподнятом настроении и довольно пьян, а напивался он быстро, и настроен на дурашливый лад. Так и стоит у него перед глазами: воздел стакан, икает и говорит: «Чтоб я сдох, Билл! – (Это он Шекспиру.) – Грядет большая волна, и ты – на самом гребне!», под этим он имел в виду, объяснил Грин, что они находятся на грани великой эпохи в английской литературе, и Шекспир станет довольно заметной фигурой. К его счастью, через пару дней Марло погиб в пьяной драке и не дожил до того, чтобы увидеть, как именно исполнится сие пророчество. «Бедный глупец, – вздохнул Грин, – надо же такое сказануть! Поистине великая эпоха… Елизаветинская – и великая!..»
– Посему, дорогой мой лорд, – продолжил поэт, устраиваясь в кресле поудобнее и поигрывая вином в бокале, – мы должны извлечь из нее максимум пользы, бережно относиться к прошлому и почитать тех немногих сочинителей, кто берет за образец античность и пишет не ради денег, а исключительно ради Глорр. – (Орландо желал бы ему лучшего прононса). – Глорр, – продолжал Грин, – вдохновение умов благородных. Имей я небольшой пенсион в три сотни фунтов ежегодно, выплачиваемый ежеквартально, жил бы лишь ради Глорр. По утрам лежал бы в постели и читал Цицерона. Подражал бы его слогу столь искусно, что разницы вы бы и не заметили. Вот что я называю хорошей литературой, – пояснил Грин, – вот что я называю Глорр! Но для этого мне необходим пенсион».
Между тем Орландо оставил всякую надежду обсудить с поэтом собственные сочинения, но разве это имело значение, если беседа переключилась на жизнь и личность Шекспира, Бена Джонса и остальных, кого Грин знал близко и о ком мог рассказать тысячу наизанятнейших историй. Орландо никогда так не смеялся! Значит, вот каковы его кумиры! Половина – пропойцы, и все до единого ловеласы. Многие скандалили со своими женами, никто не брезговал ни ложью, ни самыми мелочными интригами. Стихи они царапали, стоя в дверях типографии, на оборотной стороне счета за стирку, который клали на голову мальчика на побегушках. Так пошел в печать «Гамлет», «Король Лир», «Отелло». Неудивительно, заметил Грин, что в пьесах столько огрехов. Оставшееся время уходило на кутежи и пирушки в тавернах и пивных садах, где сочинители блистали остроумием и проделками, которые даже не снились придворным шалопаям. Все это Грин выкладывал с таким воодушевлением, что привел Орландо в полнейший восторг. Поэт бесподобно пародировал своих собратьев по перу, возвращая их к жизни, и делился интересными замечаниями о книгах при условии, конечно, что те написаны три сотни лет назад.
Время шло, и Орландо испытывал к своему гостю странную смесь симпатии и презрения, восхищения и жалости, а также чувства настолько неопределенного, что его невозможно облечь в слова, чувства с примесью страха и восхищения. Грин говорил о себе без умолку, но оказался таким приятным рассказчиком, что заслушаешься. Еще он был остроумен, дерзок, фривольно отзывался о Господе и женщинах, владел самыми диковинными умениями и навыками, знал множество престранных обычаев и традиций, умел приготовить салат тремя сотнями способов, превосходно разбирался в купажировании вин, играл на полудюжине музыкальных инструментов и первым (а возможно, и последним) додумался жарить сыр в огромном камине итальянского мрамора. При этом не отличал герань от гвоздики, дуб от березы, мастиффа от грейхаунда, ярку от овцы, пшеницу от ячменя, пашню от залежи, не слыхал о севообороте культур, думал, что апельсины растут под землей, а репа – на деревьях, сельскому пейзажу предпочитал городской – все это и многое другое изумляло Орландо, ведь прежде он подобных экземпляров не встречал. Горничные Грина презирали, но хихикали над его шутками, лакеи не выносили Грина на дух и все же околачивались поблизости, чтобы послушать его истории. В самом деле, в доме никогда не царило такое оживление, как при нем, – и это заставило Орландо призадуматься над своим образом жизни и укладом. Он вспомнил привычные разговоры про апоплексический удар испанского короля или вязку собак, вспомнил, как целыми днями расхаживал от конюшни к гардеробной, вспомнил, как лорды храпели над своим вином и ненавидели всякого, кто рискнет их разбудить. Как крепки и подвижны были они телом, как слабы и скудны умом! Встревоженный подобными мыслями Орландо утратил душевное равновесие и пришел к выводу, что впустил в дом проклятый дух смуты, а посему не знать ему отныне покоя.
Между тем Ник Грин пришел к прямо противоположному заключению. Нежась утром в кровати с мягчайшими подушками, на тончайших простынях и глядя в эркерное окно на газон, три века не знавший ни одуванчика, ни конского щавеля, он думал о том, что пора уносить ноги, иначе захлебнется в роскоши. Поднявшись и слушая воркование голубей, одеваясь и слушая шелест фонтанов, он думал, что без грохота телег по мостовой Флит-стрит уже не напишет ни строчки. Если так будет продолжаться, подумал он, заслышав, как в соседней комнате лакей разжигает камин и ставит на стол серебряную посуду, я усну и (тут он протяжно зевнул) умру прямо во сне.
Поэтому он наведался в покои Орландо и объяснил, что из-за тишины ночью глаз не сомкнул. (Действительно, дом был окружен парком миль пятнадцать в диаметре и десятифутовой стеной.) Тишина, заметил он, действует ему на нервы больше всего. С позволения Орландо он закончит свой визит сегодня же утром. Орландо ощутил изрядное облегчение и в то же время огромное нежелание его отпускать. Дома, подумал он, без него станет очень скучно. При расставании (ибо до сих пор ему так и не удалось затронуть эту тему) он имел опрометчивость вручить поэту «Смерть Геркулеса» и спросить его мнения. Поэт рукопись взял, пробормотал что-то про Глорр и Цицерона, но Орландо его перебил, пообещав выплачивать пенсион ежеквартально, и засим Грин, рассыпаясь в любезностях, прыгнул в карету и был таков.
Никогда еще пиршественный зал не казался таким огромным, великолепным и пустым, как после отъезда гостя. Больше никогда в жизни Орландо не хватит духа жарить тосты с сыром в итальянском камине. Никогда ему не хватит остроумия отпускать шуточки про итальянские картины, не хватит сноровки смешивать пунш должным образом, а тысячи острот и сумасбродных выходок утрачены навсегда. И все же какое облегчение избавиться от ворчливого голоса, какая роскошь вновь побыть одному – невольно думал он, отпуская мастиффа, просидевшего на привязи все шесть недель, поскольку тот кусал поэта всякий раз, как видел.
Ник Грин высадился на углу Феттер-лейн вечером того же дня и обнаружил, что дома за время его отсутствия мало что изменилось: миссис Грин рожала очередного младенца в одной комнате, Том Флетчер пил джин в другой, книги валялись на полу, обед – как и заведено – подали на туалетном столике, где детишки лепили из грязи куличики. Вот она, подходящая атмосфера для поэта, понял Грин, только тут и можно писать, чем он и занялся. Тема лежала на поверхности: благородный лорд у себя дома. Новая поэма будет называться «Визит в поместье вельможи» или вроде того! Выхватив перо, которым сынишка щекотал уши коту, и макнув в пашотницу, служившую чернильницей, Грин тут же накропал весьма едкую сатиру. В молодом лорде без труда угадывался Орландо, высмеивались его самые откровенные высказывания и поступки, увлечения и глупости – все списано с натуры, вплоть до цвета волос и грассирования на иностранный манер. И словно для того, чтобы у читателя не осталось и тени сомнения, Грин взял на себя труд процитировать почти без купюр отрывки из аристократической трагедии «Смерть Геркулеса», которую нашел, как и ожидал, велеречивой и напыщенной до невозможности.
Памфлет выдержал сразу несколько переизданий и позволил оплатить десятые роды миссис Грин, а вскоре друзья, которые всегда готовы позаботиться о таких вещах, не преминули послать экземпляр Орландо. Прочтя его с убийственным хладнокровием от начала и до конца, он вызвал лакея, взял щипцы для камина и протянул ему сей опус, велев бросить в самую вонючую навозную кучу во всем поместье. Когда лакей кинулся исполнять приказ, Орландо его остановил. «Бери самую быструю лошадь в конюшне и скачи во весь дух в Харвич. Там сядешь на корабль, отправляющийся в Норвегию. Купи в королевском питомнике двух лучших элкхундов, кобеля и суку. Возвращайся без промедления. Ибо, – пробормотал молодой лорд едва различимо, склонившись над книгой, – с людьми я покончил».
Вышколенный лакей поклонился и исчез. Он справился с заданием столь расторопно, что вернулся ровно через три недели с двумя лучшими элкхундами, причем сука ощенилась прямо под обеденным столом тем же вечером, дав жизнь выводку из восьми превосходных щенков. Орландо велел отнести их к себе в спальню.
– Ибо, – заявил он, – с людьми я покончил.
Впрочем, пенсион поэту он выплачивал исправно.
Таким образом, в возрасте тридцати лет или около того сей юный вельможа не только испытал все, что может предложить жизнь, но и убедился в никчемности ее даров. Любовь и слава, женщины и поэты не стоят ничего. Литература – фарс. В ту ночь, когда он прочел памфлет Грина «Визит в поместье вельможи», Орландо спалил дотла все пятьдесят семь своих сочинений, сохранив одну рукопись – «Дуб» – юношеский опыт, мечту, к тому же очень короткую. Отныне доверять он мог лишь собакам и природе, элкхунду и розовому кусту. Мир во всем его разнообразии, жизнь во всей ее сложности свелись к двум вещам. Собаки и куст – вот и все. Итак, сбросив с плеч огромную гору иллюзий и чувствуя себя голым и беззащитным, он свистнул собак и зашагал по парку.
Он так долго просидел в уединении особняка, занимаясь сочинительством и чтением, что почти забыл о прелестях природы, которая в июне поистине великолепна. Взобравшись на высокий холм, откуда в ясные дни видна добрая половина Англии с кусочком Уэльса и Шотландия, Орландо бросился на землю у корней любимого дуба и понял: если до конца своих дней ему не суждено заговорить ни с мужчиной, ни с женщиной, если собаки не разовьют в себе дар речи, если он больше никогда не встретит ни поэта, ни княжну, то вполне сносно проживет до конца дней.
Сюда он и приходил день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Орландо наблюдал, как желтеет листва берез, как распускаются молодые папоротники, как луна зарождается и становится полной, он наблюдал – впрочем, читатель и сам способен вообразить следующий пассаж, где каждое дерево и куст сначала зеленеют, потом желтеют, луна восходит и солнце садится, разражается шторм и наступает хорошая погода, все возвращается на круги своя и так продолжается сотню или три сотни лет, не считая пригоршни сора и паутины, которую любая старуха может вымести за полчаса – к сему выводу, нельзя не признать, мы могли бы прийти гораздо быстрее, просто написав: «Пронеслись годы» (и указать в скобках точное количество лет), и ничего бы не изменилось.
К сожалению, хотя время и вынуждает животных и растения цвести и увядать с поразительной систематичностью, оно не влияет на человеческий разум столь же просто. Более того, человеческий разум влияет на время не менее странным образом. В причудливой стихии человеческого духа час может растянуться пятидесяти– или даже стократно; с другой стороны, в нашем сознании час вполне может уложиться в одну секунду. О странном несоответствии между тем, что мы видим на часах, и тем, что чувствуем, известно слишком мало, и тут хорошо бы углубиться в предмет. Увы, биограф, чьи интересы, как мы уже говорили, весьма ограниченны, вынужден довольствоваться одним простым утверждением: когда человек достигает тридцати лет, как теперь случилось с Орландо, то время, когда он думает, непомерно растягивается, а время, когда действует – непомерно сокращается. Как следствие, Орландо отдавал распоряжения и управлял своими обширными поместьями в мгновенье ока, зато в одиночестве, на холме под дубом, секунды начинали набухать и раздуваться, пока ему не казалось, что те не минуют никогда. Более того, они умудрялись заполнять себя самыми причудливыми вещами. Орландо не только столкнулся с вопросами, которые поставят в тупик мудрейших из мужей, вроде: «Что такое любовь?», «Что такое дружба?», «Что такое истина?», но и обнаружил, что стоит задаться ими, как на него обрушивается все прошлое, которое виделось ему чрезвычайно протяженным и разнообразным, врывалось в падающую секунду, раздувалось двенадцатикратно, расцвечивало ее тысячью оттенков и заполняло всяческим хламом со всей вселенной.
В подобных размышлениях (или как их ни назови) он провел долгие месяцы и годы своей жизни. Без преувеличения можно сказать, что после завтрака он выходил тридцатилетним, а к ужину возвращался пятидесятипятилетним. Иные недели добавляли ему целый век, другие – не больше трех секунд. В общем, задача определения протяженности человеческой жизни (говорить о сроке, отпущенном животным, мы даже не рискнем) нам не под силу, поскольку едва мы скажем, что она тянется годами, как нам напоминают, что она пролетает быстрее, чем опадает с розы лепесток. Из двух сил, которые то попеременно, а то и одновременно (что еще больше сбивает с толку) верховодят нашей несчастной глупой головой – скоротечность и долговечность, – Орландо находился под влиянием то божества со слоновьими ногами, то мухи с комариными крылышками. Жизнь казалась ему невероятно долгой и в то же время промелькнула вмиг. Но даже в те моменты, когда она тянулась неимоверно медленно и мгновенья разбухали особенно сильно, когда он бродил по бескрайним пустыням вечности, ему было недосуг разглаживать и расшифровывать те убористо исписанные листы пергамента, которые за тридцать лет жизни среди мужчин и женщин туго свились в его сердце и мозгу. Задолго до того, как Орландо перестал думать о Любви (тем временем дуб покрылся листвой и сбросил ее дюжину раз), с поля боя ее изгнала Гордыня, следом явились Дружба и Литература. Поскольку первый из вопросов остался без ответа – что такое любовь? – она возвращалась при малейшей возможности или без нее и вытесняла книги, метафоры, вопросы о смысле бытия на периферию – дожидаться шанса вновь вступить в игру. Процесс тормозили богатые иллюстрации, причем не только картинки – старуха-королева Елизавета в розовой парче, лежащая на гобеленовом диване с табакеркой из слоновой кости и золотым клинком, но и запахи – душилась она крепко, и звуки – в тот зимний день в Ричмонд-парке тявкали олени. Итак, мысли о любви неразрывно сплавились со снегом и зимой, пылающим камином, русскими женщинами, золотыми клинками и благородными оленями, с чавканьем старого короля Якова, шутихами и мешками сокровищ в трюмах елизаветинских кораблей. За каждым элементом, едва Орландо пытался сдвинуть его с места в своем сознании, тянулись соседние элементы, вцепившиеся в него, как в кусок стекла, пролежавший год на дне моря, вцепляются кости, стрекозы, монеты и локоны утопленниц.
– Опять метафора, клянусь Юпитером! – восклицал Орландо (что показывает, насколько беспорядочно работал его ум и какими окольными путями бродил, а также объясняет, почему дуб множество раз зацветал и сбрасывал листву, прежде чем Орландо пришел к приемлемому заключению о сущности Любви). – В чем тогда смысл? Почему бы просто не сказать… – и он пытался сформулировать в течение получаса – или двух с половиной лет? – как по-простому сказать, что такое любовь. – Подобный образ явно не соответствует действительности, – возражал он сам себе, – ведь ни одна стрекоза, разве что при весьма необычных обстоятельствах, на дне моря не выживет. А если Литература не суженая и не наложница Истины, что же она такое?.. Черт возьми! – восклицал он. – Зачем говорить наложница, если уже сказал суженая?! Почему бы просто не сказать, что думаешь, и дело с концом?
И он пытался говорить, что трава зеленая, а небо голубое, тем самым умилостивив неколебимый дух поэзии, перед которой все еще преклонялся, хотя и с безопасного расстояния.
– Небо голубое, – говорил Орландо, – трава зеленая.
Подняв взгляд, он обнаруживал, что на самом деле небо подобно вуалям, соскользнувшим с волос тысячи мадонн, а трава колышется и мрачнеет, как тысяча дев, что рвутся из объятий косматых сатиров в зачарованном лесу.
– Ей-богу, – говорил Орландо (ибо приобрел пагубную привычку разговаривать сам с собой), – я не вижу, что одно утверждение правдивее другого. Оба ложные!
И он отчаялся понять, что такое любовь и что такое истина, и впал в глубокую хандру.
Как странно наблюдать за Орландо, который вольготно раскинулся под своим дубом июньским днем, оперевшись на локоть, ведь столь прекрасный молодой человек с блестящими способностями и здоровым телом, о чем свидетельствуют румяные щеки и крепкие конечности, – человек, который, не раздумывая, бросается в атаку или принимает вызов на дуэль, настолько подвержен летаргии ума, причем, когда дело доходит до поэзии и его способности к ней, засмущается, как маленькая девочка под материной дверью. Мы полагаем, глумление Грина над его трагедией ранило Орландо не меньше, чем насмешка княжны над его любовью. Однако вернемся…
Орландо продолжал размышлять. Он смотрел на траву, на небо и пытался сообразить, как о них сказал бы настоящий поэт, печатавшийся в Лондоне. Между тем память (чьи повадки мы уже описывали) удерживала перед его мысленным взором физиономию Николаса Грина, словно этот саркастичный, болтливый тип, к тому же двуличный, – само воплощение Музы, и Орландо обязан служить ему верой и правдой. И летним утром Орландо предлагал множество фраз – и простых, и замысловатых, но Ник Грин все качал головой, презрительно усмехался и бубнил про Глорр, Цицерона и смерть современной поэзии. Наконец Орландо вскочил (была уже зима, причем весьма студеная) и произнес одну из самых важных клятв в своей жизни, ибо она обрекала его на рабство, суровее которого не сыскать. «Будь я проклят, – объявил он, – если напишу еще хоть слово, чтобы ублажить Ника Грина или Музу! Плохо ли, хорошо или посредственно, но с сегодняшнего дня я буду писать только для собственного удовольствия!», после чего сделал вид, что разрывает кипу бумаг и бросает в лицо этому болтливому насмешнику. Память съежилась, как бродячая собака, когда нагибаешься за камнем, и убрала образ Ника Грина с глаз долой, подменив его… да ничем не подменив!
Тем не менее Орландо продолжал свои размышления. Ему было о чем подумать. Порвав пергамент, он разорвал в клочья украшенный всевозможными завитушками и геральдическими символами свиток, который создал в уединении своих покоев, назначив себя, как король назначает послов, первым поэтом страны, первым поэтом эпохи, навеки даровав своей душе бессмертие, а телу – гробницу среди лавров и эфемерных стягов всенародного поклонения. Сколь ни радужны эти мечты, он разорвал их в клочья и выбросил в мусор. «Слава, – сказал он, – подобна (поскольку в отсутствие Ника Грина сдерживать его было некому, он упивался образами, из коих мы приведем парочку самых скромных) расшитому камзолу, что сковывает движения, серебряной кирасе, что сжимает сердце, раскрашенному щиту, что скрывает пугало» и так далее и тому подобное. Суть речи сводилась к тому, что слава мешает и сковывает, в то время как безвестность окутывает человека подобно туману, позволяет уму свободно идти своим путем. Человека безвестного облекает милосердная завеса тьмы. Никто не знает, откуда он приходит и куда уходит. Он может искать истину и говорить ее, ведь лишь он один свободен, лишь он правдив, лишь он в мире с самим собой. Итак, Орландо успокоился под дубом, чьи выступавшие над землей твердые корни казались ему даже удобными.
Надолго погрузившись в глубокие размышления о пользе, которую несет безвестность, о чувстве защищенности и прочих утешениях, когда ты подобен волне, что возвращается в глубины моря, он думал о том, как безвестность избавляет ум от зависти и злобы, как запускает по жилам потоки щедрости и великодушия, как позволяет давать и брать без ожидания благодарности и похвал; видимо, так жили все великие поэты (хотя скромные познания в греческом не позволили Орландо подкрепить свое предположение), ибо, думал он, Шекспир наверняка именно так и писал, и храмовые зодчие именно так и строили: анонимно, не нуждаясь ни в благодарности, ни в признании, была бы только работа днем и кружка эля на ночь… «Сколь прекрасна такая жизнь, – думал Орландо, вытягиваясь под дубом. – Почему бы не наслаждаться каждым мигом?» Мысль поразила его, словно пуля. Тщеславие упало, словно гиря. Избавившись от изжоги отвергнутой любви и прочих укусов и уколов, которыми жизнь его жгла, словно крапива, пока он еще жаждал славы, и уже не властная над тем, кому до славы дела нет, он открыл глаза, которые все это время были широко распахнуты, но зрели лишь мысли, и увидел внизу в лощине свой дом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































