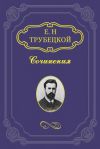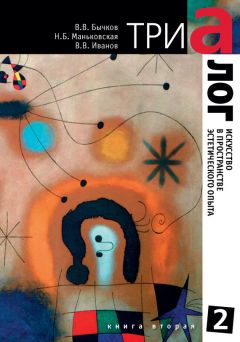
Автор книги: Владимир Иванов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Демонстративно именовал себя (как и всех каталонцев) параноиком, полагая, что «истинная реальность» заключена внутри человека и он проецирует ее на мир посредством своей паранойи. С ее помощью человек (художник прежде всего) отвечает «мировой пустоте», утверждает свою самодостаточность. Параноидальность наиболее полно выражается в бредовых видениях, ночных кошмарах, снах, мистических прозрениях. Испанские мистики, полагал он, все были сюрреалистами (как и основатель монашества св. Антоний). «Паранойя, – писал он, – систематизирует реальность и выпрямляет ее, обнаруживая магистральную линию, сотворяя истину в последней инстанции».
Суть своего метода он видел в свободном от разума проникновении в сферу иррационального и «победе над Иррациональным» путем его художественной «рационализации» – создания «рукотворной цветной фотографии, зримо запечатлевшей иррациональное, его тайны, его странности, его утонченность и оголенность». «Мой параноидально-критический метод сводится к непосредственному изложению иррационального знания, рожденного в бредовых ассоциациях, а затем критически осмысленного. Осмысление выполняет роль проявителя, как в фотографии, нисколько не умаляя параноидальной мощи». Отстраняясь в данном случае от сюрреалистов группы Бретона, Дали отмечает, тем не менее, что у них один и тот же метод, только у сюрреалистов его направления он «называется объективной случайностью, высвечивающей суть мироздания трансформацией, когда бред вдруг оборачивается реальной действительностью». С помощью своего метода Дали пытался «прочитать» и передать в своем искусстве «послание из вечности» (курсив мой. – В. В.), которое открывается лишь во сне и в бредовых состояниях. Всякая «хорошая живопись», считал он, содержит в той или иной форме это «послание». А к этой живописи Дали относил названных выше классиков искусства, Пикассо и Миро из своих современников и, в первую очередь, свое собственное творчество.
Этот метод, естественно, требовал от художника высочайшего профессионализма в живописной технике, умения создавать «рукотворные фотографии», т. е. предельно иллюзорные изображения. Отсюда постоянное стремление Дали к овладению всеми тонкостями живописной техники старых мастеров, его культ Рафаэля, Леонардо, Вермера, напряженные размышления о значении традиции, о Ренессансе, классицизме и т. п. Отсюда и его резко негативное отношение практически ко всем своим современникам-авангардистам (ибо они отрицали значение классической живописной техники, пренебрегали ею) и особенно – к абстракционистам, которых он едко высмеивал и вообще не считал за художников. Он был убежден, что после Первой мировой войны авангардисты практически уничтожили живопись, а он, Дали, призван возродить, «спасти» ее (не случайно, писал он, я и имя ношу – Спаситель – Сальвадор). Он верил в новый «ренессанс» живописи после варварского современного «средневековья» и стремился сказать своим творчеством первое слово в этом «ренессансе». В дальнейшем я попытаюсь на анализе самих произведений Дали осмыслить, есть ли в его живописи действительно «послание из вечности», как оно выражается живописно и в чем его смысл. Забегая вперед, отмечу только, что я его ощущаю и именно с ним связываю одну из главных форм выражения духа сюрреализма.
В творчестве Дали большинство исследователей выделяют три основных периода: до 1927–1928 гг. – период ученичества, освоения техники старых мастеров и приемов художественного мышления импрессионистов, кубистов, футуристов, дадаистов и старших сюрреалистов; 1929–1948 гг. – параноидально-критический сюрреализм, создание главных работ на основе своего метода; 1948 по 1970-е гг. – философско-религиозный, мистический сюрреализм. Сам Дали делил свой зрелый период творчества на ряд этапов в духе своего «параноидально-критического» мышления на: Дали Планетарного, Дали Молекулярного, Дали Монархического, Дали Галлюциногенного, Дали Будущного. Однако любая периодизация и классификация его творчества достаточно условны, ибо они скорее свидетельствуют о движении некоторых идейно-смысловых тенденций в мировоззрении Дали, но не о какой-то принципиальной эволюции стиля или художественного языка.
Он сложился у него в 30-е годы и с тех пор практически не менялся. Дали довел до логического завершения так называемый натуралистически-иллюзорный сюрреализм, суть которого заключается в создании как бы фотографий неких ирреальных фантасмагорических миров, имеющих, как правило, трехмерное пространство и населенных массой причудливых существ и предметов, созданных безудержной фантазией художника обычно путем многообразных трансформаций и деформаций предметов и существ земного мира и членов человеческого тела, а также перенесением иллюзорно изображенных обыденных предметов в новый сюрреалистический контекст. В этих парадоксальных, абсурдных с точки зрения логики земной жизни, часто трагико-апокалиптически окрашенных мирах Дали ощущается влияние Босха, Брейгеля, Эль Греко, Гойи, Де Кирико, Карра, Ива Танги, но в целом они совершенно уникальны, самобытны и самодостаточны.
Среди наиболее часто встречающихся визуально-пластических символов, образов, метафор, специфических приемов-инвариантов в работах Дали можно назвать подпорку-костыль, рог носорога, хлеб, рыбу, улитку, всевозможные раковины, кипарис, плод граната, женские обнаженные груди, муравьев, кузнечика, кровь, следы гниения и разложения плоти, капли (воды, крови), зеркальную гладь воды, зеркало, лодку, часы, маски, растекающиеся предметы, растрескивания, парящие как в невесомости предметы, яйцо, остатки от каннибалических оргий, ящички комода в телах людей или в статуях, слонов на паучьих ножках, Галу в разных видах и ситуациях, эротические символы и инварианты, атомно-молекулярную символику, фрагменты античной скульптуры, картину Милле «Вечерняя молитва» («Анжелюс») в различных трансформациях, которую ряд исследователей рассматривает как «сексуальный фетиш» Дали, зрительные парадоксы в духе М. Эшера, когда из пейзажа, интерьера или группы человеческих фигур возникает при изменении зрительской оптики некое иное изображение (чаще всего – лицо или бюст), и обязательно – пустынный метафизический ландшафт в духе ранних Де Кирико или Карра, который и способствует созданию в картинах Дали уникальной сюрреалистической атмосферы, самого духа сюрреализма, о чем я надеюсь поговорить в дальнейшем специально и более подробно.
Особо необходимо отметить серию больших полотен Дали на христианскую тематику, созданных в основном в 50–60-е гг. (прежде всего «Мадонну Порт-Льигата», «Христа Сан Хуана де ля Крус», «Гиперкубическое распятие» <Corpus Hypercubus>, «Тайную вечерю»). В них сюрреалистический дух Дали трансформируется в глубокое мистико-религиозное настроение, характерное для верующего человека XX в. Указанные работы, как и некоторые другие из этого цикла, принадлежат к высшим достижениям в области религиозного искусства XX в. Мощным апокалиптико-пророческим духом пронизаны вообще многие чисто сюрреалистические работы Дали, внешне не имеющие ничего общего с христианской тематикой. Пост-адеквации о Дали опубликованы в «Художественном Апокалипсисе Культуры» (Кн. 1. С. 145–179). И, полагаю, там суть его творчества представлена более выпукло и адекватно.
Сюрреализм был не просто одним из многих направлений в авангардном искусстве первой половины XX в. В нем наиболее полно и остро в художественной форме выразилось ощущение эпохи как глобального переходного этапа от классического искусства последних двух-трех тысячелетий к чему-то принципиально иному; именно в нем в концентрированном виде наметились многие принципы, методы арт-мышления, даже технические приемы и отдельные элементы пост-культуры второй половины XX в. Художественные находки сюрреализма активно используются практически во всех видах современного искусства – в кинематографе, телевидении, видеоклипах, театре (особенно в театре абсурда Ионеско, Беккета и др.), фотографии, оформительском искусстве, дизайне, в самых современных арт-практиках и проектах.
Однако меня в данном случае интересует не это, хотя и с этим опосредованно связанное, ибо становится понятнее, почему используются. Сегодня, в первой трети XXI столетия, совершенно очевидно, что сюрреализм был одним из мощнейших последних направлений в высоком Искусстве Культуры. И глубинная суть его, связывавшая его с Культурой и выражавшая последний мощный вопль этой Культуры в чисто художественной форме, заключалась именно в духе сюрреализма, который, подчеркну еще раз, принадлежал далеко не всем произведениям сюрреалистов. Его, как мне представляется, чувствовали и умели выразить далеко не все художники, именовавшие себя сюрреалистами. И напротив, мы ощущаем его у многих несюрреалистов по направлению, в том числе и у старых мастеров.
Так что же это такое, в конце концов, теряя терпение, спросите меня вы, дорогие коллеги. А вот ответить на этот вопрос не просто, и я даже не уверен, что в свое время смог достаточно точно и внятно ответить и на вопрос о том, что такое дух символизма (см. подробнее: Триалог plus, с. 69–72). Я полагаю, что мы все почти одинаково чувствуем этот дух, но ведь он потому и «дух», что с трудом поддается (если поддается вообще) вербализации. Вот, для «разогрева» я привел в концентрированном виде известные факты из истории сюрреализма как художественного направления, основные моменты его эстетики, попытался описать некоторые параметры художественного языка главных сюрреалистов. И что высвечивается из всего этого?
А высвечивается, по-моему, вот что. И дух символизма, и дух сюрреализма – это фактически два различных, но в чем-то перекликающихся смысла двух художественных путей последнего (именно как последнего'.) столетия Культуры к одной и той же метафизической реальности. Хронологически их разделяет в среднем полстолетия (плюс-минус), но времени очень динамичного, когда художественное сознание прозревало конец Культуры, а возможно, и более глобальный Конец, с каждым десятилетием все острее и острее. Если символисты еще полностью жили в высокой Культуре и фактически только слегка чувствовали – одни больше, другие меньше, но все, – что в ней творится что-то неладное, и пытались своим творчеством выправить это неладное, привести все к эстетическому ладу (обостренно ощущаемой художественной гармонии), то сюрреалисты не только ощутили, но уже подсознательно знали, что конец Культуры наступил, и многие из них его активно приближали своим творчеством. Возвещали его, кричали о нем и, возможно, провидели даже Нечто, за ним открывающееся.
Дух символизма в лучших произведениях художников-символистов и близких к ним по мироощущению художников проявляется в том, что они не просто ведут нас как лучшие произведения старых мастеров к метафизической реальности, но сами в какой-то мере являют нам ее, как бы воочию в визуальных формах показывают ее глубинные сущностные мифогенные основания. Это та реальность, которой Культура жила на протяжении тысячелетий, прочно укорененная на мощной мифогенной (мифологической) основе. В свое время я попытался наметить и ряд особенностей художественного языка, прежде всего в произведениях самих символистов, которые способствуют возникновению духа символизма. Это определенный лаконизм в пластической выразительности; обобщенная красота линии и силуэта, внутренний созерцательный покой фигур, часто по-античному прекрасных; минимализм деталей и изобразительных элементов, повышенная музыкальность, особая просветленность и призрачность, интерес к пограничным состояниям дня и ночи, сна и бодрствования, полутемное освещение, тенденция к монохромности и повышенной плавности линий. И что-то еще столь неуловимое, что словами оно уже не схватывается, но хорошо ощущается эстетически обостренным чувством.
Уже из этого видна и особая сугубо символистская специфика «явления» метафизической реальности. Утонченно эстетский и изысканно-меланхолический дух многих значительных произведений символизма (Пюви де Шаванна, ряда работ Моро, Бёрн Джонса, Россетти, Сегантини, Борисова-Мусатова, Мориса Дени, Чюрлёниса) уже предвещает какое-то угасание; своеобразное истончение мифооснов бытия-бывания (или тварного бытия, используя близкую нам христианскую терминологию), прочно основывающегося на вроде бы незыблемой метафизической реальности, а возможно, и какую-то грандиознейшую метаморфозу самой этой реальности. Предвещает!
А сюрреализм, как мне видится, уже являет нам вроде бы ту же классическую метафизическую реальность, но претерпевшую эту метаморфозу, т. е. являет уже какую-то совершенно иную Реальность! И осуществление этой метаморфозы зафиксировал еще Де Кирико в наиболее удачных своих полотнах. В этой Реальности практически нет места нынешнему тварному (или земному) человеку, в лучшем случае там обитают только его тени. Дух полотен Де Кирико и в целом метафизической живописи – это мощный дух безлюдия, урбанистического пространства после какой-то глобальной катастрофы, унесшей людей, но сохранившей все их творения и сооружения. Что-то вроде городов после применения нейтронного оружия, хотя это излишне механистическое сравнение. Дух Де Кирико – глубже и глобальнее.
На полотнах Де Кирико мы видим городские пейзажи, в которых как бы и не было никогда людей. Они сами возникли из ничего – города-химеры, города – материализованные призраки, иногда населенные полумеханическими антропоморфными манекенами, в которых когда-то, возможно, была примитивная жизнь, но от нее остались лишь еле заметные следы. Этот странный и действительно метафизический дух полотен Де Кирико или Карра вселяет в душу необъяснимое беспокойство, а иногда и страх, и одновременно они обладают магической силой притяжения. От них трудно оторваться. Что-то неодолимо влечет наш дух к ним, втягивает в их странные пространства. Нам и жутковато там, и как-то сладостно одновременно. Мы понимаем, что попали в пространство необъяснимой тайны, куда человеку вход заказан, но мы там, и нам и боязно, и приятно, тайна пронизывает нас, мы живем в ней, но не знаем, что это такое, и, тем не менее, каким-то образом все-таки знаем, и от этого приятно.
Нечто подобное мы испытываем и при созерцании картин Рене Магрита, который и сам не скрывал, что находился под сильнейшим влиянием Де Кирико, и, пожалуй, Поля Дельво, который не всегда примыкал к сюрреалистам, но работал в целом в их парадигме и на которого маэстро метафизической живописи тоже оказал сильное влияние.
Живопись обоих бельгийцев, с которой я имел возможность в разное время достаточно основательно познакомиться на больших ретроспективах в Брюсселе, да и в других музеях мира, как магнит притягивает к себе мое внимание. Их, как практически и всех сюрреалистов, за исключением Миро и Дали, нельзя отнести к великим мастерам столетия. Тем не менее, им удалось каждому по-своему выразить и дух XX столетия, и, главное для нашего разговора, – дух самого сюрреализма. При этом в чем-то они даже и близки друг другу при совершенно различной технике живописания и разном художественном видении. Миры Дельво тяготеют к большей иллюзорности и визионерской натуралистичности, художественные пространства Магрита более плоскостны и условны. У Магрита почти всегда просветленная, дневная живопись (он часто работал гуашью), у Дельво – хтонические миры, даже когда он изображает события, вроде бы происходящие днем. Между тем, это так – некоторые внешние характеристики. В целом же перед нами два художника, создавшие совершенно уникальные художественные явления, в которых господствующим является именно дух сюрреализма.
Для художественной образности Магрита характерны в первую очередь постоянно и сознательно акцентируемая абсурдность, свободные метаморфозы изображаемых предметов и усвоенное от Де Кирико умение передавать безжизненные, холодные пространства даже там, где он помещает некие антропоморфные и териоморфные предметы или их следы. Именно неодушевленные предметы, имеющие формы людей, птиц, растений. Излюбленные инварианты таких предметов (или визуальных знаков) – это мужская фигура в котелке (вид сзади), женская обнаженная фигура или ее торс, рыбоженщина (верхняя часть рыбы, нижняя женщины), птица (летящая или сидящая), древесный лист или целое дерево. Они, как правило, помещаются на фоне голубого неба с небольшими белыми облачками или морского пейзажа. Нередко вместо самих этих статичных безжизненных предметов, якобы-людей, Магрит дает их визуальный след – антисилуэт. Например, проем в темном фоне в форме мужчины в котелке, сквозь который мы видим вечерний пейзаж («Большое путешествие», 1926), или подобный же проем в темном грозовом небе над морем в виде взлетающей птицы, сквозь который видно голубое небо с легкими белыми облачками («Большая семья», 1947).

Рене Магрит.
Большое путешествие.
1926
Любит он и другой прием – перетекание (продолжение) изображаемого пространства (чаще всего неба с облаками) на холст, стоящий на мольберте (или как бы узрение реального пейзажа сквозь прозрачный холст). Всеми этими и рядом других подобных приемов сочетания несочетаемого (так ведь, Вл. Вл.?) Магрит добивается создания абсурдной для обыденного визуального сознания атмосферы в картине, которое в гармонии с холодным безжизненным пространством а ля Де Кирико и создает дух сюрреализма в работах известного бельгийца. Созерцая эти работы, мы вживаемся в их миры, мы верим в их существование, в то, что перед нами особая реальность, которая вроде бы совершенно чужда нам, иногда неприятна, но всегда привлекательна сокрытой в ней тайной. Тайна, которую в принципе не может постичь наш разум, но которую мы ощущаем, живем ею в момент созерцания, мы даже знаем ее каким-то особым недискурсивным знанием, страшимся ее, но она доставляет нам эстетическую радость, а иногда и наслаждение, – вот это я, пожалуй, и отнес бы к одному из аспектов духа сюрреализма.

Рене Магрит.
Видения одинокого пешехода.
1926–1927
Это тайна грандиозных метаморфоз, которыми, оказывается, заряжен видимый нами мир, и художники-сюрреалисты научились их открывать и даже являть нам исключительно художественными средствами. Это и есть дух сюрреализма. Притом сами сюрреалисты, как правило, вряд ли понимали глубинный смысл своих работ; возможно, только ощущали нечто грандиозное, в них выражающееся. Свои картины они объясняли проще: как изображения грез, мечтаний, сновидений и т. п., т. е. в большей мере опираясь на психологию, в том числе на популярный в их среде фрейдизм, чем на глубинные онто-метафизические основания. Разве что Дали видел и это, но замаскировал свою онто-метафизику под паранойю, чем и отвел от себя какую-либо философскую критику. Что возьмешь с параноика?
Между тем в этом провидении грандиозных метаморфоз бытия до самых его глубинных оснований и визуальном явлении их и заключается, на мой взгляд, метафизический смысл сюрреализма, его дух. Не могу удержаться, чтобы не привести здесь хотя бы пару конкретных примеров из Магрита. «Видения одинокого пешехода» («Die Traeumereien des einsamen Spaziergaengers») (1926–1927). Ha фоне вечернего загородного пейзажа (уходящая вдаль речка с мостиком, темный массив земли, слегка прописанные деревья, темнеющее небо в тучах) крупная фигура мужчины в черном пальто и котелке спиной к зрителю (традиционный визуальный инвариант Магрита). На самом ближнем плане, на фоне темной земли и фигуры пешехода, горизонтально парящий в воздухе муляж обнаженной безволосой фигуры с закрытыми глазами (нижняя ее часть скрыта за правым обрезом картины).

Рене Магрит.
Северное сияние.
1927.
Частное собрание
Даже без всякого названия (названия у Магрита, как и у большинства сюрреалистов, достаточно произвольны и предельно абсурды по отношению к изображению) резкая визуальная крестообразная оппозиция светлой и темной, обнаженной и одетой, парящей и вроде прочно стоящей на земле фигур на фоне безжизненного призрачного, по-своему красивого вечернего пейзажа вызывает сильный комплекс ощущений и переживаний фундаментальной реальной ирреальности и неотмирности изображенного. Это никак уж не мечты, грезы или сон, но что-то предельно фундаментальное, почти материальное и пугающе чуждое всему человеческому. Чем больше всматриваешься в эту работу, тем большим ужасом веет от нее, но оторвать взгляд трудно.

Рене Магрит.
Философия будуара.
1947

Рене Магрит.
Ступени лета.
1938.
Частное собрание
Другая значимая для нашей темы работа «Северное сияние» («Lumière polaire») (1927). Здесь на фоне чего-то вроде песчаных холмов и облачного неба, в котором какие-то отблески лишь с большой натяжкой можно принять за северное сияние, изображены две обнаженные женские фигуры и пара абстрактных форм. Но что это за фигуры! Перед нами, занимая главное пространство картины, достаточно сильно поврежденные целлулоидные куклы обритых девушек с хорошо развитыми формами и закрытыми глазами. Справа от них из вершины холма вытекает поток темной лавы, который можно принять и за роскошные женские волосы, и за какую-то диковинную птицу, изображенную сзади. Снизу на уровне ног девушек-кукол поверхность красочного слоя картины как бы облупилась (виден холст или стена, на которой она написана) или, напротив, прикрылась каким-то обломком целлулоида серо-охристого цвета. Общий и навязчиво читаемый дух картины – обманчивость визуально воспринимаемого мира, его хрупкость, тленность, нереальность или даже глобальное разрушение, уничтожение жизни на земле. При этом картина магнетически притягивает к себе взор реципиента своей глубинной художественной красотой и невыговариваемой тайной бытия, открывающегося за ней.
Далеко не все так онтологично и угнетающе привлекательно у Магрита, как описанные полотна. Много вещей достаточно простеньких и милых в своем абсурдизме. Просто приятные визуальные находки, радующие душу. К ним относятся, например, «Философия будуара» (1947), где женские туфли прорастают живыми пальцами, а ночная рубашка обнаженной грудью девушки; или фрагменты обнаженного женского тела предстают как фрагменты живых скульптур на фоне сюрреалистически данного пейзажа, где голубое небо с белоснежными облаками строится частично из голубых же кубиков воздушной материи («Ступени лета», 1938). Здесь очевидный дух сюрреализма обладает какой-то просветленной, ирреально обнадеживающей окраской. Именно в этом духе выдержан и огромный фриз (72 м длиной) «Очарованное пространство» («Derverzauberte Bereich») (1952) в Luestersaal (зале с люстрой) казино в Кнокке. В целом у Магрита дух абсурдных метаморфоз бытия разворачивается от мрачно-меланхолических и катастрофических предчувствий до светлых весенних ожиданий какого-то нового пробуждения, обновления, преображения бытия.

Рене Магрит.
Очарованное пространство.
1952.
Фрагмент настенной росписи в казино в Кнокке
Совсем иное, хотя и близкое в этом глобальном антиномизме (светлое-темное), находим мы у Дельво.
Подлинным открытием его искусства стала для меня огромная ретроспективная выставка, посвященная столетию со дня рождения мастера, в Бельгийском королевском музее изящных искусств 1997 года. Тогда мы с Люсей путешествовали по Германии и Франции и по пути заехали в Брюссель на несколько дней к нашим знакомым из издательства «Жизнь с Богом» – запастись некоторыми книгами их издательства и посетить музеи. И неожиданно попали на эту выставку. Конечно, я и до нее знал Дельво по отдельным работам (нескольким, не более) в изданиях по сюрреализму и в некоторых музеях, но он особо ничем не привлекал меня. Здесь же произошло чудесное открытие этого мастера. Множество больших (и даже огромных) полотен с изображением одной и той же золотоволосой обнаженной женщины в пространствах по-кириковски метафизических, как правило, мрачных пейзажей и интерьеров. Антиномия ярко высвеченной белизны прекрасного юного женского тела и хтонической метафизики окружающего ее мира. Здесь сюрреалистический дух основательно перемешан с духом символическим. Притом символ фактически один и отчетливо, если не назойливо, эксплицирован.

Поль Дельво.
Хрисида.
1967.
Фонд Поля Дельво

Поль Дельво.
Диалог.
1974.
Музей Иксгля
Собственно символом всего творчества Дельво может служить картина «Chrisis». Фронтально на первом плане стоит сияющая фигура обнаженной золотоволосой красавицы с опущенным взором и свечой в правой руке на фоне темной пустынной улицы и столь же темного дома, из которого она, возможно, только что вышла. Над ней простирается какая-то прозрачная крыша (такие легкие прозрачные крыши из стекла очень любил Дельво), уходящая вперед вверх на зрителя. Образ этой таинственной женщины (мечта, идеал, вечноженственное, символ светлого начала нового бытия?) проходит практически через все творчество Дельво, через все его полотна. В них она предстает в разных позах практически всегда обнаженной – то одна среди метафизического урбанистического пейзажа или интерьера, то окруженная другими обнаженными, полуобнаженными или одетыми женщинами и всегда одетыми мужчинами. Однако никакой коммуникации между персонажами и никакого движения их в картинах Дельво нет. Иногда есть намеки на внешнее общение или знаки движения, но это – статичная коммуникация манекенов. Все персонажи бельгийского сюрреалиста, включая и его главную музу и героиню, фактически – куклы, часто почти иллюзорно выполненные, или, в лучшем случае, сомнамбулы, помещенные в ирреальный сценический пейзаж, нередко набранный из античных архитектурных сооружений или же зданий современного художнику города.

Поль Дельво.
Безмятежность.
1970.
Музей Трёнинге. Брюгге
Холодная, искусственная красота (а они действительно почти все удивительно красивы) полотен Дельво – это какая-то неземная, чуждая земному миру красота. Красота абсолютного отчуждения или мира духов, в котором полностью отсутствует эротическое начало, т. е. фактически жизнь. Пышногрудые, хорошо развитые женщины Дельво с подчеркнуто густой растительностью на лобке лишены какого-либо эротизма. Они безжизненно прекрасны. Как удалось это мастеру – для меня остается загадкой. Однако именно эта безжизненность очевидно живого женского тела в расцвете всех его сил и возможностей в структуре метафизического пейзажа и в адиалогичном диалоге с остальными персонажами полотен Дельво и создает удивительный и неповторимый дух сюрреализма.

Поль Дельво.
Ночь на море.
1976.
Фонд Поля Дельво

Поль Дельво.
Помпеи.
1970.
Фонд Поля Дельво

Поль Дельво.
Сад.
Фонд Поля Дельво
В этом плане еще одним ярким символом творчества бельгийца является его позднее полотно «Диалог» (1974). Здесь на первом плане сознательно сконструированного очень простого пространства с множеством небольших муляжей античных колонн изображены две обнаженные девушки – одна в фас преклонив одно колено, другая в трехчетвертном развороте сидит на тумбе. Никакого диалога ни между ними, ни каждой из них со зрителем нет. Они полностью замкнуты в себе. То же самое мы видим и в картине «Ночь на море» (1976) и в большинстве других работ мастера.
Или вот из того же ряда прекрасное полотно «Безмятежность» (1970). На фоне пустого интерьера романского храма (скорее огромного архитектурного макета этого интерьера) справа (от зрителя) присела в каком-то неестественном глубоком книксене уже известная нам обнаженная золотоволосая красавица с закрытыми глазами. Красивая голубая накидка струится по ее спине, спадая множеством роскошных складок на землю. Левый край картины занимают две вроде бы беседующие между собой полуобнаженные девушки в длинных белоснежных юбках и роскошных шляпах. Дальний фон занимает вечерний пустынный городской пейзаж с несколькими северными храмами. Картина выдержана в тонкой голубоватой гамме, с которой контрастируют белые тела девушек и светлые, уходящие вдаль по законам резко сходящейся перспективы колонны храма. Что это: сон, грезы, меланхолическое видение? Все вместе и более того. Сомнамбулическая золотоволосая красавица приглашает зрителя в какой-то таинственный мир, который вроде бы и знает наша душа, мечтает о нем, стремится к нему, но и чего-то опасается, как бы останавливаясь на его пороге.

Поль Дельво.
Проселочная дорога.
1959

Поль Дельво.
Одиночество.
1955.
Музей изящных искусств.
Берген
Не менее привлекательно и загадочно полотно «Сад» (1971). Вечерний городской парк. На небе полная луна, вдали трамвай с ярко освещенными окнами. Чуть ближе к нам, но в достаточно отдалении по парку прогуливаются в основном одетые горожане, хотя среди них мелькает и несколько обнаженных девушек. Первый же план занимают четыре обнаженные девушки, расположившиеся вокруг стола, но не участвующие ни в какой коммуникации друг с другом. Каждая из них полностью погружена в себя и как бы не замечает ничего и никого вокруг. То же можно сказать и о прогуливающихся вдалеке горожанах. Это, как и многие другие полотна Дельво (ср., например «Помпеи»), в равной мере можно отнести как к сюрреалистическим, так и к символическим. В них дух символизма свободно перетекает в дух сюрреализма, демонстрируя метафизическое родство этих больших направлений в искусстве.
Еще одной темой многих полотен Дельво являются пустые ночные вокзалы с уходящим вдаль железнодорожным полотном, на котором иногда изображаются вагоны или паровозы, и одинокой женской фигуркой, устремляющей взгляд в эту даль. В них господствует не столько сюрреалистский, сколько дух экзистенциального одиночества, тоже характерный для искусства и миронастроения того времени.
Особое место в творчестве Дельво занимают серии работ со скелетами. Наиболее интересны огромные полотна на евангельскую тематику «Распятие» (1951–1952), «Ессе Homo» («Снятие с креста») (1949, частное собрание), «Положение во гроб» (1951, Музей изящных искусств, Берген). Здесь все персонажи, включая Иисуса, представлены весьма изящными, я бы даже сказал, эстетски написанными скелетами. Сами по себе эти работы, явно тяготеющие к достаточно простому символизму, интересны, но никакого духа сюрреализма в них нет, несмотря на вроде бы очевидную абсурдность изображений. Однако средневековая практика изображения Смерти или апокалиптических персонажей в виде скелетов давно приучила европейское эстетическое сознание к адекватному восприятию этих образов.

Поль Дельво.
Распятие.
1951–1952.
Королевский музей изящных искусств Бельгии.
Брюссель
Из всего сказанного и имеющегося еще в сознания мне не терпится сделать предварительный вывод о том, что дух сюрреализма – это, скорее всего, апокалиптический дух. Сюрреализм воочию являет нам в лучших своих произведениях метафизику Апокалипсиса, метафизическую реальность, претерпевающую апокалиптические метаморфозы и трансформации. И во многих произведениях Магрита, Дельво, Дали, Миро, Танги, Матта мы погружаемся в процесс этих трансформаций, переживаем их в себе. При этом Апокалипсис предстает здесь в своей евангельской амбивалентности и как предельно разрушающий относительно знакомое нам бытие-бывание до его глубинных метафизических оснований, и как преображающий его в нечто принципиально иное, на основе которого возникает новая красота, но уже иная. Возможно, именно ее ощущал еще Андре Бретон, когда в финале повести «Надя» дал определение сюрреалистической красоте: «Красота будет конвульсивной или ее не будет вовсе» (La beaute sera CONVULSIVE ou ne sera pas. – Breton A. Oeuvres completes. Vol. 1. Gallimard, 1988. P. 753).