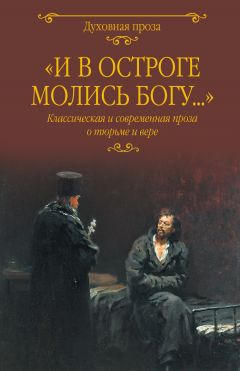
Автор книги: Владимир Короленко
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Совсем независимо от этого встрепенулось внутри полковника воспоминание, как поначалу гордился он своим «ноу-хау» – «доза в обмен на порядок», которым он так ловко лихого авторитета сначала нейтрализовал, а потом работать на себя заставил. Правда, совсем недолго эта радость длилась. И перестала длиться даже до того, как расстался Ираклий с жизнью.
На очередном совещании по специальным проблемам своего ведомства в ходе неформального общения с коллегами (в курилке, за бутылочкой после докладов-заседаний и т. д.) узнал полковник Холин, что никакого велосипеда он, приручив авторитета отравой, не изобрел. Оказывается, в некоторых других зонах такая практика уже давно существует. Более того, проворачиваются такие штучки куда изящней, чем делается это в лагере, руководимом полковником Холиным.
Заметно поскучневшим вернулся он с того совещания. И сейчас эту досаду, будто во второй раз, правда, уже на скорости, будто мимоходом, пережил.
Тем временем поколебались в пространстве, рассосались в никуда контуры, принадлежавшие грузину Ираклию. Вместо них на том же месте новый арестант обрисовался. Или то, что когда-то арестантом было, кого лагерь как Лешу Холодка знал. Последнего полковник Холин с трудом припоминал, ибо только один раз с ним встречался. Пришел к нему Холодок сам с неслыханно дерзкой по всем нормам (и по зэковским, и по мусорским) просьбой:
– Я… Это… Ну… Отпустите меня в отпуск… Мать померла… Похороню и – вернусь…
По закону имел арестант, даже на строгом режиме, право на отпуск. Появилось такое послабление в последнее время, в свете либерализации и демократизации, так сказать, общества. Только было это тем самым случаем, когда закон не работал. Ну какой здравый начальник зоны отпустит своего арестанта в отпуск? Ведь «в отпуск» – это значит на время на волю! Как эта воля на арестанта повлияет – непредсказуемо. Вдруг загуляет, раздумает в лагерь возвращаться. Или того хуже – новое преступление совершит. Да и просто вредна для зэка эта самая воля. Так что почти не практиковалось такого. Даже большие деньги редко соблазняли здесь самого жадного хозяина. А тут вдруг – «отпустите», «вернусь»… И от кого? От арестанта, у которого срок по «народной»? Тогда просто опешил полковник Холин от такого гремучего коктейля дерзости и наивности. Конечно, отказал. Не счел даже какие-то аргументы вразумительные приводить. Зачем аргументы? Ведь сказано в законе и всех к нему инструкциях и пояснениях: «на усмотрение администрации…» Вот администрация и усмотрела. Зачем арестанта волей развращать?
Больше того, нашел тогда полковник Холин вполне благовидный повод, чтобы ретивого подопечного прессануть. Дал команду выяснить, как зэк смог узнать, что мать умерла, ведь телеграммы об этом на зону не приходило. Понятно, арестант телефоном мобильным, в зоне строго запрещенным, пользовался. Естественно, грянул в бараке, где Холодок проживал, шмон неплановый. Естественно, и телефон нашли, и еще много чего из числа арестантских запретов. Естественно, за все это с того же Холодка блаткомитет и спросил. Потому как в итоге «общее» пострадало, а виноватым, понятно, Холодок оказался.
Такие перегрузки для психики, и без того наркотой подточенной, для арестанта непосильными оказались. Захандрил Леша Холодок. На промку перестал выходить, за что сразу изолятор огреб. Потом по пустяку с отрядником закусился. Потом… Словом – заколбасило арестанта. Хотел себя игрой отвлечь, да только навредил. Проигрался в дым, угодил в фуфлыжники. Потом – и главный итог обрушился. Обнаружили Холодка на пустыре за бараком в петле из веревки, что из цветных шнуров, с промки украденных, была сплетена. Еще теплого, но с жизнью уже расставшегося.
Такого жмура списать полковнику Холину труда не составило. Все логично: на воле наркотики употреблял, сел по «народной», в лагере дисциплину нарушал, а главное – неадекватно себя вел. Всех проверявших такие формулировки устроили. Никаких неприятностей по поводу того покойника не имел.
Теперь этот самый покойник перед ним – то ли стоял, переминаясь с ноги на ногу, то ли колыхался в воздухе. И голова, как и тогда, когда из петли вытащили, чуть набок. Ждал полковник Холин очередную порцию ругани и оскорблений получить, готов был и от более решительных действий уворачиваться. Зря ждал, зря готовился. Этот гость кротким оказался. Только покачал своей, теперь уже навсегда склоненной к плечу головой и обронил почти шепотом:
– А я бы вернулся… Я бы не обманул… Я бы сразу после похорон и вернулся…
Возможно, и еще что-то хотел сказать Леша Холодок или напомнить о чем, да как будто передумал. Махнул рукой, контуры которой, как и всей его фигуры, ясных очертаний не имела, и откинулся назад, словно спиной нырнул в стену, что увешана была чеканками, в том лагере на ширпотребке сработанными.
– Хорошо, быстро отговорился, – на автомате отреагировал полковник на все услышанное.
Хотел он что-то в свою очередь этому тихому гостю объяснить, да спохватился: чего с покойниками дискутировать, они объявятся и пропадут, если не навсегда, так на очень-очень долго, а нам, живым, жить и много чего еще успеть надо. На этот момент полковник Холин был еще непоколебимо уверен, что «жить долго» – это и к нему лично очень даже относится. Потому и навскидку вспомнилось в очередной раз, что предстоит в самое ближайшее время и храм в зоне, пусть с помощью спонсоров московских, поставить, и дачу свою собственную достроить. Невпроворот дел! Хорошо, что по времени два этих строительства совпали. Материалы под храм можно будет через управу выбить и… на дачу пустить. Выбить на храм лагерный. Пустить на дачу, свою собственную. Московские добродетели не узнают, а ему такая экономия в хозяйстве.
Как-то не вовремя и совсем не к месту все это вспоминаться стало. Потому что все яснее становилось, что дела его земные, известные – это одно, и это не так уж важно, а дела прочие, неизвестные, совсем не земные, – это другое, куда как более важное.
Все-таки блеснуло внутри что-то похожее если не на протест, так на тихое возражение против того, что сейчас на него необратимо накатывалось. И того, что здесь, с его точки зрения, аргументами в его пользу могло бы быть, хватало. Вернулась бы подвижность к руке, начал бы пальцы загибать:
– У меня же зона – лучшая в управе… С моей зоны – ни одного побега за последние десять лет… Мой опыт на кустовом семинаре изучали… Меня в УФСИНе знают…
Про деда Григория, грузина Ираклия, Лешу Холодка и прочих арестантов, что на тот свет ушли, пока он лагерем командовал, как-то не хотелось вспоминать. Чего их вспоминать? Арестанты – они как продукты на складе. Принимаешь один объем, сдаешь – другой. Понятно, поменьше. Усушка, утруска. Естественные, так сказать, потери.
Тем временем тот колпак, что упал на его плечи после стопки коньяка из заветного шкафчика, кажется, стал еще тяжелее.
К этому и другое неудобство прибавилось. Будто кто положил тяжелую и очень холодную руку на сердце. И давить вроде как не давил, но дышать уже через раз получалось.
Только и по этому поводу никакого огорчения не случилось, потому как необходимость в этом самом дыхании почти пропала. Только и успел полковник этому слегка удивиться: как же так – он ведь живой, он все понимает, все помнит, а в дыхании никакой необходимости… Будто это не главный жизнедеятельный процесс, а какая-то шутейная второстепенная забава.
Это и было предпоследним чувством, что испытал полковник Холин в своей жизни.
Предпоследним.
А последним чувством была очень тревожная уверенность, что сейчас для него, вокруг него и внутри него – все, решительно все, переменится. И едва эти перемены произойдут, с незваными гостями, что тенями нагрянули сегодня к нему, придется встретиться снова…
Серый и Бурый
Читал, слышал, догадывался, представлял, как скромен спектр тюремных красок, но чтобы так, чтобы настолько…
Собственно, никакого спектра здесь нет! Никакой радуги! Никакого охотника, желающего, во что бы то ни стало, знать местонахождение диковинной птицы! Никакого красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого… Только серый и бурый. Бурый и серый.
Ваше величество Серый!
Серая дверь с кормяком, через который три раза в день подают еду серого цвета. Серый стол. Серая лавка, намертво приваренная к столу и составляющая с ним единое, монолитное, опять же серое. Серые потолки. Серое одеяло.
Ваше высочество Бурый!
Бурые стены. Бурые полы. Кусок бурой кирпичной стены соседнего здания, что виден из крошечного окна и кроме которого из этого окна не видно ничего и никогда.
Серый и Бурый. Бурый и Серый. Два цвета. Два единственных здесь цвета. Только два цвета. И прочих здесь нет.
Верно, с воли сюда попадают предметы, окрашенные по-другому: желтая мыльница, зеленая шариковая ручка, какая-то пестрая, с оранжевым и фиолетовым обложка книги. Но эти цветовые пятна не выдерживают натиска Серого и Бурого. Два главных цвета-подельника их затирают, подавляют, забивают. Попадающим сюда вещам и предметам иных цветов не остается ничего, кроме как капитулировать-мимикрировать, уступая серо-бурому натиску. Уже через несколько часов они тускнеют, утрачивают яркость, обретают оттенки тех же главных цветов, наконец полностью сливаются с ними. Серый и Бурый сжирают и переваривают все прочие краски.
Кстати, случайно ли именно Серый и Бурый оказались здесь главными?
Что можно сказать о сером цвете? Цвет посредственности и уравниловки. Символ обезличивания. Отсюда и «серая масса», и «серая мышь» (не про грызуна, а про человека, понятно). Отсюда и брезгливо-пренебрежительная оценка всего нетворческого, неталантливого, скучного: серятина. Отсюда и убийственное тавро-характеристика-приговор необразованному, ничем не интересующемуся, неспособному к нестандартным мыслям и поступкам человеку: серая личность.
С Серым все ясно.
С Бурым все еще проще. Конечно, поэты вспомнят что-то про осенние листья. Только здесь не краски осеннего парка вспоминаются, а цвет запекшейся крови, цвет панорамы мясных лавок, цвет анатомических манекенов. Неласковый цвет. Отталкивающий цвет. Недобрый цвет.
Уверен, не случайно Серый и Бурый здесь командуют и диктуют. Не сомневаюсь, это сознательно тщательно организованная диктатура. Диктатура цвета в усиление диктатуры несвободы. В довесок к приговору. Неважно какому: приговору судьи или приговору судьбы.
По большому счету диктатура Серого и Бурого – это та же пытка. Изощренная и бесчеловечная. Способная успешно конкурировать с пыткой светом (описана даже в литературе), пыткой звуком, пыткой болью.
Впрочем, для кого-то это пытка, наказание, мука, а для кого-то – пустяк, внимания недостойный. Пустяк – не потому, что эти люди своей волей и своим мужеством превозмогают это, а потому, что они просто… не понимают и не чувствуют этого. Не чувствуют и не понимают. Такое у них внутреннее устройство, такая у них конструкция души.
Я попытался поделиться своим открытием-откровением по поводу главенствующих здесь цветов с двумя из своих соседей.
Первым, до кого я донес эту, как мне казалось, очень важную информацию, был Сашка Террорист, вроде бы разумный мужичок, ни внешностью своей, ни биографией ничего общего с полученной здесь, в бутырских стенах, кличкой не имеющий. Он выслушал, не перебивая, но ничего не ответил. Похоже, он просто не понял, о чем шла речь, а ведь я рассказывал про ту обстановку, в которой он прожил уже полгода, которую он должен был чувствовать, да что там чувствовать – должен был бы страдать от нее. Именно страдать, потому что всякий человек, лишенный привычного, данного Богом и природой спектра красок, не может спокойно это переносить, потому что он прежде всего – Человек.
В Бутырку Сашка попал по «трем гусям». Так на тюремном арго называют статью 222 Уголовного кодекса нашего государства – «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Оригинальным своим названием статья обязана своему номеру. По написанию, действительно, каждая двойка чем-то напоминает известную птицу с длинной шеей.
Согласно милицейским протоколам, купил Сашка в каком-то ларьке боевые патроны. Сам он твердо уверен, что ничего подобного не было и быть не могло, но подробностей не помнит по причине непотребно пьяного своего состояния в тот момент. Нынешние соседи Сашки, бывалые, уже успевшие изучить нравы современных правоохранителей, не сомневаются, что он нарвался на мусорскую провокацию, на контрольную закупку для «палки» (так сами полицейские называют раскрытое преступление).
Ситуация комедийно-трагическая. Не охотник, не стрелок, не владелец оружия, наконец, просто совершенно не имевший на тот момент денег, очень и очень пьяный человек вдруг покупает патроны. Да и с каких пор в пивных ларьках начали торговать боеприпасами?
Кстати, прежде чем вляпаться в «патронную» историю, Сашка не просто напился, он пил больше недели. Пил основательно, потеряв ощущение пространства, времени и здравого смысла. Курсировал в полусознательном состоянии между Москвой и родным своим Дмитровом, пил с кем попало, что попало, на невесть откуда появлявшиеся деньги. В пик своего запоя он и был арестован при якобы попытке купить эти самые треклятые патроны.
Кстати, оказавшись в Бутырке, Сашка пережил приступ ему ранее уже знакомой «белочки» – болезни, более известной под названием белая горячка. Классический приступ. Классической «белочки». С видениями, с голосами, с кошмарами. Тогда ему всерьез казалось, будто присутствующая на нем одежда кишит пауками, червями и змеями, будто нечисть эта вот-вот начнет покушаться на его тело. В порыве ужаса, ненависти и еще каких-то ведомых только ему одному, но очень сильных чувств брюки, пиджак и рубаху он разорвал на самые ничтожные клочки и ленточки, после чего ощутил себя победителем и… успокоился. В камере я застал его читающим все подряд, что он смог рядом обнаружить, умиротворенным, вполне разумным. Тем не менее моих рассуждений на тему Серого и Бурого он не понял.
И с другим моим соседом по бутырскому пространству разговора о скудности тюремной палитры не получилось. Леха Ивановский, он же Ткач, он же Губастый, также не понял самого предмета разговора. Наверное, на это были у него свои причины. В отличие от Сашки Террориста до момента потери своей свободы жил он более чем благополучно. Работал в Москве в каком-то текстильном институте. Считался специалистом в ткацких станках и прочих механизмах этого профиля. Чинил, налаживал, модернизировал. Хорошо зарабатывал официально, имел заказы со стороны, плюс ко всему удачно браконьерил – ловил сетями рыбу на Волге, на своей малой Родине где-то под Иваново. Выпивал умеренно и редко. Но в один из этих редких дней угораздило ему оказаться с баночкой пива у станции метро. А еще по стечению обстоятельств оказалась одетой на нем по случаю приобретенная военного образца куртка. По другой случайности обнаружился рядом с такой же баночкой пива в руках и так же под градусом мужик, некогда оттрубивший в Афганистане по максимуму и которому в этот момент приспичило поинтересоваться: «Не воевал ли ты, парень, в Афгане?» «Нет», – честно ответил Леха и сразу же схлопотал длинную тираду о том, какой он неправильный и что ему, в Афганистане не воевавшему, носить подобную куртку просто не положено…
Слово за слово, разговор в драку перешел, а у Лехи в кармане той самой куртки оказался нож. Не тесак-свинорез. Не финка из рессоры. Не «бабочка» с фиксированным лезвием. Обычный складной ножичек. Якобы швейцарский (имелся белый крест на характерных красных пластмассовых щечках), наверняка китайский, сляпанный узкоглазыми умельцами из далеко не лучшей стали где-то в закоулках Поднебесной.
Его то и выхватил Леха в самый критический момент выяснения отношений с «афганцем». Выхватил и пустил в ход, после чего у его оппонента появилось несколько проникающих ранений, «в результате которых оказались поражены важные жизнеобеспечивающие органы».
Сейчас Алексей и сам не знает, как все это стряслось-случилось. Страшно боится, что порезанный им радетель «афганского братства», до сих пор находящийся в больнице, умрет. Тогда и его статья УК будет строже, и срок, ему светящий, станет длиннее.
Впрочем, ситуация у Лехи была житейская, про которую, пусть с натяжкой, можно сказать: «На его месте мог бы оказаться каждый». Так что по «делюге» у меня к нему никаких вопросов нет и никаких отторжений (так и хочется ввернуть модное слово) не наблюдается. А вот по мироощущению своему, по ценностям своим этот человек мне откровенно неприятен. Дня не проходит, чтобы поступками своими или откровениями Леха не напомнил, что мы – не просто разные люди, а продукты двух если и не агрессивно враждебных друг другу, но совершенно противоположных по сути систем.
Только вчера позволил он себе фразу из считаного количества слов, но характеризующую его куда более емко, чем все характеристики, ранее написанные на него учителями, начальниками, командирами, а теперь еще и милицейскими специалистами. Даже дюжины слов не было в том откровении: «Я художественных книг не читаю, пустое это дело, я се́мью кормлю…»
Ударение в слове «семья» было сделано именно на первом слоге.
По поводу «художественных книг» – здесь все ясно, что же касается второго тезиса, то здесь он просто соврал. Своей семьи у него, несмотря на то что вступил в четвертый десяток, нет. Живет с матерью, оборотистой, битой бухгалтершей, зарабатывающей куда больше, чем сын.
Неделей раньше Леха не нашел ничего лучшего, кроме как установить фотографию своей невесты – не невесты, сожительницы – не сожительницы, словом «дамы сердца» – работницы того же текстильного института, в котором работал, на одну полочку, где до этого стояли только иконы. Три бумажные, размером меньше открытки, оставленные там прошлыми, уже отбывшими на этапы, обитателями этой хаты: Иисус Христос, Николай Угодник, Матронушка Московская и моя, еще меньшая по размеру, деревянная: Богоматерь Владимирская. К последней у меня отношение более чем трепетное. Ее написал и подарил мне племянник-иконописец лет пятнадцать назад. Икона много где побывала со мной, в том числе и в двух предыдущих столичных судебно-следственных изоляторах, откуда начиналась моя арестантская биография. По неоговоренной, как-то само собой сложившейся традиции, эту полку никто никогда ничем не занимал, и вдруг… розовая щекастая баба с соломенной челкой и глазами навыкат.
Тогда я, кажется, собрал в кулак все самообладание, чтобы не отправить эту ткачиху-ударницу (как я мысленно окрестил избранницу Лехи) в дальняк (так на тюремном арго называют имеющийся в камере туалет, точнее канализационное отверстие с едва обозначенным местом для постановки ног). Еще больше потребовалось сил, чтобы объяснить обладателю фотографии саму невозможность подобного соседства.
«Любимый образ» убрал, но комментарии мои выслушал молча с лицом недобрым, а главное, мало что понимающим.
И вот этому человеку объяснять, почему в обстановке, которая ныне окружает и его и меня, преобладают, царствуют, беспредельничают Серый и Бурый? Нет никакого желания! Трижды уверен, что он просто не поймет, о чем вообще идет речь.
Не поймет… А, может быть, здесь и не надо ничего понимать, и не надо зацикливаться на том, какого цвета декорации тебя окружают. Может быть, вообще не обращать на это внимания – и это нормально, правильно, а вот ломать голову над тем, сколько кругом Серого и Бурого и почему нет других цветов – ненормально, неправильно? Может быть, я вообще не то чтобы схожу с ума, но тихо утрачиваю часть своей нормальности и первый признак этого недуга – столь болезненная реакция на ущербность окружающей цветовой гаммы?
Что касается моей нормальности и ненормальности – время покажет, а вот что касается Серого и Бурого, то давно испытываю желание писать два этих слова с большой, заглавной, прописной буквы. Именно так и пишу: Серый и Бурый, Бурый и Серый. Не то чтобы эти слова близки к именам человеческим, но на клички, или, как здесь говорят, на погоняла, очень смахивают. Будто речь идет о двух подельниках. А если подельники – значит, имело место что-то недоброе, неправильное, что натворили этот Серый и этот Бурый. Соответственно, придется им за это когда-то отвечать, расплачиваться.
Пожалуйста, подождите…
Ушедший вместе с облаком
Как только поднялся Никита Костин из карантина на барак, снова перебрал все свои обретения и жизненные перспективы. Вспоминал, думал, прикидывал. Кубатурил, как на зоне говорят. Пришел к выводу жуткому.
– А Бога-то – нет! – про себя сказал, но едва мысленно завершил страшную фразу, озабоченно оглянулся. Будто выискивал тех, кто мог подслушать его непроизнесенное дерзкое откровение.
Еще и голову втянул так, что подбородок уперся в воротник новой, нестираной и потому стоящей колом, арестантской робы. Словно ждал, что громыхнет сверху или накроет чем-то тяжелым.
Не громыхнуло и не накрыло. Наверное, «сверху» было видно, что сейчас этого человека, даже за такое грубое богохульство, карать нельзя.
Потому как все его обретения и жизненные перспективы, по поводу которых он только что нервно кубатурил, представляли на сегодняшний день непроглядную смесь из беды и горя.
Безо всякого, хотя бы ничтожного, вкрапления чего-нибудь светлого и хорошего.
Только за последние полгода, что уже выдрала из биографии неволя, три события полоснули его душу, оставляя раны, которым и рубцами стать предстояло еще нескоро.
Через два месяца после ареста умерла мать. То ли окончательно сраженная переживаниями за всю выпавшую сыну несправедливость. То ли просто исчерпал запас хода ее организм, надсаженный честным трудом на совхозных и личных грядках.
О смерти матери он узнал окольными путями (по мобиле, строго запрещенной в стенах следственного изолятора, но без которой жизнь этого изолятора представить нельзя) только спустя неделю после похорон. Телеграмму, посланную в СИЗО родственниками, ему не передали. Тюремная администрация, посоветовавшись со следаками, что вели его дело, решила: не надо нервировать подследственного, вдруг начнет буйствовать или откажется от показаний, с таким напрягом из него выбитых.
По тому же каналу докатилась до Никиты еще одна новость: отец его, едва похоронив жену, люто запил, пил две недели, пропил все, что можно поднять и вынести, а на финише запоя спутался с Танькой-соседкой, промышлявшей самогонным ремеслом. Многое мог Никита понять, соответственно простить, но чтобы отец… с Танькой? С Танькой, о которой весь поселок говорил, сколько он себя помнил, что она на передок слаба, что в самогон для крепости бросает окурки… не получалось понять!
Чуть позднее письмо от жены пришло. Короткое, как статья в кодексе. Строчки по пальцам сосчитать можно.
«Извини, давай без обид. Не вытяну. Ждать не буду. Уезжаю к матери. Игорька забираю. Все бумаги тебе потом вышлю. Выйдешь – все с чистого листа начнешь. Может быть, лучше получится…»
Читал – комками давился. Каждая строчка – что удар оперов, когда признания выколачивали. Под дых, в грудину, по шее, по печени. Синяков не остается, а сердце заходится, того гляди, выскочит.
Конечно, задумывался над всем этим, задавал сам себе вопросы, главным из которых был не «за что?», а «почему именно мне столько?» Ответов не находил. Потому что все беды, настигшие его после ареста, при всей своей жгучести, все-таки как-то сникали и жухли рядом с самым главным фактом всей его жизни. Факт этот был черен, тяжел и не вписывался ни в какие привычные параметры времени и пространства. Заключался он в единственном: ближайшие двадцать лет своей биографии (возможно, и последние, с учетом средней продолжительности жизни в любезном Отечестве, с поправкой на условия существования за колючкой и т. д.) придется провести ему в неволе.
Двадцать лет… Перевести в месяцы – двести сорок. Это уже в голове не укладывается. На дни лучше не переумножать – крышу снесет напрочь. Полученное число непременно на цифры распадется, а эти цифры сложат могучие жернова, которые тебя во что-то несущественное разотрут. Вот где корень некогда случайно услышанного выражения – «пыль лагерная».
Делюга Никиты Костина по нынешним временам вполне претендовать могла на типичный пример мусорского беспредела, когда на одного человека вешалось столько, сколько на дюжину матерых преступников хватило бы. По такому сюжету хоть сейчас сценарий для сериала душещипательного сляпай – кассовый сбор гарантирован.
Присутствовало в этой делюге и мошенничество с квартирами, и убийства людей, в тех квартирах когда-то проживавших, и еще многое, от чего закатывают глаза и переходят на свистящий шепот женщины на лавочках у подъезда. Это согласно мусорским бумагам.
На самом же деле правды в тех бумагах была лишь доля процента.
С квартирами, верно, мухлевал. Было дело, бес попутал: захотелось легких рублей, охомутали черные маклеры. Что же касается жмуров и всего остального – ложь, подстава оперская. К убийству прошлых хозяев квартир, которые через него проходили, он никакого отношения не имел. Да и не мог иметь в силу совокупности всех своих внутренних качеств. С малолетства был он твердо уверен, что человеческая жизнь – это очень серьезно и, чтобы один человек у другого ее забрал… нужны для этого сверхубедительные причины, типа войны или защиты близких своих.
Только следакам из бригады, что занималась делом Никиты Костина и его коллег по риелторской конторе, на подобную лирику было плевать. Для них главным было с резонансным делом закончить в срок. Они и закончили. Отчитались, отрапортовали. Очередные звания, должности, премии получили. А Никита Костин по итогам всей этой возни получил двадцать лет строгого режима, которые по сей день в голове у него не просто не укладывались, а тяжело ворочались и натужно топорщились. Отсюда и состояние, к сумасшествию близкое, отсюда и вывод недавний, страшный и богохульный.
«Нет Бога!» – еще раз повторил Никита. Уже не про себя, а тихим шепотом. Уже не оглядывался по сторонам и не втягивал голову в воротник робы.
Снова не накрыло, не грянуло…
И вообще ничего после этих уже вслух произнесенных жутких слов не случилось. Так же мельтешили по сторонам фигуры арестантов, готовящихся к вечерней проверке, так же тлела хилым языком фиолетового дыма сигарета в его руке.
«Значит, так оно и есть… Значит, и надеяться не на что… Надеяться не на ближайшее время, а вообще…»
Заюлили в голове несложные кусочки мыслей в развитие ранее сделанного жуткого вывода.
А следом размеренно и необратимо снова грянули те слова, которые раньше сам себе не мог сказать и от которых голова непроизвольно в плечи втягивалась. Под их ритм и все остальные, очень немногие в зоне звуки подстраиваться начали.
«Бога – нет!» – безучастно вытикивали часы на стене барака.
«Бога – нет!» – пронзительно выскрипывал верхний шконарь под отсыпавшимся после ночной смены соседом.
«Бога – нет!» – тупо выстукивали коцы по схваченному морозом лагерному плацу.
Потом вроде и звуков никаких не звучало, а слова эти нехорошие сами по себе уже жили внутри и тихо, но настырно поколачивали в виски.
Возможно, подчиняясь их ритму, стоя на вечерней проверке, начал Никита тихонько с пятки на носок переминаться, покачиваться. Заодно и чтобы согреться, потому как затянулась проверка и холод ноябрьский, к которому тело, еще не отвыкшее от летнего тепла, было не готово, о себе напоминал.
В момент одного из таких покачиваний Никита Костин вдруг испытал желание оттолкнуться чуть сильнее. Так и сделал, глубже вдохнув перед этим, отведя лопатки назад и подавшись нутром вперед, как это делает поднимающийся с глубины ныряльщик.
Дальше случилось то, что заставило его здорово и удивиться и испугаться, потому что в тот самый миг вдруг увидел он себя сверху, с высоты приблизительно еще одного своего роста.
Будто кто-то большой и сильный вытащил Никиту Костина из его оболочки, из тела, обряженного в робу и телагу, и подвесил его над всем этим.
Осторожно, словно страшась спугнуть что-то уже наступившее, но еще не осмысленное, покрутил он головой. Увидел то, что и должен был увидеть. Справа – Леху Мультика, тот умудрился закурить в строю, воровато пуская дым в рукав телаги. Слева – Ваську Цыгана, который по обыкновению «гнал», то ли вспоминая что-то из своего счастливого торчкового прошлого, то ли заглядывая в свое не менее счастливое и такое же непременно торчковое будущее.
Чувствовал Никита, как вращает головой, мышцами шеи чувствовал, отмечал про себя, что меняется перед глазами, в то же самое время… видел себя самого с высоты своего роста. Видел, как стоит он в шеренге солагерников, как поворачивается его голова, прикрытая сдвинутой на затылок зэковской ушанкой.
Страх по поводу всего происходящего куда-то ушел, любопытства прибавилось. Все это любопытство легко помещалось в единственном вопросе: дальше-то что будет? Потом к любопытству прибавилось что-то похожее на ощущение великой усталости, будто разом заныли все, до этого неистово трудившиеся мышцы.
«Возвращаться пора!» – кто-то шепнул глубоко внутри.
И все вернулось.
И себя со стороны и сверху больше не видно было.
Только ощущение усталости осталось, и сладкое воспоминание о полете и парении сохранилось.
О том, что во время той проверки случилось, ни с кем Никита не поделился. Понимал, что с такими рассказами запросто можно в сумасшедшие загреметь, в ту категорию, о которой в лагере пренебрежительно и обреченно, махнув рукой, говорят: «Да у него гуси полетели…» Да и как делиться, когда сам Никита не мог ни понять, ни объяснить, что же с ним тогда приключилось.
Объяснить он этого, действительно, не мог, но чутьем особым, которое даже не в каждом арестанте просыпается, а вольному человеку и вовсе неведомо, понимал, что все Это – серьезно, что Это – дано свыше, что распорядиться Этим – надо исключительно правильно.
Когда-то на воле он что-то читал и про астральное тело, и про левитацию, и про полеты души отдельно от тела. Еще что-то на эту тему с жаром, но очень туманно ему паренек в изоляторе рассказывал (на воле йогой увлекался, а сел, понятно, по «народной»[18]18
Народная статья – статья 228 УК РФ (незаконное производство, сбыт, нарушение правил оборота… наркотических средств).
[Закрыть]). Только благодаря чутью открывшемуся уверен был Никита, что копаться во всем прочитанном и услышанном сейчас не резон, только время терять, что только ему самому распоряжаться всем этим.
И ведь было чем распоряжаться.
«Значит, открылось… Значит, пришло… Значит, хотя бы что-то, чтобы двадцатку по беспределу плюс прочие пинки судьбы уравновесить… Только не спешить…Только горячку не пороть… Только на мелочи этот дар не разменять…»









































