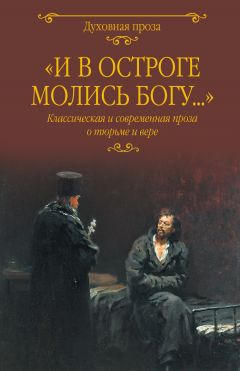
Автор книги: Владимир Короленко
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Последний этап
Всю жизнь его звали Костей.
И в пять лет, когда его, кудрявого и большеглазого, хотя бы родители могли называть Костиком.
И в тридцать, когда окружающим полагалось бы употреблять сдержанно серьезное – Константин.
И в нынешние его пятьдесят восемь, когда всех его ровесников уже давно величали с пиететом по имени-отчеству.
Костя так Костя.
Претензий у него не было. Да и откуда взяться этим претензиям? В пять лет ему было все равно, как к нему обращаются, а потом… Потом по этому поводу ему было более чем все равно. Уже так случилось, что добрые две трети жизни Константина Усольцева прошли на зонах, в тюрьмах да на этапах. А там к человеку и вовсе не часто обращаются, а если и обращаются, то слишком специфически. Те, кто в погонах – исключительно по фамилии, те, кто соседи (по бараку, по камере, по купе в «столыпине»[24]24
«Столыпин» (жарг.) – железнодорожный вагон для перевозки заключенных.
[Закрыть]) – те, как испокон века в арестантской среде принято, по кличке. В лучшем случае, независимо от возраста, по имени.
Костя так Костя.
В лагерях бывало и так, что человек и три года сидел, и пять, и весь срок отбывал, а его имя и отчество только два-три близких соседа знали. Все остальные кличкой-погонялом обходились. Все прочие обращения, по сути, вообще невостребованными оставались. Кто же этому удивляться будет? Вовсе не принято в тех местах ничему удивляться. И Константин Усольцев не удивлялся, не задумывался, не заморачивался, как здесь говорят. Как не задумывался, что то ли пайка, то ли доза жизни, свыше ему отпущенная, уже закончилась и что пришло время собираться в тот последний, то ли заоблачный, то ли просто загробный этап. Правда, «этап» здесь слово не совсем уместное. Про тот этап, что из тюрьмы на зону или из лагеря в лагерь, всегда предупреждали: когда с вечера – чтобы к утру был готов, когда утром – чтобы к обеду успел собраться. А тут – никаких предупреждений, никаких сборов. Просто упала откуда-то из очень высокого далека команда, что улавливалась не слухом, а внутренним чутьем, и было в этой команде единственное слово – ВСЕ!
Эта самая команда с этим самым единственным словом грянула, когда Костя вышел из барака на плац покурить. Мог бы и в бараке покурить. Весь барак круглые сутки смолил, не поднимаясь со шконок, и он так всегда делал. А тут будто что внутри торкнуло – выйди, обязательно выйди!
Вышел Костя на плац, а закурить у него и не получилось – кольнуло в сердце. И в двадцать так бывало, и в тридцать, а уж после сорока на подобные пустяки и внимания не обращал. Понимал, что тут и вся выпитая водочка аукается, и весь употребленный чифир привет передает. Сердце – оно и есть сердце. «Покалывать ему просто положено, чтобы о своем наличии-присутствии давать знать», – всегда незатейливо рассуждал в подобных случаях Костя. И всегда ведь отпускало.
В тот раз кольнуло и не отпустило. Будто кто-то холодный и тяжелый штырь одним молниеносным ударом вогнал в левую сторону груди и держит его там, не вытаскивая и не поворачивая. А в висках ранее нутром услышанная команда затараторила: ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…
Понимал Костя, что умирает, а ни страха, ни горечи в этот момент не испытывал. Где-то он читал или от кого-то слышал, будто в подобные моменты перед человеком в считаные мгновения вся жизнь проходит, будто кто с бешеной скоростью кино, про него снятое, прокручивает. «Вот, – удивлялся Костя, – кольнуть-то – кольнуло, крепко кольнуло, наверное, умираю…»
А кино это не прокручивают, словно сеанс отменили.
Впрочем, про кино это он только мельком, краешком памяти вспомнил, а на передний план в этой самой памяти какие-то несуразные пустяки полезли. Вспомнил, что блок фильтровых сигарет Кирюхе Белому с пятого барака он так и не вернул (нехорошо после себя долги оставлять). Еще вспомнил, что бельишко на нем, того, не совсем свежее. Опять нехорошо, ведь принято дела земные в чистом исподнем завершать. Должны были вчера в баню вести, пятница – помывочный день для его отряда, а вода горячая отключилась – перенесли помывку с пятницы на понедельник. От всего этого что-то похожее на беспокойство внутри мелькнуло. Правда, беспокойство это было тихое, легкое и какое-то совсем неблизкое.
Зато вспомнил то ли представил, со всей пронзительной отчетливостью, что на сегодняшний день ни в России, ни на Украине – две страны, между которыми плескала его судьба последние тридцать лет, – ни близких, ни родственников у него нет. Оно вроде и грустно, а с другой стороны – очень даже хорошо: никому никаких огорчений, никому никаких хлопот. Последнее слово в нынешних условиях особый смысл имело. Труп из зоны забрать – дело хлопотное: и бумаг массу собирать надо, и по чиновничьим кабинетам ходить, подписи собирать. Мало не покажется. Ну и хорошо, и слава Богу, что один…
Только и успел Костя ухватиться за волейбольную стойку, но ухватился как-то неуклюже, со стороны казалось: то ли пьяный столб обнимает, то ли человеку в черной телогрейке приспичило малую нужду посреди лагерного плаца справлять. Оказался рядом Серега Армян, заготовщик со второго отряда. Присмотрелся, ближе подошел: «Ты чего, Костя?» «Уйди», – только и выдохнул Костя, а сам стойку все крепче обнимал и по ней все ниже сползал.
Еще раз вспомнил он про расхожее мнение, будто перед смертью вся прожитая жизнь перед умирающим пролетает, и снова с грустным удивлением отметил: «Вот помираю, а кино все так и не крутят». Словно огорчившись за отмененный сеанс, сам попытался вспомнить прожитое. Только не складывалось. Наугад выдернулись из этого прожитого две не связанные между собой ни временем, ни смыслом картинки.
Первая – как мать его в тазу моет. Лет ему совсем немного, не более трех, потому что помещается он полностью в небольшом тазу, а таз этот стоит на двух табуретках, что одна на одну поставлены. «С гуся вода, с Кости худоба», – приговаривает мать и поливает его из алюминиевого ковшика теплой, ласковой водой, от которой телу и щекотно, и приятно.
Моет его мать, а из-за перегородки музыка доносится, хотя и не музыка это еще, а набор звуков: скрипы надрывные вперемешку со всхлипами и повизгиванием. Это брат, что старше его на пять лет, скрипку мучает. Да нет, все-таки, наверное, не мучает, а уже играет, потому что инструмент этот вскорости стал его профессией, делом его жизни. Училище, потом консерватория, потом концерты, гастроли. Правда, обо всем этом Костя только потом и как-то урывками узнавал, а последние пятнадцать лет между ним и братом и вовсе пустота, молчание, неизвестность. Писал он пару раз – письма возвращались со штампом «адресат выбыл». Верно, вспоминал Костя брата, но больше из-за любопытства (жив ли, нет, как жизнь сложилась, как родительским домом распорядился), да и практический интерес присутствовал (вот бы посылочку к Новому году сварганил, да и перевод на нужды насущные не помешал бы). А последние годы и не вспоминал, как-то не складывалось, что-то не находилось места для брата среди прочих дел и забот, как, впрочем, и для всех других уже немногочисленных, вдрызг состарившихся родственников. Такой порядок Косте Усольцеву вполне естественным представлялся: у них своя жизнь, своя судьба, а у него и жизнь, и судьба совсем иные, другого цвета, разряда и вкуса.
И другую картинку из памяти выстрелило. Ему ближе к тридцати, он сильный, красивый, удачливый, в руки только-только фарт пошел. Куролесил он тогда по всем просторам еще бескрайнего Отечества, упивался воровской удачей и всеми удовольствиями, что с ней в неразрывной связи находятся. Оказался он как-то по своим гастрольным делам в большом городе, выпало там познакомиться с женщиной-виолончелисткой. Профессорская дочка (папаша тоже по музыкальной части отметился), молодая, красивая, очень даже обеспеченная, и за границу с оркестром, бывало, выезжала, и ученики, кому она частным делом преподавала, у нее не переводились. Сошелся с ней Костя. Его тюремное прошлое и воровское настоящее виолончелистку, Катей ее звали, вовсе не смущали. Ей, похоже, даже нравилось, что рядом мужчина, который хотя и не ходит каждый день на работу, но всегда при деньгах, с которым и на улице надежно, и в постели отчаянно весело.
Месяца на два завис Костя Усольцев на профессорской квартире. Утром Катя по своим музыкально-виолончельным делам (консерватория-филармония), а он – по своим, не менее важным, воровским (вокзалы-магазины). Вечером встречались, темы для разговоров находились, да и тянуло их друг к другу с немалой силой, как женщину к мужчине, мужчину к женщине. Бывало, иногда Катя что-то по своей музыкальной части дошлифовывала, доделывала у окна с нотами, со своим инструментом, который Костя полушутя-полусерьезно называл «контрабасом со смычком». Слушал Костя, но не столько музыкой наслаждался и даже брата при этом не вспоминал, сколько собой любовался. И все у него на это основания были. Не сильно образованный (восьмилетка на воле, десятилетку на зоне окончил), три ходки за плечами, ни кола ни двора за душой, а вот тебе – обитает в квартире, где на стенах картины в золотых рамах, обласкан хозяйкой по высшему классу и плюет на всякие условности, связанные с отношениями полов и прочие глупости.
Два месяца приобщался Костя к высокой виолончельной музыке, а потом… затосковал. И в одно прекрасное утро, едва захлопнулась за Катей дверь, собрал все, что было ценного в доме и что в компактную спортивную сумку помещалось (не любил он большого багажа и всегда старался, чтобы одна рука была полностью свободной), и рванул прочь из того города.
Удивительно, но никогда больше не вспоминал Костя ни Катю-виолончелистку, ни замечательную ее квартиру, в которой золото багета на стенах перекликалось с золотом книжных переплетов в дубовых шкафах. Наверное, это величавое темное золото и было главным и самым явственным в этой второй картинке, что его угасающая память, будто наугад, из себя выдернула.
Быстро кадры-воспоминания в его сознании проплыли, и все на одном дыхании. В самом прямом смысле привычного этого выражения, потому что как затаил дыхание Костя, когда сердце кольнуло, так и остался недышащим. И вдыхать боялся, и выдыхать до конца жутко было, потому что точно знал: попробуй вдохнуть или выдохнуть – еще больше увеличится в размерах тот штырь, что воткнулся в левую сторону его груди, и еще холодней от него внутри будет.
И третья картинка сложилась в его перестающей различать цвета и звуки памяти. Только была она не из прошлого, а вроде как из почти будущего, из того, чего еще не было, но что обязательно произойдет, наступит, случится и о чем он как будто во всех подробностях уже знал. Да и не картинка это даже была, а отдельный сюжет: то ли самостоятельный модернистский короткометражный фильм без начала и конца, то ли отдельный, наугад вырезанный кусок из большого кино, в котором есть пролог и эпилог. В этих кадрах узнавались и кусок желто-серой стены барака, и участок серо-черного лагерного плаца, и серо-зеленая волейбольная стойка, и сам он, медленно оплывающий по этой самой стойке. Бежали кадры дальше, и снова Костя видел себя самого, уже не сползающего по злополучной стойке, а лежащего рядом в самой неестественной позе: нога неуклюже подвернута под себя, а рука нелепо выброшена в сторону. Следом в этой хронике неслучившихся событий возникли два шныря-санитара из лагерной санчасти со складными брезентовыми носилками, вроде как суетливо подбежавшие и в замешательстве остановившиеся. Тот, что постарше и повыше, кивнул тому, что моложе и коренастей: «Можно не спешить, сходи за мешком».
Кадром позднее этот самый черный мешок, что похож на громадный плащ свободного фасона, надевают на него. При этом еще не застывшие, неудобно раскинутые нога и рука просто впихиваются, заталкиваются, втаптываются в этот плащ-мешок, и его тело безропотно принимает габариты и очертания, этим мешком навязанные.
Еще видел Костя, как будто издали, с небольшой высоты и чуть сбоку, аккурат словно из окон барака, что занимал его отряд, как, докурив одну сигарету на двоих, шныри-санитары понесли его, упакованного в этот диковинный то ли плащ, то ли мешок, в сторону санчасти, до которой рукой подать и корпус которой с любой точки плаца был одинаково хорошо виден. Но почему-то очень скоро скрылись из виду, растворились, впитались в неяркие лагерные декорации, в которых преобладал серый цвет, безжалостно подавляя все прочие цвета.
Зато на том самом месте, где только что курили шныри-санитары, по очереди затягиваясь одной сигаретой, возникла внутренность секции барака, в котором обитал Костя с самого начала срока, и его шконка, с которой было снято все, что в последнее время являлось постелью для него. Матрац, подушка и заношенное до толщины промокашки одеяло лежали рядом на полу, скатанные традиционным арестантским образом, а простыня и наволочка делись неизвестно куда. В итоге шконка представала в самом неприглядном виде, непристойно растерзанном, выставив на всеобщее обозрение свои изрядно искореженные и погнутые ребра-полосы и неряшливую требуху шнурков и веревочек, которыми эти погнутости по обыкновению вечно пытались выпрямлять арестанты. Словом, совсем голая, ничем не прикрытая арестантская койка. Его, Кости Усольцева, койка! И сидели теперь на ней его ближайшие по бараку соседи. Чифирили. Гоняли по кругу видавшую виды эмалированную трехсотку с ручкой, которая была обмотана красными нитками, прихваченными с промки. Два маленьких глотка отдающей в кислоту горечи – передай другому.
«Меня ведь поминают», – без горечи и даже без удивления подумал Костя. Собственно, даже и не подумал, ибо думать у него в это время уже не получалось. Просто бледная зарница мысли промелькнула в его сознании.
А само сознание отключалось, сворачивалось, становилось частью чего-то безграничного и непроницаемо черного.
И боли в сердце уже не чувствовалось, будто кто-то вытащил тот большой и холодный штырь. И потребность вдохнуть-выдохнуть куда-то делась. Словом, умер Костя Усольцев.
Ровно через час произошло все, что ему грезилось, когда он на последнем своем дыхании сползал по волейбольной стойке на лагерном плацу. Сначала отрядный козел Леха Рыжий снял с его шконки стандартную, общепринятую табличку (ФИО, дата рождения, статья УК, начало-окончание срока). Потом отрядный шнырь Ромка Железо содрал с нее и куда-то унес простыню и наволочку. Затем кто-то из соседей скатал машку – говоря лагерным языком, закрутил в трубу матрац, одеяло и подушку. Еще через час на его голой шконке с неприглядно обнажившимися железными полосами, продавленными, переплетенными шнурками и веревками, сидели его ближайшие соседи. Тянули по кругу из эмалированной трехсотки отдающую кислинкой чифирную горечь и перебрасывались неспешными фразами. Говорили о пустяках. Костю вспомнили только один раз, в самом начале, когда кружку с ручкой, обмотанной красными нитками, вынесенными с промки, только запустили по кругу…
Бегу, и волосы назад!
И двух суток не прожил на свободе Игорь Крошин.
Прямо на вокзале встретили его друганы, с кем он за время своих московских приключений перед посадкой скорешиться успел. Тормошили, хлопали по спине и плечам, говорили, перебивая друг друга:
– Успеешь ты в свою Белоруссию…
– После хозяина обязательно отдохнуть надо…
– Шашлычок сбацаем, а вечером – баньку, шмар выпишем…
– Тормознись на пару деньков, расслабишься…
Он и тормознулся, он и расслабился.
До глубокой ночи вольной едой себя радовал, водку хлестал, с девкой, что друганы специально для него купили, тешился.
Уже ближе к утру взбрело еще и… уколоться.
Чтобы сознание раздвинуть, чтобы свободу по полной программе прочувствовать.
Ему и это организовали, а там… То ли сердце было уже водкой перегружено, то ли «лекарство» некачественным оказалось. Словом, не смогло сердце вместить сразу большую дозу воли, отказало это сердце – умер Игорь Крошин, так и не доехав до своей Белоруссии, где своего-то уже мало чего осталось. Где жена, что развелась с ним, едва он сел. Где дочь, уже поверившая с помощью мамы и бабушки, что папа – плохой, так как в тюрьму хороших людей не сажают.
Возможно, мы в лагере даже раньше, чем родственники, про смерть Игоря узнали. Спасибо мобильникам, которые в любой зоне запрещены, но которыми нынче арестанты во всякой колонии обязательно пользуются.
Возможно, и горевали мы искренней и сильней, чем те люди, что законом обозначались умершему как самые близкие.
По арестантской традиции чифирнули вечером за помин души. Говорили мало, больше курили, но ничего, чем Игорь запомниться успел, кажется, не забыли. Первым делом пословицу-поговорку его любимую, универсальную, на все случаи жизни, вспомнили. Необычную поговорку. Я такой раньше никогда ни от кого не слышал:
– Бегу, и волосы назад…
Удивительная поговорка.
На первый взгляд, к жизни Игоря и к его внешности, что важной приметой этой самой жизни является, она никакого отношения не имела. Больше того, содержание его любимой поговорки всему этому было просто люто враждебно. Бегущим Игоря Крошина даже представить невозможно было, потому как по природе своей был он откровенно грузен, а потому всякие быстрые движения и прочую суету совсем не жаловал. Да и какие там «волосы назад», когда последние лет десять в его жизни волосы эти больше чем на куцый сантиметр и отрасти не успевали: то служба срочная армейская, то первая ходка, то вторая, то нынешняя, третья, между которыми зазор временной до смешного малый.
Тем не менее как-то очень шла Игорю эта поговорка-присказка.
Часто, по многим поводам он ее употреблял.
И всегда очень к месту и с большим вкусом получалось. Помню, еще на этапе, когда даже до лагеря не доехали, на мелгородской пересылке, где на две недели зависли, впервые услышал я от Игоря диковинное сочетание этих простых слов.
Тогда утром в камеру к нам, еще не опомнившимся от проведенных в «столыпине» двух суток, зашел местный прапор-вертухай. Зашел и с порога заорал:
– Дежурный, доложить!
Невеселым, почти угрожающим молчанием встретили мы это распоряжение. Даже первоходы были уже в курсе, что такие команды – из категории мусорских наворотов, что реагировать на них, тем более выполнять, для порядочных арестантов совсем негоже. А прапор, то ли из новичков, то ли из особо оголтелых формалистов, не унимался:
– Осужденные! Кому сказано было… Доложить о количестве осужденных на этапе, наличии больных… Дежурный кто?
И этот вопрос был встречен недобрым, но дружным молчанием, потому как, повторяю, дежурный на этапе или в тюремной камере – это почти то же самое, что козел в лагерном бараке. Опять же с точки зрения порядочного арестанта, никаких дежурных среди нас быть просто не могло. Зэков считать – дело чисто мусорское, нормальный зэк им в этом не помощник, не подельник.
Понимал ли это местный вертухай, неизвестно, но видел я, как свекольным соком налилась его шея, как побелели костяшки пальцев, которыми он сжимал тощий цветной файлик со своими мусорскими бумажками.
– Не определились с дежурным? Значит, назначать надо… Вот ты, ты сегодня дежурным будешь!
Палец с нечистым ногтем выстрелил в стоящего с краю Игоря. Тот даже и удивиться не успел, как тоном сильнее грянула вторая команда, уже ему персонально предназначенная:
– Дежурный, доложить о количестве осужденных на этапе! Ты, ты сегодня дежурный! Докладывай!
Еще раз вскинулся палец с ногтем в траурной каемке в сторону Игоря, который вместо доклада и выдал прапору почти с обидой в голосе:
– Ага, бегу, и волосы назад!
Наверное, он, уже имевший пусть малые, но две и отсиженные до честного звонка ходки, просто не нашел ничего лучшего, кроме как автоматом озвучить в этой ситуации фирменную свою поговорку.
А у того вертухая, похоже, не то что с юмором, а вообще с адекватным восприятием действительности серьезные проблемы были. Потому как затараторил он уже совсем не грозной, а виноватой и неумной скороговоркой:
– Куда бежишь? Почему? Какие волосы? Ты чего в виду имел?
Кажется, только наш смех помог ему тогда вернуться к действительности. Правда, нам это боком вышло.
Оглушенный арестантским хохотом, вылетел прапор из камеры, держась за уфсиновский картуз. Ненадолго вылетел. Вернулся вскоре, уже не один, а вместе с нарядом: с тремя вооруженными резиновыми дубинами сержантами. Бить нас – не били, но шмон в худшем его варианте (когда часть вещей отметается с казенным довеском «не положено», часть – просто пропадает, когда скудные арестантские припасы рассыпаются, ломаются и перемешиваются) мы получили.
Почему-то Игорь во многих своих разговорах с откровенными воспоминаниями о былой вольной жизни собеседником часто избирал меня. Как-то признался с виноватой детской улыбкой:
– Ты же по вольной жизни – журналист… Пишешь… Обязательно после отсидки что-то про лагерь сварганишь… Может, и про меня что вспомнишь… Жизнь у меня, без базара, интересная, но в книгу ни разу не попадал… Вдруг получится, вдруг потом знакомые прочитают… Вдруг эта книга Люське моей в руки попадет! Интересно… Здорово!
Порою в этих разговорах выплывало такое, что никакой здравой логики под собой не имело и просто иметь не могло, о чем другой человек даже вспоминать постеснялся бы. Например, однажды, ни с того, ни с сего, поведал Игорь диковинный случай, который впору только остепененным психологам и психиатрам разбирать.
Было дело, работал он на столичной фирме по протекции родной сестры, которая с их малой родины от нищеты пораньше сбежала и которая на этой фирме всей бухгалтерией заправляла. Широк у Игоря круг обязанностей был: и экспедитор, и грузчик, и курьер, и что-то еще, о чем попросят или поручат. Как-то выпало ему наличные деньги с одного объекта на другой перевезти. Сумма не большая, но и не малая, в пересчете на доллары по тогдашнему курсу тысячи полторы. Деньги прямо из рук родной сестры получал с напутствиями, которые всегда в таких случаях произносятся («спрячь получше…», «по пути никуда не заходи…», «как до места доберешься, позвони сразу…»). Ну и отвечал Игорь совсем предсказуемо, как водится в таких случаях («знаю, сам знаю…», «не маленький…», «все нормально будет…»).
А уже через четверть часа понесла его та самая сила, что нелегкой зовут, туда, куда вовсе ни к чему, куда опасно, куда просто совсем не надо.
Едва поравнялся он с первым попавшимся павильоном игровых автоматов, ноги – сами по ступенькам, руки – сами за перила. Минут за двадцать всю сумму простучал-прозвонил. Вышел на улицу ошарашенный. На автопилоте телефон достал, набрал знакомых, кто поближе был, кто мог денег взаймы дать. За час сумму, что из рук сестры получал, насобирал. Тут и сама сестра позвонила:
– Ты где? Ты как? Мне звонили, что-то ты задерживаешься…
Отвечал голосом твердым и честным, будто сам верил, что говорил:
– Только из метро поднялся… Поезда стояли… Чего-то там сломалось…
Уже на ходу отвечал, снова двигаясь к тем самым ступенькам, к тем самым перилам, к тому самому павильону игровых автоматов.
И эти деньги спустил, разве что чуть дольше провозился, потому что поначалу даже выигрывать начал…
Естественно, не удержался я от глупейшего в этой ситуации вопроса:
– Чего же тебя с казенными деньгами к этим автоматам понесло? Да еще два раза подряд…
Игорь и не обиделся, и не удивился, только растерялся, словно речь о только что случившемся шла, и голос до шепота уронил:
– Я и сам не знаю, как все это происходило, будто кто за руку водил и на ухо все командовал…
К этой теме в сердечных своих откровениях он больше не возвращался, а вот про жену, теперь уже бывшую, вспоминал часто. Всякий раз такие воспоминания одними и теми же вопросами сопровождал:
– Как ты думаешь, она меня простит? Ты как думаешь, наладится у нас все?
Наткнувшись на мое молчание, сам себе и отвечал, нисколько не сомневаясь в собственной правоте:
– Все хорошо у нас будет! Мужик я нормальный, чего ей еще надо?
Как последний сокровенный аргумент добавлял:
– Дочку я люблю… Скучаю за нее сильно…
Потом без всякого перехода обычно просьба следовала:
– Ты мне письмо поможешь набросать? Чтобы там все по красоте было и чтобы за душу взяло… Ну… Чтобы у нас потом все наладилось…
Сколько раз высказывал эту просьбу – столько раз и заставал меня врасплох. Обычно я неубедительным аргументом отбивался:
– Как же я твоей жене писать буду? У вас же отношения очень личные со всеми там интимными моментами, которых я не знаю и знать просто не могу… Опять же дочка у вас… Откуда я знаю, как у вас семье заведено было, что принято… Нельзя чужому человеку такие темы доверять… Давай сам, своими словами… Так честнее, так правильнее…
Здесь меня Игорь совсем не слышал и как заведенный продолжал повторять:
– Вот бы по красоте все изложить, чтобы Люська прочитала и поняла… Чтобы у нас потом все наладилось… У тебя-то получится, ты же знаешь, как и грамотно, и красиво, и правильно…
Правда, момент самого начала составления послания к бывшей своей супруге всякий раз Игорь откладывал. Будто оправдываясь, объяснял торопливо и сбивчиво:
– Тут еще кое-что вспомнить надо… Ничего не упустить важно… Хочу, чтобы она прочитала и сразу все поняла… Все поняла сразу…
И добавлял заискивающе, совсем не по-взрослому уже хорошо знакомое:
– Ты как все-таки думаешь, простит она меня? Наладится все у нас?
Ответов на эти вопросы он вроде как и не требовал, зато много рассказывал про то, за что его можно было прощать или не прощать. Конечно, могла бы женщина, тем более русская, простить все его прошлые загулы и кульбиты. Конечно, могло бы все, как сам Игорь говорил, наладиться, только уже необратимо сложилась в его жизни ситуация, когда он для бывшей своей жены стал человеком совсем чужим, а главное, нежеланным и неприятным. Я на основании случайных откровений Игоря это чувствовал. Игорь это, по причине особенностей своего характера, не понимал и понимать настырно не хотел. Когда же я, больше по наивности, чем по здравому смыслу, попытался его вразумить, посоветовав оставить бывшую жену в покое, услышал в ответ уже хорошо знакомое:
– Ну да! Бегу, и волосы назад…
Колючие, даже угрожающие нотки на этот раз звучали в его любимой поговорке.
И еще было много случаев, когда удивлял Игорь своими откровениями и выводами, но более всего зацепило, когда услышал я от него очень искреннее, лишенное всякой бравады, совсем беззащитное:
– Знаешь, у меня все так сложилось, что ничего хорошего я в своей жизни сделать и не успел…
Наверное, здорово вытянулось у меня в этот момент лицо, если поспешил он пояснить суетливой скороговоркой:
– Я в серьезных масштабах имею в виду… Понимаю, ненормально это… Но жизнь-то не кончается… Еще успею… Обязательно успею… Я же понимаю…
Нисколько не сомневаюсь, что искренне верил он в то, что говорил.
Удивительно, а может быть, вполне естественно, но в это и я верил, нисколько не сомневаясь. Верил, что того гляди щелкнет волшебный тумблер в судьбе Игоря Крошина, и все перевернется в нужном направлении, и начнет он совершать доброе, хорошее, возможно, даже героическое.
Выходит, оба мы ошибались…
Так и не успел при жизни отметиться Игорь Крошин в добрых делах.
Возможно, главной причиной тому даже не он сам был, а то обстоятельство, что жизнь у него слишком короткой выпала.
Просто не успело в этой жизни наступить время для добрых дел.
Верю, что теперь именно этим он и занят.
Верю, что именно теперь «все у него наладилось», «все по красоте».
Никому не смог бы я объяснить, почему я в это верю.
И не надо меня об этом спрашивать.









































