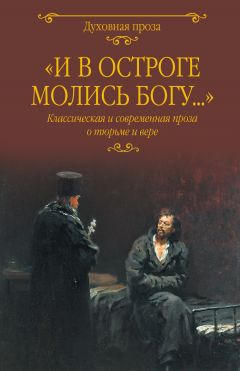
Автор книги: Владимир Короленко
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Очень здраво размышлял…
Только первым желанием, что само по себе внутри сформировалось и наружу вырвалось, независимо от его мыслей, было: подняться повыше да рвануть куда подальше. Прочь от подъема по гимну, от локалок[19]19
Локалка (тюремн.) – участок, на котором расположен отряд, отделенный от всей территории лагеря решеткой с запирающейся калиткой.
[Закрыть], что так вольеры в зверинце напоминают, прочь от мусоров, что на тебя как на грязь смотрят.
Словом, на волю!
Разве могла другая мысль в голову арестанту, что привез с собой на зону двадцатку?
Верно, здесь фантазия впереди разума бежала, и бессилен был тот разум даже попытаться догнать ее.
Потому и картинки в сознании Никиты Костина замелькали соответствующие.
Вот он, невидимый, а потому и всемогущий, находит тех мусоров, что его дело вели, что из него признание того, чего не было, выбивали. Хорошо бы их прямо на рабочем месте застать, возможно, за тем же самым занятием, за добыванием признательных показаний привычным для них способом, застать. Лишь бы рядом что-то тяжелое оказалось. Или острое…
Впрочем, стоп…
Месть – это хорошо! Должок по адресу отдать – это справедливо! Вот только как все это по реальности? Ведь когда он из оболочки своей арестантской выскакивал и от земли невидимым отрывался, то совсем другим становился. Верно, все понимал, все помнил, все видел. Мог думать, анализировать, даже, кажется, мечтать был способен. А вот чтобы что-то сделать конкретное, чтобы хотя бы спичечный коробок взять и со стола на подоконник перенести – нет, не выходило, это за пределами его возможностей оказывалось.
А может быть, с местью и не надо торопиться? Может быть, важнее рвануть туда, где сейчас его уже бывшая жена и сын, который бывшим не будет никогда. По прямой отсюда и не так уж далеко. Хотя какая разница… Что теперь ему, способному освобождаться от тяжелой и неудобной оболочки, эти расстояния? Пустяк! Почти пустяк…
Вот только ни обнять, ни поцеловать того же сына в таком бестелесном, нематериальном виде у него не получится. И жене бывшей, что слабину дала, что предала его, ничего не скажешь…
Правда, посмотреть можно будет на обоих. Сколько угодно можно будет смотреть. И никто этому не помешает.
Только все это с точки зрения реальности, разума. А фантазия, сбросившая уздечки этого разума, выдавала тем временем новые картинки.
Надо было выбирать.
Надо было выбрать.
Нельзя было не выбрать.
И он выбрал…
Как ему поначалу показалось, вариант единственно правильный. Вариант мудрый, очень человеческий, вполне предсказуемый в его положении: сидеть тихо, экономить силы, во что бы то ни стало вернуться. Разумеется, сил этих уже прибавилось от осознания обретенного дара. А полетов – никаких, ну разве что самую малость, для поддержания формы, не выходя за периметр забора с вышками и не выше этих самых вышек, на которых днем и ночью мордовороты с карабинами из роты охраны.
Казалось, ничего мудрее здесь и не придумать.
Только хватило этой мудрости Никите Костину всего на два дня.
На третий день ощутил он приступ небывалой тоски. Такой беспросветной, что еда начала казаться безвкусной, спать не получалось, чужие разговоры слышать перестал, а собственные заводить никакого желания не было. Кто-то из соседей, обративших внимание на изменившееся поведение Никиты, дал совет, в котором сострадание с ехидной злобой было замешано:
– Ты бы, Никитос, так не загонялся, у тебя же срока, как у дурака махорки…
Буркнул он в ответ универсальное арестантское «да ладно» и поспешно отошел в сторону.
Было это за полчаса до отбоя.
Во время ночной проверки, ближе к трем часам ночи, мусор-прапорщик, обходивший барак, видел, что «осужденный Костин находится на своем спальном месте».
Часа за полтора до подъема атасники, дежурившие у входа в барак, видели, как Никита Костин в накинутой на плечи телаге с поднятым воротником вышел в локалку. Он стоял у круглой, вкопанной в землю железяки, служившей курилкой, смотрел в щедрое на звезды ноябрьское небо. Сигарету изводил торопливо, будто за спиной трое «стрелков» с извечным «оставь покурить» переминались. Потом сидел на лавочке, окружавшей курилку буквой «п».
Арестанты, возвращавшиеся из третьей смены перед самым подъемом, обратили внимание на фигуру в телаге с поднятым воротником на лавочке в курилке. Окликнули. Не услышав ответа, подошли ближе. Тряхнули за плечо, заглянули в лицо. Все поняли…
Смерть арестанта на зоне – событие не частое, но обыденное.
Пережил лагерь и эту.
Версии причины кончины Никиты Костина были традиционными.
Одни вспомнили, как рьяно в свое время выбивались из него признания. Решили: перестарались мусора, отбили ливер, вот и аукнулись недавние допросы, отказал у парня какой-то важный внутренний орган.
Другие заговорили про беспредел в его делюге, про громадный, от фонаря начисленный, срок. Рассудили не менее логично: сдало у Никиты надорванное несправедливостью сердце.
По сути, версии друг другу не противоречили. В главном сходились: на мусорской совести еще одна арестантская душа. Расклад обычный.
Видел перед смертью Никиту Костина и Шурка, что из обиженных. Мыл он в ту ночь отрядный сортир. Мыл, как положено, не жалея хлорки. Закончив работу, вышел в локалку продышаться. Стоял на отведенном для обиженных пятачке. Жадно хватал такой вкусный после хлорной едкой гадости воздух.
Отрядная курилка от него метрах в пяти была.
Потому так отчетливо видел Шурка, как вошел туда Никита Костин, как курил стоя, как всматривался куда-то вверх, как опустился потом на скамейку. Также немного позже отчетливо видел, как поднялось над присевшим арестантом небольшое, с голову ребенка, белое, чуть светящееся, очень красивое облако. Видел, как повисело это облако несколько секунд в метре над арестантской шапкой и неспешно ушло вверх, туда, куда совсем недавно всматривался Никита Костин.
Видел все это обиженный Шурка ясно и четко.
Объяснений увиденному не искал. У обиженных в лагере забот и без того хватает.
По той же причине никому про то, что видел, не говорил.
Да и кто бы ему поверил?
«Отче наш» пропиленовый
Пижон хренов! Дурак! Идиот! Себе, себе самому говорю!
Подумаешь, проверить ему себя захотелось… Не время и не место сейчас здесь себя проверять.
Решил выйти на работу, хотя в этой зоне, да с учетом твоего возраста, это совсем не обязательно, так иди работай. Хочешь формовщиком – формуй, натягивай на специальных «рогах» один мешок на другой. Хочешь швеем – шей, сшивай на дребезжащей машинке донышки в тех же самых мешках.
Спокойно, ритмично, без напряга, без надрыва, с перекурами и разговорами. Главное – на смену выйти, а выполнил ты норму, не выполнил – дело десятое. Все равно сырье поступает плохо, оборудование каждую неделю ломается. Норму эту просто невозможно выполнить. День прошел, и… ладно. Ни гонки, ни спешки.
Зачем подался в грузчики? В пятьдесят лет с мешком на спине по ступенькам, по пролетам?
А в мешке – семьдесят пять килограммов. А ступеньки – косые, стесанные, вечно скользкие, будто кто-то накануне салом натер. А пролеты – узкие, два человека с трудом разойдутся. Упадешь на этих ступеньках, в этих пролетах – одному без посторонней помощи мешок обратно на горб (именно на горб, на тот участок спины, что между шеей и лопатками) уже не поднять. Впрочем, не это главное. Главное – совсем другое.
Главное, что за тобой следом вся бригада идет, целая вереница таких же грузчиков, с такими же мешками на горбу. Уронишь ты свой мешок – вся цепочка остановится, и людям в этой цепочке только стоять, ни вперед – ни назад, ни вправо – ни влево. Ибо впереди – ты со своим упавшим мешком корячишься, сзади – другие грузчики с теми же мешками, справа – стена, такая же скользкая, как ступени, слева – перила лестничные, кривые да гнутые, как ограды на старом кладбище. Случись, упадешь ты – это авария для всех, вся цепочка встанет, весь рабочий день поломается. Ну и услышать все что полагается в такой момент от соседей, которые сзади переминаются, – представить несложно.
В самый первый день, в самую первую смену, как вышел на работу, понял: надо концентрироваться только на одном, на самом главном – чтобы не упасть, не поскользнуться, чтобы не занесло в этих чертовых пролетах. А как сконцентрироваться? Просто только об этом думать – не получается, просто не думается, а то и всякая чушь начинает в голову лезть. Попробовал тогда губу закусывать. Для концентрации воли и ясности мысли. И здесь своя методика, свои подходы. Оказывается, закусывать губу надо не передними зубами – резцами, они плоские, считай тупые, а клыком, левым или правым – все равно, главное, чтобы чувствительней, чтобы больнее. На первых ступенях ее просто прихватывал, потом с каждым пролетом больше прижимал, давил сильнее и сильнее. Перед дверью в цех на верхнем этаже, куда эти мешки донести требовалось, рот полон крови был, и от этой крови тошнило, того гляди рвать начнет. Получалось, что не выход это – губы кусать.
Во вторую смену вспомнил, что принято считать, будто верующему человеку в подобных ситуациях надо непременно молиться. А как молиться? Кому молиться? Просто Богу или каким-то конкретным святым? Разве существует «специальная» молитва для того, кто «награжден», якобы правым судом, семилетним сроком за несовершенные преступления, кто отбывает этот срок на зоне строгого режима и работает на этой зоне грузчиком, в обязанностях которого таскать на горбу громадные мешки на верхний этаж, в швейный цех?
Говорят, что в особых случаях разрешается молиться своими словами, главное чтобы искренне и горячо. Наверное, случай у меня вполне особый, думаю, что и слова, самые искренние, самые горячие, я бы нашел, только не получается так именно здесь, именно сейчас. Не получается на скользких ступеньках, на узкой лестнице, с семидесятью пятью килограммами на горбу подбирать эти самые искренние и горячие слова. Не получается сознание «раздваивать», не выходит мозг «делить»: одним полушарием слова для молитвы подбирать, другим напрягаться, сосредотачиваться, себе под ноги смотреть, чтобы не споткнуться, не поскользнуться, чтобы не занесло на повороте.
А вообще, на нынешнем этапе собственной биографии наизусть знаю я одну-единственную молитву «Отче наш». Вот и начал ее повторять всякий раз, поднимаясь по этим ступеням. Слава Богу, успел выучить, выучил еще до суда, еще в «Пятерке» – пятом московском централе[20]20
Централ (тюремн.) – судебно-следственный изолятор, тюрьма
[Закрыть], проще говоря, в тюрьме. Очень вовремя, очень кстати, получается, выучил.
Когда мешок со склада из общей кучи забираешь, тут и без «Отче наш» можно обойтись. Если с верхушки кучи забираешь – значит, повезло, особых усилий не требуется: перевалил мешок сверху вниз себе на горб и… вперед. Если кипа до середины дошла – уже тяжеловато, но терпимо – чуть присел и рывком на выдохе поднялся, уже с мешком на горбу. Хуже всего, когда выпадает тебе последний мешок из кипы, что лежит на полу склада, брать. Тут уже и никакой «Отче наш» не поможет, непременно приходится кого-то просить помочь накинуть этот мешок тебе на спину. И здесь своя методика существует: поднимают два арестанта этот мешок и резко на «раз-два» подбрасывают его вверх. Тот, кому его тащить, в этот момент должен очень быстро развернуться и под подброшенный мешок свою чуть нагнутую спину подставить.
А проникновенные слова из главной христианской молитвы шепчешь, когда с мешком начинаешь по лестнице подниматься.
«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…»
Под эти строки всегда только один пролет и успеваешь преодолеть. Ноги ставишь широко. Чуть враскоряку для устойчивости, руками мешок, что на горбу лежит, за края поддерживаешь, глазами по сторонам косишь, а главное внимание вниз, под ноги – вдруг окажется на ступеньках злополучная апельсиновая корка. Хотя откуда здесь, на промке зоны строгого режима, корка заморского фрукта – символ недоступной свободы, символ совсем другой жизни? Куда вероятней поскользнуться на чьей-то жирной харкотине или зеленой гайморитной, выстреленной через два пальца, сопле.
Потом второй пролет…
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь…»
Шепчешь высокодуховное, а думаешь о самом обыденном. Хлеб в зоне даже двадцать первого века – тема всегда актуальная. Его три раза в день выдают. В завтрак. В обед. В ужин. По пайке. Пайка – одна пятая часть буханки. Выходит, три пятых буханки в сутки на человека. В принципе, хватает. С учетом всего остального (каша, макароны, картошка плюс посылки-передачи, у кого такая возможность есть, раз в три месяца). И вообще наша зона – сытая. На то особые, самые верные показатели есть. Во-первых, голубей здесь полно. Голуби – жирные. Ленивые. Их никто не ловит, не ест. Значит, сытые арестанты в зоне, значит, вся зона – сытая. Еще один аргумент из той же области – кошек в лагере много. Кошки – сытые, своенравные. На них никто не покушается.
Верно замечено, про жратву арестант всегда размышлять готов, но сейчас ступеньки важнее. Те самые, что скошенные и скользкие, будто салом намазанные.
Только бы не поскользнуться, не оступиться, не споткнуться. Ведь упадешь – остановится весь караван грузчиков. Каждому при этом ни вперед – ни назад, только стоять да ждать.
Стоять да ждать… а на горбу семьдесят пять килограммов!
Стараюсь смотреть себе под ноги, внимательно смотреть, но глазам своим до конца не доверяю. Что там увидишь, когда лестница почти не освещена (дефицит на зоне лампочки, мусора обвиняют зэков, будто те воруют, зэки в обратном уверены – мусора-крохоборы домой эти лампочки тащат, копейки экономят). Потому и при каждом шаге ноги ставлю с размаху, со стуком, крепко и широко, будто по обледенелой горе поднимаюсь.
«…И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим…»
Долги… Долги… Вечная тема. От библейских времен до сегодняшних дней. И здесь, в зоне, эта тема актуальна. За невозвращенный в срок карточный, да и любой прочий долг многое, очень многое потерять можно: статус, доверие, уважение, из категории порядочного мужика в фуфлыжники[21]21
Фуфлыжник (тюремн.) – арестант, не возвращающий долги, представитель крайне неуважаемой категории лагерного населения.
[Закрыть] соскользнуть, а оттуда и до петушатника[22]22
Петушатник (тюремн.) – место проживания (отдельный барак или специально отведенное место в общем бараке) петухов: опущенных, обиженных и прочих представителей самых низших, презираемых категорий арестантов.
[Закрыть] совсем недалеко. Скатиться легко, а назад – никак. Как в некоторых видах зубчатой передачи – только вперед, назад – исключено. Чуть силы прибавишь – кр-а-а-а-к, весь механизм ломается, никакого движения. Так и в лагерной иерархии – легко вниз кувыркнуться, а назад дороги нет. Ярлык фуфлыжника на весь срок. Да что там срок! Это тавро отсюда и на свободу выносят, и тавро это уже в последующей, вольной жизни не отмыть, не соскрести.
Удивительное дело – сколько раз поднимался по этим ступеням, не могу их сосчитать. Конечно, можно было бы сосчитать количество пролетов, потом число ступенек в одном пролете, ступеньки умножить на пролеты, вот только сделать это… не получается. Строили этот корпус лет двадцать назад такие же арестанты, возможно, они его и проектировали. Очень может быть, вообще никакого проекта не было, и такое здесь вполне могло быть, строили по мере поступления материалов, в соответствии со взлетами фантазии хозяина[23]23
Хозяин (тюремн.) – начальник исправительного учреждения, зоны.
[Закрыть]. Потому и здание это какое-то нестандартное, нетипичное, неправильное. Всего четыре этажа, а по высоте, если с обычными многоквартирными домами сравнивать, на все шесть этажей потянет. Высота у каждого этажа очень разная, потому и число пролетов на каждом этаже не совпадает. Да и размеры этих пролетов отличаются: в одном восемь ступенек, в другом целых двенадцать.
Вот и выходит, что не сосчитать эти ступеньки вовсе, а если не сосчитать – значит, представляется их количество бесконечно большим, неисчислимо великим. Никакой арифметики, никакой математики. Сплошная мистика! Чистый Кафка! Ирреальность с серным запашком бесовщины. Как же здесь без нечистого, когда не могу, не получается сосчитать эти треклятые ступеньки, которых на самом деле, возможно, и не так уж запредельно много. Неспроста, верно, пришло в голову «Отче наш» на этих ступеньках читать. И про лукавого там аккурат как актуально.
«…И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого…»
С лукавым все понятно. Здесь даже запах серы присутствует. Почти натуральный. От тех самых мешков, что мы на горбу таскаем. Возможно, это вовсе не сера, а какая-то другая химия, но я уверен, что в преисподней пахнет именно так и от этого самого «лукавого» точно так же разит. Острый, едкий, раздвигающий ноздри и жалящий гортань запах. В каждом мешке пачки спрессованных пакетов и других мешков, из которых потом в цехе тару для мела, удобрений и прочего сыпучего товара делают. Говорят, что сырьем для этих мешков и пакетов служит пленка, в основе которой полиэтилен, полипропилен, еще какие-то этилены-пропилены. А запах от всего этого действительно ядовитый. Уже замечено, как подозрительно долго заживают самые простые царапины у тех, кто постоянно «общается» с этими этиленами-пропиленами, как нехорошо сухо и натужно кашляют эти арестанты. Не удивлюсь, если узнаю, что этот «этилен-пропиленовый» материал, с которым мы работаем, вовсе относится к сырью, с которым на воле людям уже давно запрещено работать. В крайнем случае пару часов в смену, в респираторах, в спецодежде, при усиленном питании с молоком и т. д.
Впрочем, не мы первые – не мы последние дышим этим, трогаем это, работаем с этой химией. С той самой, что лежит сейчас на моем горбу. С той самой, что сейчас очень боюсь уронить. Кстати, слова молитвы уже кончились, а из пролетов, которых неведомо сколько, только два и миновать успел. Значит, снова:
«Отче наш, Иже еси на небесех!»
Все-таки слаба моя вера, хотя и в генах моих эта вера. Верно, крещен в младенчестве, как положено. Решились, отважились родители в пору самого остервенелого атеизма. Крестильный чепчик, крестик, распашонка до сих пор в родительском доме, у старшей сестры, что в этом доме до сих пор живет, хранятся. Ну а потом все совсем по другим рельсам покатилось. Октябренок, потом пионер, комсомолец. «Бога – нет, космонавты летали – ничего не видели». «Религия – пережиток, утешение отсталых людей». Курс научного атеизма и другие глупости в обязательном порядке. Танцы в клубе в пасхальную субботу до часу ночи вместо обычных одиннадцати. По ящику в тот же вечер непременно что-то захватывающее, вместо традиционных доярок-сталеваров и симфонического пиликанья.
Вот и вышло в итоге, что первую в своей жизни молитву я выучил в сорок с большим хвостиком в общей хате пятого московского централа. Конечно, это не обретение веры, а только попытка к ней подступиться, присмотреться, примериться. Верно, и в храм здесь, в зоне, хожу. Не ради подражания и не за компанию – потребность есть. Молюсь обычно своими словами (кроме «Отче наш» и Символа веры, ничего толком и не выучил пока), только в молитвах моих слово «смирение» ни разу произнесено не было. Выходит, слаба моя вера, значит, я в ней пока только одной ногой.
«Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое…»
Вера – верой. Только сейчас самое важное по-прежнему, чтобы не поскользнуться, не оступиться, не споткнуться, а главная мысль вовсе не из высоких духовных сфер, а про то, какой дурак или какая сволочь придумала здесь такие крутые ступени и такие узкие лестницы. Да что там «придумала»! Неужели уже потом, когда расположились по этажам здания склады, цеха и мастерские, нельзя было оборудовать что-то вроде лифта, подъемника, какой-нибудь, пусть средневековой, лебедки, чтобы эти мешки, что таскаем мы нынче на собственном горбу, поднимать наверх?
Неужели никому не приходило это в голову? Или пеший подъем с мешком в семьдесят пять килограммов на горбу на четвертый (считай, шестой, если переводить на стандартные габариты) этаж – это обязательная составная часть того самого строгого режима, разные дозы которого (кому пять, кому десять и более лет) прописали нам те, кто нас сажал (кого за дело, кого за полдела, кого вовсе ни за что).
Удивительно, на шмонах нас «прозванивают» сверхчувствительными металлоискателями, наши мобильные телефоны (признаю, пользуемся на нелегальной основе) прослушиваются сверххитроумной аппаратурой, все наши данные закачаны в самый современный компьютер. Электронные, тонкие технологии! И на этом фоне мы с этими мешками на горбу, по этим ступенькам на полусогнутых, враскоряку. Точно так же, как коллеги наши – гулаговцы лет семьдесят назад, как коллеги наши – каторжане лет двести назад, как коллеги – рабы лет так тысячу и больше назад. Где он, этот прогресс? Где признаки этой самой цивилизации? Где приметы этого двадцать первого века? Верно, не для нас этот прогресс. Верно, мимо нас рысью несется эта цивилизация. Верно, напрочь забыл про нас этот двадцать первый век. Неужели на все это воля Божья? Та самая, о которой в молитве сказано?
«…Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…»
Еще чуть-чуть, и станешь атеистом. Потому что не может так быть, чтобы человек с этим мешком по этим ступенькам – и… как будто в порядке вещей, как будто это так и должно быть, как будто это нормально и правильно.
Помню, как, отработав самую первую смену в самый первый день выхода на промку, я испытал состояние, для которого богатый русский язык имеет очень точное определение: «как пыльным мешком ушибленный». Меня не то что пошатывало – откровенно мотало из стороны в сторону, тошнило, я перестал воспринимать добрую половину звуков, а на те звуки, что все-таки добирались до моего сознания, я почему-то разворачивался всем корпусом, вместо того чтобы просто повернуть голову в нужную сторону. Наверное, в тот момент своим состоянием и поведением я здорово напоминал оглушенную и контуженную, откровенно одуревшую жертву обстрела сверхтяжелой артиллерии.
Со второй смены, топая по ступеням со своей ношей, я стал повторять «Отче наш». С «Отче наш» было все-таки легче. Или так казалось? За вторым днем последовал третий, потом четвертый, пятый… Каждый с многоразовым повторением молитвы, которую про себя иногда (наверное, это богохульство, да простит меня за это Господь) стал называть «Отче наш» пропиленовый. Главная особенность настроения тех дней – не оставлявшее меня ощущение мешка на горбу, большой тяжести на специфическом участке спины между шеей и лопатками. Это ощущение не покидало меня даже ночью, когда я спал, когда находился в горизонтальном положении и, кажется, ничего подобного ощущать был просто не должен.
В грузчиках я проработал ровно две недели. Потом ушел. Перевелся в формовщики: всю смену у простенького станка-рамы, метко названного арестантами «рогами», на который натягивал сначала один тонкий и прозрачный мешок, потом другой – толстый и темный. Работа спокойная. Ритмичная, без напряга, без надрыва, с перекурами и разговорами.
Но из грузчиков я ушел уже после того, как «смотрящий» за сменой земляк Ден одобрительно стукнул мне в плечо: «Да ты уже вроде как втянулся, от мужиков не отстаешь…»
К тому времени я уже и сам чувствовал, что втянулся. Только из грузчиков я все равно ушел. То ли потому, что двух недель мне хватило, чтобы проверить себя. То ли потому, что смалодушничал. И судить меня за это некому. Сам пришел – сам ушел.









































