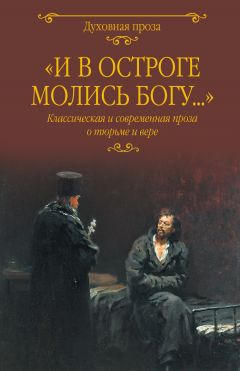
Автор книги: Владимир Короленко
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Толкнув дверью Юрасова и не заметив его, через площадку быстро прошел кондуктор с фонарем и скрылся за следующей дверью. Ни его шагов, ни даже хлопанья двери не было слышно за грохотом поезда, но вся его смутная, расплывающаяся фигура с торопливыми наступающими движениями произвела впечатление мгновенного, резко оборванного вскрика. Юрасов похолодел, что-то быстро соображая, – и, как огонь, вспыхнула в его мозгу, в его сердце, во всем его теле одна огромная и страшная мысль: его ловят. О нем телеграфировали, его видели, его узнали и теперь ловят по вагонам. Тот «он», о котором так загадочно говорили кондуктора, есть именно Юрасов: и так страшно – узнать и найти себя в каком-то безличном «он», о котором говорят посторонние незнакомые люди.
И теперь они продолжают говорить о «нем», ищут «его». Да, там, от последнего вагона идут, он чувствует это чутьем опытного зверя. Трое или четверо, с фонарями, они рассматривают пассажиров, заглядывают в темные углы, будят спящих, шепчутся между собою – и шаг за шагом, с роковой постепенностью, с беспощадной неизбежностью приближаются к «нему», к Юрасову, к тому, кто стоит на площадке и прислушивается, вытянув шею. И поезд несется с свирепой быстротой, и колеса уже не поют и не говорят. Они кричат железными голосами, они шепчутся потаенно и глухо, они визжат в диком упоении злобою – остервенелая стая разбуженных псов.
Юрасов стискивает зубы и, принуждая себя к неподвижности, соображает: спрыгнуть при такой быстроте нельзя, до ближайшей остановки еще далеко; нужно пройти на перед поезда и там ждать. Пока они обыщут все вагоны, может что-нибудь случиться – та же остановка и замедление хода, и он соскочит. И в первую дверь он входит спокойно, улыбаясь, чтобы не казаться подозрительным, держа наготове изысканно-вежливое и убедительное «pardon!» – но в полутемном вагоне III класса так людно, так перепутано все в хаосе мешков, сундуков, отовсюду протянутых ног, что он теряет надежду добраться до выхода и теряется в чувстве нового неожиданного страха. Как пробиться сквозь эту стену? Люди спят, но их цепкие ноги отовсюду тянутся к проходу и загораживают его: они выходят откуда-то снизу, они свисают с полок, задевая голову и плечи, они перекидываются с одной лавочки на другую – вялые, как будто податливые и страшно враждебные в своем стремлении вернуться на прежнее место, принять прежнюю позу. Как пружины, они сгибаются и выпрямляются вновь, грубо и мертво толкая Юрасова, наводя на него ужас своим бессмысленным и грозным сопротивлением. Наконец он у двери, но, как железные болты, ее перегораживают две ноги в огромных сборчатых сапогах; злобно отброшенные, они упрямо и тупо возвращаются к двери, упираются в нее, выгибаются так, будто у них совсем нет костей, – и в узенькую щель едва пролезает Юрасов. Он думал, что это уже площадка, а это только новое отделение вагона – с тою же частою сетью нагроможденных вещей и точно оторванных человеческих членов. И когда, нагнувшись, как бык, он добирается до площадки, глаза его бессмысленны, как у быка, и темный ужас животного, которое преследуют и оно ничего не понимает, охватывает его черным заколдованным кругом. Он дышит тяжело, прислушивается, ловит в грохоте колес звуки приближающейся погони и, нагнувшись, как бык, превозмогая ужас, идет к темной, безмолвной двери. А за нею снова бестолковая борьба, снова бессмысленное и грозное сопротивление злых человеческих ног.
В вагоне I класса, в узком коридорчике, столпилась у открытого окна кучка знакомых между собою пассажиров, которым не спится. Они стоят, сидят на выдвинутых лавочках, и одна молоденькая дама с вьющимися волосами смотрит в окно. Ветер колышет занавеску, отбрасывает назад колечки волос, и Юрасову кажется, что ветер пахнет какими-то тяжелыми, искусственными, городскими духами.
– Pardon! – говорит он с тоскою. – Pardon.
Мужчины медленно и неохотно расступаются, оглядывая недружелюбно Юрасова; дама в окошке не слышит, и другая смешливая дама долго трогает ее за круглое, обтянутое плечо. Наконец она поворачивается и, прежде чем дать дорогу, медленно и страшно долго осматривает Юрасова, его желтые ботинки и пальто из настоящего английского сукна. В глазах у нее темнота ночи, и она щурится, точно раздумывая, пропустить этого господина или нет.
– Pardon! – говорит Юрасов умоляюще, и дама с своей шелестящей шелковой юбкою неохотно придвигается к стене.
А потом снова эти ужасные вагоны III класса – как будто уже десятки, сотни их прошел он, а впереди новые площадки, новые неподатливые двери и цепкие, злые, свирепые ноги. Вот наконец последняя площадка и перед нею темная, глухая стена багажного вагона, и Юрасов на минуту замирает, точно перестает существовать совсем. Что-то бежит мимо, что-то грохочет, и покачивается пол под сгибающимися, дрожащими ногами.
И вдруг он чувствует: стена, холодная и твердая стена, на которую он измученно оперся, тихо и настойчиво отталкивает его. Толкнет и снова толкнет – как живая, как хитрый и осторожный враг, не смеющий напасть открыто. И все то, что испытал и увидел Юрасов, сплетается в его мозгу в одну дикую картину огромной беспощадной погони. Ему кажется, что весь мир, который он считал равнодушным и чужим, теперь поднялся и гонится за ним, задыхаясь и стеная от злобы: и эти сытые, враждебные поля, и задумчивая дама в окошке, и эти переплетающиеся тупо-упрямые и злые ноги. Они сейчас сонны и вялы, но их поднимут, и всею своею топочущей громадой они устремятся за ним, прыгая, скача, давя все, что встретится на пути. Он один – а их тысячи, их миллионы, они весь мир: они сзади его, и впереди, и со всех сторон, и нигде нет от них спасенья.
Вагоны мчатся, раскачиваются бешено, толкаются, и похожи они на бешеных железных чудовищ на коротеньких ножках, которые согнулись, хитро прилегли к земле и гонятся. На площадке темно, и нигде нет намека на свет, а то, что проносится перед глазами, бесформенно, мутно и непонятно. Какие-то тени на длинных, задом шагающих ногах, какие-то призрачные груды, то подступающие к самому вагону, то мгновенно исчезающие в ровном, безграничном мраке. Умерли зеленые поля и лес, одни их зловещие тени бесшумно реют над грохочущим поездом, а там, за несколько вагонов сзади, быть может – за четыре, быть может – только за один, так же бесшумно крадутся те. Трое или четверо с фонарем, они осторожно рассматривают пассажиров, переглядываются, шепчутся и с дикой, смешной и жуткой медленностью подвигаются к нему. Вот они растворили еще одни двери… еще одни двери…
Последним усилием воли Юрасов принуждает себя к спокойствию и, медленно оглядевшись, лезет на крышу вагона. Он встал на узенькую железную полоску, закрывающую вход, и, перегнувшись, закинул руки вверх; он почти висит над мутною, живою, зловещей пустотой, охватывающей холодным ветром его ноги. Руки скользят по железу крыши, хватаются за желоб, и он мягко гнется, как бумажный; ноги тщетно ищут опоры, и желтые ботинки, твердые, словно дерево, безнадежно трутся вокруг гладкого, такого же твердого столба – и одну секунду Юрасов переживает чувство падения. Но уже в воздухе, изогнувшись телом, как падающая кошка, он меняет направление и попадает на площадку, одновременно ощущая сильную боль в колене, которым обо что-то ударился, и слыша треск разрывающейся материи. Это зацепилось и разорвалось пальто. И не думая о боли, и не думая ни о чем, Юрасов ощупывает вырванный клок, как будто это самое важное, печально качает головой и причмокивает: тсс!..
После неудачной попытки Юрасов слабеет, и ему хочется лечь на пол, заплакать и сказать: берите меня. И он уже выбирает место, где бы лечь, когда в памяти встают вагоны и переплетающиеся ноги, и он ясно слышит: те, трое или четверо с фонарями, идут. И снова бессмысленный животный ужас овладевает им и бросает его по площадке, как мяч, от одного конца к другому. И уже снова он хочет, бессознательно повторяясь, лезть на крышу вагона – когда огненный хриплый широкозевный рев, не то свист, не то крик, ни на что не похожий, врывается в его уши и гасит сознание. То засвистал над головой паровоз, приветствуя встречный поезд, а Юрасову почудилось что-то бесконечно ужасное, последнее в ужасе своем, бесповоротное. Как будто мир настиг его и всеми своими голосами выкрикнул одно громкое:
– А-га-а-а!..
И когда из мрака впереди пронесся ответный, все растущий, все приближающийся рев и на рельсы смежного полотна лег вкрадчивый свет надвигающегося курьерского поезда, он отбросил железную перекладину и спрыгнул туда, где совсем близко змеились освещенные рельсы. Больно ударился обо что-то зубами, несколько раз перевернулся, и когда поднял лицо со смятыми усами и беззубым ртом– прямо над ним висели три каких-то фонаря, три неяркие лампы за выпуклыми стеклами.
Значения их он не понял.
Сентябрь 1904 г.
Борис Юрьевич Земцов
(род. 1956)
Крещенский вечер на этапе
Утром двадцать второго декабря через полуоткрытый кормяк[9]9
Кормяк (тюремн.) – окно в двери тюремной камеры, через которое передается пища, содержимое передач, письма и т. д. (Здесь и далее примечания автора.)
[Закрыть] прапор-продольный нехотя прорычал мою фамилию со стандартным довеском:
– Вечером на этап…
В конце последнего месяца года в среднерусской полосе, в помещении с плохим освещением, вечер начинается едва ли не в полдень. Естественно, я попробовал уточнить слишком абстрактное понятие «вечером». В ответ услышал выдавленное сквозь неразжатые зубы:
– В шесть…
В российских СИЗО конечный пункт этапирования для арестантов – информация секретная. Все равно на всякий случай полюбопытствовал:
– Старшой, а куда этап будет?
По свойственной всякому первоходу наивности добавил совсем не тюремное, слишком человеческое:
– Скажи, пожалуйста…
Разумеется, получил в ответ обычное в Бутырке, как, впрочем, и в любом другом СИЗО моей Родины:
– Куда повезут…
Куда повезут… С учетом масштабов страны и непредсказуемости милицейского, тюремного и прочих судьбоносных российских ведомств – это непредсказуемо. Можно плавно спланировать в соседнюю область, куда из столицы автолайны каждые полчаса. Можно загреметь в Коми или в Сибирь, куда поезд несколько суток только до станции, от которой до зоны еще не одна сотня километров. Благо на Колыму теперь из Москвы, кажется, не отправляют. Впрочем, и без Магадана список регионов «вечнозеленых помидоров» Отечества нескончаем.
Только в тот день не повезли вовсе. Ни на близкое, ни на далекое расстояние. Ни в шесть, ни позднее.
За час до отбоя заступившая на смену сердобольная прапорщица Екатерина, одаренная шоколадкой из моей последней дачки, шепнула в кормяк:
– Не будет сегодня этапа… Точно не будет… Теперь уже после праздников…
Радости по поводу такой новости не было. Один Новый год в тюрьме я уже встречал, потому и знал, какое это тягостное и беспросветное событие. На период тюремного Новогодья всякий огонек-доходяга надежды на какие-то перемены к лучшему решительно задувался хотя бы потому, что суды не работали и почта не приходила. Снова он начинал теплиться не просто с календарным окончанием щедро отпущенных государством каникул, а лишь спустя неминуемого в подобных случаях послепраздничного отходняка, что порожден пьянством, обжорством, ничегонеделанием и прочими формами оскотинивания, которому так подвержен российский чиновник.
Значит, еще один Новый год в четырех стенах в самом конкретном и самом худшем смысле сочетания этих слов. На этот раз ко всем совсем не праздничным ощущениям прибавится сверлящая тревога: куда отправят, где придется отбывать?
А еще на собственном прошлогоднем опыте я знал, что праздники в СИЗО – это всегда усиление режима, а значит, бесконечные шмоны с безжалостным перетряхиванием нашего нехитрого скарба в поисках браги, мобильников и прочих запретов. Вечное арестантское неудобство, вечный повод к беспокойству и унижению.
Словом, ничего доброго за перспективой Нового года в стенах самого знаменитого в России СИЗО не было.
Именно так все и случилось…
Три недели новогодних бутырских каникул были густо вымочены в безысходной арестантской, особенно ощутимой в праздники тоске. К тому же, похоже, что все, кто следил за моей судьбой с воли, были оповещены, будто я уже уехал – отправился к месту отбывания наказания. Соответственно, ни свиданий (пусть коротких через коридор и две решетки), ни писем, никаких приветов. От этого тоска становилась еще черней и гуще.
Лишь утром пятнадцатого января через приоткрытый кормяк снова грянуло слово «этап». И… стронулось скрипучее колесо арестантских перемен.
В семь вечера из камеры, стены которой жадно впитывали мою жизнь последние полгода, я перекочевал на сборку. Уже с баулом, уже попрощавшись с теми, с кем делил скудное бутырское пространство, уже готовый к этапу и ко всему, что с ним связано.
Сборка – тема отдельная. В принципе это та же самая тюремная хата, где железные двухэтажные шконки заменены скамьями вдоль стен. Впрочем, замена мебели вовсе не обязательна. Порою набившиеся в сборку и дожидающиеся вызова (кого на этап, кого на встречу с адвокатом, кого на вызов к следователю) сидят на голых железяках тех же самых двухэтажных шконок, что являются главной мебелью в общих камерах. Главной вечной достопримечательностью сборки всегда был табачный дым. Такой густой, что казалось, будто его верхние слои можно пилить на кусочки.
После сборки пришлось пережить еще один шмон. Возможно, и не такой дотошный, но все равно неприятный. «Последний бутырский шмон…» – отметил я про себя. Ни жарко ни холодно от этого открытия не было. Знал, что в самом ближайшем будущем на смену шмонам тюремным придут шмоны лагерные. Вряд ли грядущие шмоны будут приятней и человечней, чем шмоны предыдущие.
Удивило, что перед посадкой в автозаки, призванные доставить нас на вокзал, отправлявший нас капитан-уфсиновец предложил желающим взять новенькие черные телогрейки и такие же черные штаны. С одной стороны, такое предложение имело знак «плюс»: администрация проявила заботу по отношению к арестантам. С другой стороны, веяло от такого плюса замогильным холодом и перечеркивался он жирнющим минусом: если сами мусора ватную одежду в дорогу выдают, значит, везут непременно куда-нибудь в лютое Заполярье, где не то что срок отбывать, но и просто жить человеку совсем несладко.
Впрочем, тут же подтвердилась репутация всякой тюремной сборки как рассадника всех возможных слухов и новостей, ибо заметалась в этапной группе то ли переданная с воли, то ли утекшая из мусорской среды информация: повезут нас в Мелгород. Это никак не соответствовало только что предложенным ватным штанам и телогрейкам. Пункт нашего следования располагался почти в шестистах километрах к югу от Москвы, в местах, где абрикосы не только растут, но и вызревают.
Конечно, абрикосовые края – это лучше, чем Архангельск или Томск, только радость отбывать срок в теплых местах – совсем малокалиберная. Потому что климат, среднестатистическая температура и прочие погодные штучки – не самое важное. Самое важное – это положуха, обстановка в той зоне, где придется отбывать срок. Этот фактор из массы показателей складывается. Ответы на вопросы: бьют ли мусора в зоне, можно ли качать права, как кормят, сложно ли с мобильной связью и т. д. – только очень немногие составляющие этого фактора.
Увы, не нашлось в этапной группе тех, кто по прошлым срокам отбывал в мелгородских местах. Зато немало обнаружилось других, у кого кто-то из близких в этих местах сиживал. И тут мнения противоречиями клубились.
Кто-то со ссылкой чуть ли не на родного брата утверждал, как гвозди заколачивал, что положуха в мелгородских зонах – «сто пудов», что мусора там не кровожадные, что козлы свое место знают, словом, сидеть можно.
Другие, опять же со ссылкой на очень близких и очень уважаемых, заверяли, что в тех краях одна зона красней другой, что на каждой встречают «через дубинал», что там в любой день без причин запросто могут «подмолодить». Понизив голос до трагического шепота, добавляли: ежегодно на мелгородских зонах по причине мусорского беспредела кто-то вздергивается или вскрывается.
Правильней всего в подобной ситуации не верить никому, не принимать ни одну точку зрения, а расслабиться и дожидаться уже совсем недалекого попадания в зону будущего сидения, чтобы собственными глазами, а возможно, и собственной шкурой во всем убедиться, все оценить, все прочувствовать. Самые мудрые так и делали: покуривали, в общем разговоре участвовали кивками да универсальными обтекаемыми фразами.
Инстинкт арестантского самосохранения подсказывал мне, что надо следовать этому полумолчаливому примеру, что слушать и кивать, никого не поддерживая и ни во что не веря, сейчас, – самое верное.
Словом, хотел и я так же безучастно и безразлично слушать всех, не задавая вопросов. Хотел, да, похоже, не сильно это получалось. Потому что главный вопрос – «каково будет там, куда скоро привезут», оставался без ответа. Думаю, что и те, кто якобы равнодушно покуривал в это время, думали о том же самом. Потому что предмет этих раздумий был вовсе не призрачно-абстрактным, а напрямую касался нашего здоровья, настроения и всей нашей жизни на ближайшие, для большинства из нас очень долгие годы.
Ближе к полуночи приехали на Курский. Не выходя из автозака, ждали другие машины из прочих московских СИЗО. По мере приближения момента загрузки в «столыпин» напряжение нарастало. Те же бывалые, уже сидевшие, нагоняли жути про вологодский конвой, под который в дороге не дай бог попасть. Тем же трагическим голосом рассказывали, будто тот конвой лупит всех почем зря ни за что, а ради общего смирения и дисциплины.
Молча отметил про себя, что про кровожадный вологодский конвой я уже где-то слышал. Напряг память и вспомнил, что читал об этом у великого Шаламова. Только и оставалось удивиться, как с гулаговских времен, из прошлого века, этот диковинный миф-образ не забылся, не затерялся, а дожил до эпохи воровато победивших либеральных ценностей. А может быть, и не миф это, а вечная примета нашего государства, нашего общества?
Только и с конвоем опасения были напрасны. Ни при посадке в «столыпин», ни за все время дороги никого не тронули. Даже давали кипяток (пусть остывающий) на чай и по нужде (пусть не по первой просьбе, но все-таки…) выводили. Словом, конвой оказался очень даже с человеческим лицом.
Конечно, купе утрамбовалось под завязку. На пространство, в котором вольные люди путешествуют вчетвером, набилось двенадцать человек. Чтобы вместимость увеличить, на верхний ярус (между верхними полками) были положены доски. Разумеется, при такой плотности дышать в этом самом купе (некурящих здесь было, кажется, только двое) было трудно.
Еще одна неожиданность в самом начале пути обнаружилась. Не проблема, а скорее вопрос без ответа. Когда купе набилось, кто-то из бывалых, наугад примеривший на себя обязанности смотрящего (пусть на недолгое время дороги, пусть на кургузой площади столыпинского купе), поинтересовался:
– У всех все по жизни ровно?
Вопрос по арестантским понятиям не дежурный, а более чем актуальный. Смысл его прост: уточнить, не затесались ли в стихийно образовавшийся коллектив обиженные, бээсники[10]10
Бээсники – осужденные из бывших сотрудников органов, милиционеры, прокуроры и т. д.
[Закрыть], баландеры[11]11
Баландер (тюремн.) – арестант, работающий в тюремной столовой или разносящий еду по камерам, представитель неуважаемой категории заключенных (козлов), что остались отбывать заключение при изоляторе, а не отправились на зону, своего рода льгота, предоставляемая тюремной администрацией в ответ на предложение сотрудничать с нею (стучать и т. д.).
[Закрыть] по прошлым срокам и прочие, попадающие под нерукопожатную по тюремным понятиям категорию «непорядочных».
Между прочим, согласно мусорским инструкциям, такие в одно купе с «порядочными» категорически не должны попадать. Чтобы потом тем же мусорам лишних проблем не разгребать. Только на то и существуют инструкции, чтобы те, для кого они писаны, про них забывали. Так что прозвучавший вопрос был вполне актуальным. Тем более что прозвучал он как раз перед тем, как кругалю[12]12
Кругаль (тюремн.) – кружка.
[Закрыть] с чифиром в путь по кругу двинуться.
По жизни у всех вроде как и ровно оказалось, но один парень, лет тридцати, худущий, со стылым взглядом, кого подвезли на вокзал, кажется, из «Медведя» и кто сидел справа от меня, выдал с хрипотцой с некоторым вызовом:
– Вичевой я…
Выдержав почти эффектную паузу, пояснил чуть поспешней:
– Через посуду не перепрыгивает…
– Знаем, знаем… Это не по жизни – это так, – почти успокоили его сразу с нескольких сторон.
Правы были успокаивавшие, но…
Кругаль с чифиром, уже пущенный по кругу, должен был попасть в мои руки аккурат после этого худющего со стылым взглядом.
Вроде бы и ничего нового, вроде бы давно усвоены почти научные выкладки про пути-дороги СПИДа, вроде бы и общеизвестно, что с его носителями можно и из одной посуды поесть, и одну сигарету покурить, а все равно внутри екнуло-торкнуло. Там же внутри четкий голос глухо зароптал:
– Мало того что по беспределу семеру огреб, так еще и спидоноса судьба в сотрапезники подкинула… Не много ли одному?
Правда, это на мгновение, на долю секунды. И чифир после этого вкуса не потерял, и зубчик шоколада, откушенный опять же после моего соседа справа, я проглотил без усилий и сомнений. Да и как иначе, когда все эти неудобства на фоне грядущих, предназначенных нам перемен – пустяки, внимания недостойные.
Сколько мы ехали, сколько стояли на неведомых станциях, сказать невозможно. Это потому, что часов ни у кого из нас не было (в изоляторах наручные часы почему-то запрещены), а окна в столыпинском, воспетом еще Солженицыным вагоне, мало того что закрашены вроде бы и белой, но непроглядной краской, так еще и задрапированы жалюзи. По нашим самым приблизительным прикидкам на основе обрывков разговоров конвоиров и фрагментов радиообъявлений на станциях, получалось, что на дорогу ушло где-то около суток.
Впрочем, сутки ли, двое, неделю – никого всерьез это не волновало. Какая разница, сколько ехать! Ведь в дороге не бьют, не шмонают, в вагоне тепло, есть возможность попить чаю, в баулах остается еще что-то сладкое к этому чаю. Значит, ехать терпимо, ехать можно. Важнее, куда едем, что там нас ждет, какие тонкости таит в себе емкое слово «положуха», адресованное к той зоне, что очень скоро станет нашей.
Только приехать в город, в котором расположена твоя зона – это еще не значит сразу попасть в эту самую зону. Зоне непременно предшествует период нахождения «под крышей». «Под крышей» – это пересыльная тюрьма. По атмосфере и обстановке – это что-то вроде следственного изолятора. Те же самые двухэтажные шконки, те же сорокаминутные прогулки в крытом дворике, та же сечка на завтрак. Плюс ко всему уже упомянутая тревога на тему, как оно там все в лагере сложится.
С этой тревогой пережили мы первый день в мелгородской пересылке.
За первым днем неспешно потянулся второй, к которому пристегнулся такой же нестремительный, бедный на цвет, звуки и запахи день третий. Имевшие лагерный опыт говорили, будто переходный период между тюрьмой и зоной может затянуться чуть ли не на месяц, что это в порядке вещей, что в этом нет ничего плохого. Последний вывод подкреплялся единственным аргументом: мол, срок идет, какая разница, в каких стенах это происходит, если условия в этих стенах сносные, что есть что курить и есть что заварить.
Тревожного напряжения от этих разговоров не убавлялось.
На четвертый день «подкрышного» сидения кто-то неспешно вспомнил:
– А сегодня Крещение…
Все двенадцать человек, составлявших население нашей камеры, никак не отнеслись к этой новости. И я не был здесь исключением. Дело здесь даже не в тревожной перспективе наваливающегося лагерного будущего.
Откуда взяться должному отношению к православным праздникам, когда большая часть жизни пришлась на годы остервенелого атеизма, когда глупенький тезис «летали – ничего не видели» был чуть ли не начинкой государственной политики, когда из всех этих праздников я и большинство моих сверстников знали только Пасху, да и то благодаря съедобному приложению в виде вареных яиц в нарядной скорлупе.
Конечно, после ареста отношение к вере изменилось. За год, поделенный между тремя московскими изоляторами, многое внутри встряхнулось и сдвинулось. Во всяком случае «Отче наш» к концу этого года я знал наизусть. А еще я, кажется, стал понимать смысл, скрытый в откровении, что имел мужество в свое время сформулировать один из гулаговских сидельцев: «В тюрьме и в лагере я был ближе к Богу».
Тем не менее о том, что на сегодня пришелся большой православный праздник, я не вспомнил сам, а узнал от случайного, по сути, человека.
– А ведь сегодня Крещение, – еще раз прозвучало в хате уже после обеда.
– Заварим по этому поводу, – с удовольствием поддержал тему дед Василий, арестант с громадным стажем, бобыль, которого с воли никто не грел и который сам о своем достатке говорил без всякого преувеличения: «У меня, как у латыша, только хрен да душа». Заваривать он готов по любому поводу, в любое время суток, только бы нашелся для этого чай.
Я так и не обратил внимания на того, кто в камере вспомнил о Крещении, зато услышал совершенно неожиданное в этой обстановке.
Витя Студент, подмосковный парень, попавший в неволю за то, что, курнув анаши, ударил ножом донимавшего его придирками и поборами участкового, предложил:
– Поведут на прогулку, возьмем воды в полторашках, обмоемся, друг другу польем…
– Конечно, возьмем, – поддержал я Студента и тут же смолодушничал, засомневался: – А мусора?
– Что мусора? Рожи их видел? Вроде не чурки… Поймут…
В этой обстановке предложение Студента было самым мудрым. И по поводу мусоров он не промахнулся…
Ближе к пяти лязгнули тормоза в хате, и призванный вывести нас на прогулку мордатый рыжий прапор сразу метнул толстый палец в сторону двух полиэтиленовых, наполненных водой из-под крана фляг, которые Студент уже держал под мышкой.
– Это что?
– Разреши, старшой… Облиться… Крещение сегодня… – уважительно, но без подобострастия объяснил Студент. Выждав паузу, добавил в качестве последнего аргумента: – Небось сам крещеный…
– Все мы тут крещеные, – буркнул мордатый, но руку с оттопыренным пальцем-сарделькой опустил и голову, увеличенную форменным уфсиновским картузом, отвернул. Выходит, разрешил…
Прогулочный дворик на мелгородском централе выглядел так же, как выглядели прогулочные дворики в столичной Бутырке, в столичной «Пятерке», в столичных «Петрах». В каждом из них я был, так что свидетельствую лично. Все там одинаково, как под копирку: стены в «шубе», потолок в решетке, над решеткой между верхушкой стен и крышей, что опирается на железные балки, зазоры, в которых торчат куски очень далекого неба.
Арестанты, имевшие по три-четыре отсидки в разных местах, утверждали, что такой тип прогулочного дворика – единый для тюрем всей России. Единый так единый. По-другому оно уже и не представлялось.
А дальше все пошло так, будто этот сценарий я и Студент репетировали много раз. Едва тот же рыжий прапор захлопнул за нами железную дверь прогулочного дворика, мы разделись по пояс.
Крещенские морозы в этих местах до сих пор не грянули. Возможно, их и вовсе здесь не бывает в привычном смысле слова. Только январь – он и в шестистах километрах от Москвы – все равно январь. Напоминали об этом и совсем неласковый сквозняк, и крупные редкие снежинки, что попадали сюда через зазоры между крышей и верхушкой стен.
Потом мы по очереди вылили друг на друга по полбутылки воды. Лили неспешно, малыми порциями. Вода глухо шмякалась на шею, бесшумно сбегала по позвоночнику, щекоча, сползала по бокам вниз к животу.
Наши соседи по прогулочному дворику, кажется, не очень понимали, что мы делаем. Возможно, наше занятие представлялось им не более чем санитарно-гигиенической процедурой. Впрочем, большинство из них смотрели на нас с предельной безучастностью. И вовсе не по причине тупого безразличия. Просто вообще все, что творилось сейчас на территории прогулочного дворика, представлялось им недостойным внимания пустяком на фоне грядущей, вот-вот готовой начаться смены декораций. Вопросы, всерьез волновавшие их в этот момент, были известны и понятны: в какую зону попадем, как встретят, какие там порядки.
Между тем вода, вылитая на шею и спину, хотя и вызвала сначала дрожь, оказалась не холодной. Она вовсе не жалила, не впивалась своими иглами и колючками в кожу, а только бодрила и освежала ее.
– Нормально? – спросил Студент.
– Хорошо! – нисколько не преувеличил я.
Взгляд Студента скользнул вниз и уперся в неиспользованную полторашку с водой.
– Давай по новой…
Я молча кивнул и вдруг почувствовал неясное беспокойство.
– Что-то мы не так делаем…
– Да ладно, – в очередной раз попытался отбиться Студент универсальной арестантской формулировкой и уже потянулся за бутылкой.
– Давай с молитвой попробуем…
Мой подельник по крещенскому таинству вскинул глаза, в которых удивления, растерянности и виноватости было поровну:
– Ни одной не знаю…
И уже совсем огорченным тоном пояснил:
– Хотел на тюрьме выучить… Там в хате над дубком много висело, не собрался, заканителился…
– Я «Отче наш» знаю!
– Что ж ты раньше молчал… Давай!
Студент снова подставил свою крепкую, еще хранящую вольный ровный загар, спину. Я ливанул из бутылки, дождался, пока растекшаяся вода захватит максимум территории тела, начал торжественным шепотом:
– Отче наш, Иже еси на набеси…
Пришлось читать молитву и во второй раз, когда обязанности поливающего взял на себя Студент.
Верно, повторять слова самого сокровенного из всех известных человечеству текстов полуголым, нагнувшись, ощущая холодные тычки падающей воды, не очень удобно, даже не очень правильно. Только разве был у меня выбор?
Наверное, в этот момент должно было случиться что-то особенное. Близкое к событиям из разряда парящих над повседневностью, которая в этот момент обступала нас серыми, одетыми в «шубу», стенами, заплеванным полом, железной, исписанной скабрезностями дверью. Ничего даже похожего не случилось. Шаркали, поднимая едкую пыль, ноги товарищей по этапу, раскатывался извечный спутник арестантского общения – рулон табачного дыма, плескалась неспешная, опять же арестантская беседа, где не столько слов, сколько междометий, матерных связок да порою не имеющих особого смысла похохатываний.
Кажется, все было, как и было. Как и должно было быть. Как быть по-другому вроде и не могло. Ничего торжественного. Никаких знамений и откровений.
Совсем обычная вода только что сбежала по шее, лопаткам и спине к пояснице. И тасовалась в памяти колода картинок вовсе не возвышенных, а простецко-житейских.
Вот что-то из очень давнего. Моет меня, очень маленького, мать. Мне от силы года полтора. Таз, в котором я сижу, на табурете стоит, под которым еще один табурет размером побольше. Намылила мне мать голову, и, естественно, всплакнул я, потому как сколько ни зажмуривался, а все равно дозу мыльной горечи в глаза получил.
Вот и ковшик алюминиевый с погнутой ручкой, на которой заводское клеймо – цифра и звезда с вытянутым лучом, – вспомнился. Из этого ковшика мать мне голову смывала. При этом что-то нашептывала и сплевывала. Не запомнил я тех слов. А жаль. Ведь не сама их мать придумала, а выучила-подхватила от своей бабушки, которая в свою очередь еще от кого-то из прошлых поколений приняла. Сокровенным смыслом и великой силой такие слова обладают.









































