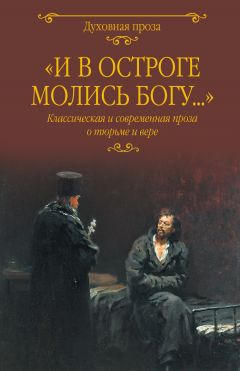
Автор книги: Владимир Короленко
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
В этот вечер староста Фролов закутил. Он угощал всех, даже Жилейку; бродяги, усевшись кучей, затянули протяжную и надрывающую песню. Приходил фельдфебель, потом начальник этапа, но все они видели, что это одна из тех неудержимых вспышек неповиновения, в которых увещания бесполезны, а насилие может повести к самым ужасным последствиям для обеих сторон. Еще третьего дня конвойные, провожавшие партию, спокойно спали в телегах, а кандальщики сами наблюдали дисциплину и порядок. Теперь староста первый шумел и вызывающе отвечал на увещания. Кругом этапа во дворе царило напряженное ожидание. Солдаты не ложились спать, караул удвоили, со двора слышалось сдержанное бряцание ружей. Казалось, зверь, которого вчера можно было водить на шелковой ленте, теперь ощетинился и грозил разбить свою клетку.
Опытные люди знают эти мгновенные вспышки в арестантской среде. Масса людей, которые обычно так или иначе руководятся своими разрозненными интересами, – тут вдруг проникаются общею всем страстью. Каждый чувствует это странное единодушие, наступающее без предварительного сговора, без рассуждений, и сознание общности настроения страшно усиливает его в каждом отдельном человеке. Тут трус становится храбрым, а храбрый человек – безумцем. Из двух сторон, стоящих лицом к лицу, одна чувствует себя сильнее, потому что заранее отказывается от самого дорогого, за что можно бояться…
Степанов, состарившийся на этапах, был знаком с этими стихийными вспышками. Поэтому он принял все меры, чтобы избегнуть столкновения. Он не пытался вмешаться, не отнимал водку, которую арестантам удалось добыть в большом количестве, и даже удалил от дверей камеры часового. Он надеялся, что таким образом пламя внезапно вспыхнувших страстей перегорит и погаснет, не выходя за пределы камеры.
Залесский старался заснуть, но это ему не удавалось: дремота была тревожна. По временам, открывая глаза, он видел будто в тумане силуэты двигавшихся людей; слышал сквозь дремоту говор и песни. Один голос особенно выделялся и тревожил его, напоминая о чем-то неприятном и тяжелом. Поэтому он не хотел просыпаться, а проснувшись, старался тотчас же опять заснуть.
В одну из таких минут он увидел Фролова. Староста сидел на краю нары, обнявшись с простоволосой арестанткой. Женщина покачивалась и, смеясь, с пьяною наглостью заводила циничную песню. В камере было душно, накурено и пыльно от движения; фигуры рисовались тускло, будто в волнах тумана, пронизанного скудным светом ночников. На одной из нар в середине выделялась тощая фигура Жилейки. Он потрясал в воздухе кулаками и выкрикивал охрипшим голосом, видимо кому-то угрожая: «Знай наших!.. Поберегайся!» Во всех концах камеры стоял оживленный говор. Даже те, кто не принимал в пирушке непосредственного участия, – сидели на постелях кучками и громко беседовали друг с другом о самых разнообразных делах и случаях, не имевших, по-видимому, ни малейшего отношения к тому, что здесь происходило. Камера гудела, как улей, разбуженный каким-то толчком в глухую полночь.
Потом протяжная хоровая песня покрыла все остальные звуки, и под ее грустный напев Залесский опять забылся.
Проснулся он от наступившей вдруг тишины и, проснувшись, сразу уселся на своей постели. Теперь в камере слышался один только голос. Кто-то плакал, но это не был плач пьяного человека. Это был протяжный грудной рев, как-то безнадежно и ужасающе ровный, которому, казалось, конца не будет. Этот рев как будто поглотил в себе все оживление разбушевавшейся камеры. Остальные арестанты прислушивались к нему в тяжелом испуганном молчании. Только пьяная женщина тянулась к рыдавшему, стараясь приподнять с нары его голову, и по временам причитала:
– Яши-инька, Яш! Горемышный ты мо-о-ой…
– Мамка, не трог меня… – глухо и прерывисто отвечал бродяга.
– Не трог, не трог, – испуганно шептали арестанты.
Вдруг Фролов поднял голову и обвел камеру тяжелым взглядом. Казалось, водка не опьянила его, и трудно было бы поверить, что этот человек только что плакал. Глаза его были сухи, черты стали как будто острее и жестче. Он порывисто приподнялся, держась руками за край нары, и искал кого-то глазами.
– А, барин! – крикнул он Залесскому, который смотрел на него, сидя на своем месте, отделенном от бродяги тянувшимися посреди камеры двойными нарами.
С языка бродяги сорвалось короткое циничное ругательство.
– Ва-а-просы… Я, брат, и сам спрашивать-то мастер… Нет, ты мне скажи – должен я отвечать или нет… ежели моя линия такая. А то – ва-а-просы. На цигарки я твою книгу искурил…
Залесский молчал.
– Сестра-а! – сказал опять Фролов тоном глубокого презрения… – У меня у самого сестра.
И затем целый град самых грубых ругательств полился из уст Фролова. Казалось, он чувствовал особое наслаждение, втаптывая в грязь образ мифической сестры, мечту своей жизни.
Залесский сидел молча и думал, чем кончится эта сцена. Арестанты смотрели то на него, то на Фролова, не понимая, в чем дело. С трудом сойдя со своего места, без халата и шапки, в одном белье и с палкой в руках, старый Хомяк пробирался между тем вдоль нары, направляясь к Бесприютному. Подойдя на два шага, он протянул руку, пошарил перед собой и, нащупав плечо Фролова, сказал с неожиданной силой:
– Молчи… Яков… Я тебе говорю: нишкни!
Фролов отстранился и, дико глядя на Хомяка, продолжал ругаться. Старик поднял палку и ударил Фролова. Среди арестантов пронесся внезапный вздох.
– Вяжи его, ребята… Вяжи щенка… Вали в мою голову…
– Врешь, – закричал Фролов. – Сам молчи, старая собака… Связал один такой-то!..
– Братцы, родимые, – ножик! – взвизгнула вдруг арестантка.
В камере поднялась суматоха. Около нар топталась и глухо наваливалась серая, безличная толпа…
– Старика смяли, – крикнул кто-то сдавленным голосом. – Что вы стоите, как быки? Уведи старика, ребята… Не-ет, врешь… Нет, отдашь…
Серая куча глухо сопела и ворчала, ворочаясь сплошной массой на полу…
– Берегись! Ножик, – крикнул кто-то, и, пролетев над головами, нож зазвенел на полу. Несколько тел опять глухо свалились на пол, и Фролов поднялся на мгновение над толпой, дикий и страшный, но вскоре опять свалился со стоном.
Когда, привлеченные шумом, в камеру вошли конвойные солдаты с ружьями, – все уже было кончено. Степанов вошел бледный и ждал столкновения, – но столкновения не вышло. Вся страсть этой толпы ушла на борьбу с одним человеком, который лежал на наре весь опутанный принесенной со двора веревкой. Фролов лежал неподвижно и только с какой-то странной размеренностью поворачивал голову, останавливая взгляд на ком-нибудь из арестантов. От этого взгляда становилось жутко.
Глава VIII– Барин, а барин!.. Слышь, барин!..
Залесский проснулся. Утомленная борьбой камера была погружена в глубокий сон. Даже один из караульных, приставленных к связанному Фролову, крепко спал, прислонясь спиной к деревянной колонке. Другой – Жилейка – растерянно топтался на месте в большом затруднении.
Фролов сидел на наре все еще связанный и глядел ли Залесского. Хомяк стоял около него, пытаясь развязать узлы своими дрожащими и бессильными руками.
– Помоги развязать, барин, – сказал Фролов. – Не бойся, ничего не будет. Видишь – старик меня знает.
Залесский поднялся и стал помогать Хомяку. У него работа тоже не особенно спорилась, но Жилейка, видимо обрадованный тем, что вмешательство барина окончательно снимает с него ответственность, – принялся за дело сам, и через минуту Фролов стал на ноги.
– Ну, ложись спать, ребята, – сказал он своим обычным голосом Жилейке и другому караульному, молодому арестантику, который успел тоже проснуться и удивленно протирал теперь заспанные голубые глаза.
– Слушаем, Яков Иванович, – сказал подобострастно Жилейка; казалось, все происшедшее внушило Жилейке еще более почтения к Фролову.
– Да смотри, ребята, никого не будить, – добавил последний. Теперь это опять был авторитетный староста, отдававший приказания, и оба караульных, не говоря больше ни слова, полезли на свои места и тихо улеглись, покрывшись халатами.
Фролов между тем взял свою шапку, надел халат, помог одеться Хомяку, и оба они вышли на двор, огороженный палями. Залесский, спавший у открытого окна, приложился лицом к железной решетке.
Две фигуры виднелись неясно на ступеньках крыльца. Они говорили о чем-то, но слов не было слышно. Только по временам грудной голос Фролова прорывался в темноте глубоко и полно. Хомяк говорил что-то глухо и неясно.
Ночь уходила своей тихой чередой. Фролов проводил Хомяка на его место и помог ему улечься. Затем сам он опять вернулся на крыльцо, и Залесскому все виднелись в окно неясные очертания неподвижной фигуры.
Острые концы палей все яснее проступали на светлеющем небе. Дыхание утра постепенно развеивало сумеречную мглу прохладной ночи… Небо синело, становилось прозрачнее, и взгляд Залесского, глядевшего из-за решетки, уходил все дальше ввысь…
Потом розовые лучи заиграли на зубцах и стали спускаться вниз на землю, золотя щели… Белое облако заглянуло сверху во двор и стало подыматься все выше. Потом другое, третье, целая стая… И за ними еще глубже проступала синяя высь…
Встрепенувшись от холодной росы, жаворонок, спавший всю ночь за кочкой вне ограды, поднялся от земли, точно камешек, брошенный сильной рукой, – и посыпал сверху яркой веселою трелью…
Из семейной камеры вдруг послышался плач ребенка, и эти неудержимые всхлипывания резко пронеслись из окна по этапному дворику. Когда ребенок смолкал на время, тогда было слышно дыхание спящих, чье-то сонное бормотание и храп. Но вскоре детский плач раздавался опять, наполняя собой тишину.
Бледная, изможденная, вышла на крыльцо мать ребенка. Некрасивое испитое лицо носило следы крайнего утомления; глаза были окружены синевою; она кормила и вместе с тем вынуждена была продаваться за деньги, чтобы покупать молоко. Стоя на крыльце, она слегка покачивалась на нетвердых ногах. Казалось, она все еще спала и двигалась только под внушением звонкого детского крика.
Бесприютный поднялся.
– Матрена! – окликнул он женщину. – Тебе молока, что ли?
Женщина протерла глаза.
– А! Ты здеся, Яков. Никак уже встал. Да. Яш, голубчик, – молочка бы ему: слышь, как заливается.
Фролов направился к небольшому домику, где помещалась караулка и кухня. Через минуту он вышел опять во двор с охапкой щепок и кастрюлькой. Синий дымок взвился кверху, и огонь весело потрескивал и разгорался. Бесприютный держал над пламенем кастрюльку, арестантка, все еще сонная, с выбившеюся из-под платка косой, стояла тут же.
– Ишь – заливается, орет, – произнес Бесприютный. – Ты бы хоть грудь дала.
– Чего давать, молока ни капли нету; всю он меня высосал…
– Ишь ты. А жив!.. В кого он у тебя такой уродился? А?
Арестантка не ответила. Она поправила выбившиеся волосы и сказала:
– А ты, Яков, вечор пошумел сильно.
– Пошумел, – сказал Яков просто. – На вот, неси… Ишь орет… Наголодался…
День совсем разгорелся. Выкатилось на небо сияющее солнце. Невдалеке с одной стороны лес вздыхал и шумел, а с другой шуршали за оградой телеги, слышно было, как весело бежали к водопою лошади, скрипел очеп колодца[6]6
Очеп – длинный шест у колодца, служащий рычагом для подъема воды.
[Закрыть].
Деревня принималась за работу.
– Ну, ребята! Подымайся в дорогу!.. – раздался голос Фролова у входа в этапную камеру. – Живей! Переход нынче долгий…
1888 г.
Петр Филиппович Якубович
(1860–1911)
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника
(Отрывок из книги)
Принимая за чистую монету всю эту кошмарно-кровавую атмосферу злобы и мести, которою дышала почти поголовно вся арестантская масса, можно было бы ужаснуться за русский народ, столько прославленный своей кротостью и христианским всепрощением и, однако, порождающий из своих недр подобных чудовищ зла и ненависти! К счастью, я думаю, не каждому слову арестантов следует придавать серьезность и значение.
Тем не менее я часто задавался вопросом о том, что должно делать общество с такими несомненно вредными членами… Конечно, прежде всего оно должно бы не производить и не создавать таких членов… Но, раз они уже есть, что с ними делать? Имей я власть, что я сделал бы с ними? Признаюсь, я и до сих пор затрудняюсь категорически ответить на этот страшный вопрос… Казнить и бичевать их теми бессердечными скорпионами, какими являются современные тюрьмы и каторга, я, конечно, не стал бы; но решился ли бы я, с другой стороны, отпустить их на волю? Сами арестанты иногда задавались при мне таким же вопросом… Нужно сказать, что они почти все без исключения глядели на себя как на невинных страдальцев… Ведь убитые, по их словам, не мучаются? Богатые оттого, что их пощипали немного, не обеднели? За что же их-то томят так долго? Десять, двадцать лет, вечно… За что и по окончании даже каторги не позволяют вернуться на родину, клеймя вечным клеймом отвержения и тем как бы толкая человека на новые убийства и преступления? И большинство решало, что, будь они на месте правительства, они немедленно выпустили бы всех заключенных на волю…
– А я, – вскочил и закричал раз один из арестантов, прослушав все мнения, – я собрал бы всех нас в одну тюрьму, со всего света собрал бы и запалил бы со всех концов! Из порченого человека не выйдет честного, и волку с овцами не жить как братьям!
Слова эти прозвучали глубокой, какой-то даже бесстыдной искренностью, и много горькой правды почувствовал я в них в ту минуту. Почувствовал – и сам ужаснулся… Ужаснулся потому, что у меня, конечно, не поднялась бы рука поступить по такому рецепту, потому что и этих страшных людей я научился понимать и любить, научился находить в них те же человеческие черты, какие были во мне самом, такое же умение страдать и чувствовать страдание. При данных условиях и обстоятельствах они являлись в моих глазах жертвами, а не палачами… И я нередко ловил себя на тайном сочувствии мечтам о побеге, на желании беглецу полной удачи, даже на легкомысленной готовности самому помочь ему вырваться туда, в этот зеленеющий лес, на эти привольные сопки, на дикую волю, дальше от душной ограды Шелайской тюрьмы, где гасло без следа столько сил и молодых жизней… При виде страдания, живого страдания, роднишься и сближаешься даже с заклятым врагом, сочувствуешь даже зверю, томящемуся в железной клетке и бессильному из нее вырваться!..
Чтение Библии– Все ученикам да ученикам, а нам, камере, ничего вот. Давайте, ребята, взбунтуемся! – сказал однажды Парамон, в особенно благодушном настроении покуривши свою трубку на нарах. – Надо заставить Николаича что-нибудь почитать нам.
– И то верно: почитать! – хором подтвердили остальные.
– Да что же мы станем читать, – спросил я, – когда книг нет? Одна Библия у меня да Евангелие.
– А чего же еще лучше надо? – отвечал Парамон. – Библию и начать. А то эти гандоринские сказки мне уж тошнее редьки стали. «Жил да был Иван-царевич да Серый Волк, Прасковья-царевна да Жар-птица…» Лежит тут возле, знай – брюзжит Яшке, волей-неволей слушать надо. И хоть бы хорошо сказывал, вот как Прелестников, например, в Покровском: тот – башка был, связать умел!
– Да я ведь старик, что с меня и взять-то? – пел в свое оправдание Гандорин. – Я, как в старые годы слышал, так и сказываю.
– Старик ты? Ох, врешь ты, старичок благочестивый! Не так, как в старые годы… Глаз-то у тебя не туда, брат, глядит. Слышу я! По сказкам твоим вижу, за что ты и в каторгу попал.
Все разразились хохотом, так как хорошо знали, что Гандорин пришел на двенадцать лет за изнасилование маленькой девочки.
Сказки Гандорина, которые он аккуратно каждый вечер рассказывал на сон грядущий Тарбагану и Чирку, нередко и меня возмущали до глубины души. Все они были, по-видимому, собственного его изобретения; в одну кучу сваливал он все когда-нибудь слышанные им истории, побасенки и даже жития святых и все покрывал общим флером какого-то беззубо-старческого цинизма и сладострастия. Даже самую обыкновенную, помещаемую в детских хрестоматиях, сказку он умел пропитать своим специфическим гандоринским духом. Арестанты вообще большие любители циничных бесед и рассказов; но сказки Гандорина отличались таким полным отсутствием талантливости и даже простой умелости, что никто, кроме непритязательного Чирка и Тарбагана, никогда не дослушивал их до конца.
– Вот хорошо, – начинал Гандорин своим обычным манером продолжение вчерашней бесконечной сказки, и уж от одного этого начала всех начинало клонить ко сну, и действительно камера вскоре подозрительно затихала под ритмическое журчание этих часто повторяющихся певучих «вот хорошо».
Мысль о чтении вслух давно уже меня интриговала, и я думал: как отнеслись бы мои сожители к тому или другому истинно художественному произведению, доставляющему столько высоких наслаждений образованному человечеству. Какое впечатление произвели бы на них Шекспир, Диккенс, Гоголь? Хорошо зная, что тюремные инструкции запрещают арестантам всякое другое чтение, кроме религиозно-нравственного и строго научного, но зная в то же время, что на практике в большинстве тюрем правило это не применяется слишком строго, я еще с дороги послал домой небольшой список беллетристических книг, которые просил мне выслать. Я с нетерпением поджидал теперь этой посылки, питая тайную надежду, что бравый штабс-капитан, как это нередко бывает, окажется меньшим формалистом относительно духовной пищи своих подчиненных, нежели относительно телесной. Пока же приходилось ограничиться Библией. Все затаили, казалось, дыхание, когда я в первый раз приступил к чтению. Однако не дальше как через час времени я заметил, что многие не выдержали этого напряжения и уже исправно храпели. Раньше других заснули Гончаров и Тарбаган; за ними последовали «ученики». Никифор даже и впоследствии, при самом захватывающем чтении, когда остальная публика волновалась, хохотала до упаду или скрипела зубами от ярости, не умел долго слушать и сосредоточивать внимание на одном предмете. Зато самым ревностным слушателем после Парамона оказался, к моему удивлению, Гандорин. Он как-то удивительно умел соединять в одно – отвратительнейшее сладострастие с самым искренним и умиленным святошеством. Слезы стояли у него на глазах, когда я читал историю о прекрасном Иосифе, проданном братьями в рабство, и он поминутно вытирал их кулаком. Впрочем, история эта произвела на всех одинаково сильное впечатление. Одного не выносили мои слушатели: что я читал не по стольку в один прием, сколько бы им хотелось. Им все казалось мало. Малахов, Чирок и Гандорин готовы были целую ночь слушать, и всякий раз, как я закрывал книгу, говоря, что на сегодня довольно, они поднимали крик и начинали со мной торговаться. К сожалению, я принужден был вскоре убедиться, что слушателей моих гораздо больше завлекала внешняя фабула рассказа, чем внутренний его смысл и содержание: по крайней мере, по окончании чтения мне ни разу не приходилось слышать никаких благочестивых бесед по поводу прочитанного. Послушали – и ладно. Каждый возвращался после этого к своему делу: один немедленно засыпал, другой начинал прерванную вчера сказку. А если чтение и вызывало иногда разговоры, то это была или какая-нибудь мелочь, относящаяся к специальности того или другого арестанта, или же такой пункт, обсуждение которого было мало полезно и желательно. Так, Яшка Тарбаган очень много смеялся по поводу жителей Содома[7]7
…жители Содома – по библейской легенде, жители древне-палестинских городов Содома и Гоморры отличались крайней развращенностью.
[Закрыть], оскорбивших ангелов, и, видимо, от души жалел, что его самого там не было… Уже большая часть камеры спала, а он все еще толкал под бок соседа и говорил, захлебываясь от смеха:
– Как они, брат, анделов-то, анделов-то… того!
А Гончаров, большею частью дремавший под чтение чутким стариковским сном, просыпаясь, говаривал после того, как я закрывал книгу:
– Как послушаешь да поразмыслишь, так всегда-то и везде одно и то же на свете было. Драки, убивства, насильства… И вечно, помни, вечно так оно и идти будет до скончания века!
В конце концов я вполне уверился, что до понимания Библии, этой книги, полной такой высокой поэзии и величавой простоты, слушатели мои не доросли еще; мне стало тогда понятным и то, почему именно чтение Библии вызывает так часто разные умственные расстройства в простых и набожных людях. Они приступают к ней с глубокою, чисто детскою верою в то, что каждая строка этой Святой книги должна быть чиста, благочестива и назидательна, и когда находят вместо того правдивую, неприкрашенную хронику первобытных нравов и жизненных коллизий всякого рода, со всеми их темными и порой грязными деталями, то положительно становятся в тупик и, не в силах будучи уловить общую, одухотворяющую все идею, не знают, что думать. Простолюдин так же точно относится к святому, как и к красивому. Красота, например, женщины только тогда бывает ему близка и понятна, когда бьет в глаза резкими, выпуклыми, банальными в своей красоте формами и красками, когда все в ней ярко и ослепительно, нет ни одной черточки, показывающей, что имеешь дело с живым, имеющим душу существом, а не с марионеткой или измалеванным дешевым иконописцем ангелом. Святое точно так же должно быть безукоризненно свято. А это что же за святые люди, когда некоторые деяния их в настоящее время были бы подведены под кодекс уложения о наказаниях и могли бы повести в каторгу? Пробовал я читать также Евангелие. Крестные страдания произвели огромное впечатление, и по поводу их в камере происходили разговоры, напомнившие мне слова дикаря Хлодвига, короля франков: «Ах, зачем я не был там с моими франками!» Что касается остальных частей Евангелия, то они вызывали мало интереса. Самое сильное и прекрасное, на наш взгляд, место – Нагорная проповедь – прошла совсем бесследно. Даже сам Парамон, главный ревнитель веры в нашей камере, заявил:
– Нет, Библию я больше одобряю… Не для нонешнего народа это писано… Око за око, зуб за зуб – это вот по-нашему!
– А по-моему, два ока за одно и все зубы за один! – добавил Чирок, смеясь.
В отчаяние, прямо в ужас приводила меня непроглядная темнота, царившая в большинстве этих первобытных умов, и часто я себя спрашивал: неужели там, «во глубине России», еще больше темноты и всякой умственной дичи? Неужели эти люди – те же русские люди, только затронутые уже лоском городской культуры, просвещенные и развращенные ею?
1896 г.









































