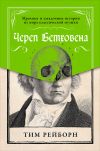Текст книги "Казус Vita Nova"

Автор книги: Владимир Мартынов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Следующий этап дробления некогда единого музыкального пространства совпал для меня с моим поступлением в консерваторию в 1965 году, ибо именно с этого момента антагонизм между старинной, классической и современной музыкой стал переживаться мной все острее и острее. В это время я начал активно изучать партитуры Веберна, но что, наверное, еще важнее – в это время я начал активно соприкасаться с музыкой композиторов «второго авангарда», то есть с музыкой Штокхаузена, Булеза, Ксенакиса, Берио, Лигети, Кагеля и Кейджа. Если музыка Стравинского, Шёнберга, Бартока и Айвза воспринималась мной как продолжение и развитие – пусть порою радикальное и парадоксальное – классической музыки, то музыка второго авангарда – не иначе как полное отрицание и ниспровержение всех классических норм, особенно это можно было отнести к Штокхаузену, Кагелю и Кейджу. Более того, вопрос можно было поставить и более жестко: если одно считается музыкой, то тогда другое таковой уже как бы и перестает являться. Во всяком случае, я сам неоднократно слышал от наиболее авторитетных и именитых исполнителей классической музыки – Нейгауза, Ойстраха, Зака, Флиера: «Это не музыка» – по поводу какого-нибудь опуса Кагеля или Штокхаузена.
В 1970-е годы, когда музыкальный мир буквально захлестнула волна аутентического исполнительства, на гребне которой засверкали имена Кёйкена, Хогвуда, Саваля, Арнонкура и других блестящих дирижеров и инструменталистов, не менее драматические взаимоотношения начали складываться и у классической музыки с музыкой старинной. На наш круг и на меня лично открытие аутентики произвело, наверное, такое же шоковое впечатление, какое в начале прошлого века могло произвести открытие русской иконы. Подобно тому, как под снятыми слоями многовековой копоти и грязи открылись первозданные, радостные и праздничные краски иконы, так, освободившись от жирного академического вибрато и вагнеро-малеровской помпезности, барочная музыка открыла свою изначальную упругую, четко артикулированную природу. Казалось, что в аутентике музыка являет сама себя, а все остальное представляет собой лишь досадные позднейшие напластования. Да и сама аутентика вела себя достаточно агрессивно: сначала она вывела из-под юрисдикции и, соответственно, из компетенции академической классики всего Баха и всю барочную музыку, практически запретив неаутентическим исполнителям появляться на этой территории, а затем начала простирать свои претензии и на Моцарта, и на Бетховена, и на Шуберта. Продолжая двигаться в этом направлении, можно было подумать, что и Малер играется теперь как-то не совсем аутентично, подтверждением чего могли послужить части симфоний Малера, переложенные Шёнбергом для камерного состава. Как бы то ни было, но претензии эти заходили так далеко, что иногда начинало казаться, будто классическая музыка – это всего лишь некая позднейшая иллюзия, возникшая в результате отступлений от принципов аутентики.
Однако напряженности, возникающие между барочной, классической и современной музыкой, оказались лишь детским лепетом в сравнении с рок-революцией, разразившейся в середине 1960-х годов прошлого века. Я не буду сейчас много распространяться по поводу этой революции и ее последствий, скажу только, что «Битлз», «Роллинг Стоунз», Джимми Хендрикс и Роберт Фрипп не только изменили лицо мира (с чем невозможно спорить), но и оказали значительное влияние на статус и месторасположение музыки в культурном пространстве мира. Ошибаются те завсегдатаи концертов в филармонических залах, которые полагают, что рок-концерт, проходящий по соседству на стотысячном стадионе или в многотысячном дворце спорта, не оказывает никакого влияния ни на природу классической музыки, ни на них самих даже в том случае, если о рок-музыке они ничего и знать не хотят. Рок-музыка – это одно из наиболее фундаментальных музыкальных явлений ХХ века, как бы кто к этому ни относился.
Но лично для меня живое соприкосновение с фольклором явилось не менее, а может быть, даже и более значимым, чем откровение рок-музыки. Первая же моя фольклорная экспедиция, в которой я оказался в 1968 году, как и первая моя встреча с Ефимом Тарасовичем Сапелкиным изменили не только мое отношение к музыке, но изменили саму мою жизнь. Но сейчас я не буду останавливаться на этом личном моменте, а отмечу лишь, что расширение общемузыкального пространства в результате открытия рок-музыки и фольклора просто не могло не изменить природу самой музыки, и теперь отвечать на вопрос «Что такое музыка?» стало еще труднее; и даже привлечение методов музыкальной социологии здесь помочь уже не могло.
В самом деле, если музыкальная социология занимается изучением того, как социально-бытовые формы жизни и поведения порождают конкретные музыкальные формы, то при сопоставлении рок-музыки, академической музыки и фольклора речь должна идти уже не о различных социально-бытовых формах, но о разно ориентированных и по-разному самоопределяющихся культурах, а именно о молодежной контркультуре, о новационно ориентированной культуре города и о традиционно ориентированной культуре деревни. Эта проблема сопоставления и соотношения разных культур в их связи с конкретными музыкальными формами уже не могла быть описана и решена средствами музыкальной социологии, и поэтому здесь требовалось обращение к некоей новой дисциплине, к некоей новой области знания – которая не замедлила явить мне себя в виде музыкальной антропологии. Если антропология изучает различные типы и структуры сознания, различные культурные модели и проблемы горячих и холодных сообществ, а также особенности анархических контрсообществ типа коммунитас, то музыкальная антропология занимается анализом того, как эти структуры сознания и культурные модели порождают определенные формы социально-бытового поведения и как эти формы социально-бытового поведения, в свою очередь, порождают конкретные музыкальные формы. Из этого анализа явствует, что музыкальные формы не существуют сами по себе, но каждая из них обусловлена определенной формой социально-бытового поведения, которая, в свою очередь, предопределяется определенной структурой сознания и определенной моделью культуры, и, стало быть, именно определенная модель культуры предопределяет в конечном итоге природу музыкальной формы и ее звуковой структуры. Это значит, что музыкальная антропология становится ключом к пониманию природы различия музыкальных форм и что в пространстве, в котором сосуществуют рок-музыка, академическая музыка, современная музыка и фольклор, ответ на вопрос «Что такое музыка?» невозможен без принципов и методов музыкальной антропологии.
Система знаний о музыке, включающая теорию, историю, социологию и антропологию, оказалась настолько жизнеспособной и действенной, что смогла служить мне путеводной нитью на протяжении всех 1970-х годов. В нее вписывалось практически все, чем я тогда занимался: и работа в электронной студии при Скрябинском музее-квартире, и участие в авангардных концертах и фестивалях вместе с Арво Пяртом и Валентином Сильвестровым, и игра в рок-группе, и написание музыки к фильмам и спектаклям, и издание серии сборников ренессансной музыки, и организация первых в СССР музыкальных хэппенингов. С другой стороны, записи индонезийского гамелана, индийских раг, японской музыки гагаку и сёкухачи, тибетской ламаистской музыки, африканской барабанной игры и арабских макомов постоянно поставляли материал для опробования методов антропологической концепции и постоянно подтверждали ее действенность, так что в конце концов у меня сложилось ощущение, что я действительно обладаю неким универсальным ключом понимания музыки. Однако в самом конце 1970-х годов, когда я, как мне казалось, навсегда порвал с композиторством, воцерковился и начал преподавать в Духовной академии, универсальность понимания, обеспечиваемая музыкальной антропологией, была поставлена под вопрос. Погрузившись в изучение древнерусской системы осмогласия и крюковой нотации, а также в изучение византийской невменной нотации и западной, или «григорианской», системы модусов, я вдруг обнаружил, что нахожусь на границе музыки, за которой начинается что-то совсем иное, что-то принципиально «не музыкальное», хотя и оперирующее звуками. Со временем я понял, что оказался на границе человеческого и богооткровенного, на границе пространства искусства и сакрального пространства, на границе музыки и богослужебного пения, являющегося уже не искусством, но аскетической дисциплиной. Здесь уместно провести аналогию с иконописью, ибо подобно тому, как икона представляет собой богословие в красках, так и богослужебное пение представляет собой богословие в звуках; и если согласиться с таким определением богослужебного пения, то придется признать, что богослужебное пение выпадает из компетенции антропологии и подпадает под компетенцию богословия, или теологии. И, таким образом, здесь следует говорить уже не об антропологии, но о теологии музыки. Теология музыки занимается вопросами сакрального пространства, то есть тем, что находится за пределами искусства и за пределами музыки, а это значит, что знание, даруемое этой дисциплиной, дает возможность увидеть музыку со стороны, всю целиком и сразу, и в этой возможности взгляда со стороны заключается предельное знание о музыке. Вот почему можно утверждать, что только теология музыки может дать полный и окончательный ответ на вопрос «Что такое музыка?».
Все 1990-е годы я пребывал в полной уверенности в том, что мне действительно удалось найти окончательный ответ на этот вопрос, и в этой уверенности я написал несколько книг, в которых рассматривались и проблемы структуры сакрального пространства, и проблемы соотношения сакрального пространства с пространством искусства, и проблемы религиозных корней композиторской музыки, и проблемы периодизации истории западноевропейской музыки в связи с процессом утраты достоверности спасения, и еще целый спектр подобных проблем, но к концу 1990-х годов на стыке тысячелетий я вдруг ощутил недостаточность всего этого. Нет, я ни в коем случае не усомнился в правильности и эвристичности всего написанного мной, но почувствовал какую-то неполноту этой модели знания. Вернее, я почувствовал, что до полноты здесь не хватает какого-то очень важного элемента, какого-то очень важного шага. Действительно, если путь познания музыки рассматривать как некую последовательность шагов, то этими шагами будут являться теория и история музыки, музыкальная социология, музыкальная антропология и, наконец, музыкальная теология. Каждый из этих шагов приближает к полноте знания, но когда совершаешь последний шаг и ожидаешь, что именно сейчас и обретешь эту самую полноту, то вдруг выясняется, что опять чего-то не хватает. Я долго не мог понять, чего же именно мне не хватает, пока не догадался, что здесь не хватает того, кто совершает эти шаги, того, кто идет по этому пути познания, – короче говоря, здесь не хватает меня самого, не хватает моего собственного «я».
Не знаю, как было раньше, но сейчас мне кажется невозможным существование какого-то отвлеченного, академического знания. Теперь каждое знание должно становиться самопознанием. И если это отнести к музыке, то можно заключить, что путь познания музыки должен превратиться в путь самопознания. В конечном итоге, если говорить откровенно, меня совсем не интересует, что такое музыка, – меня интересует, почему я задаю этот вопрос и чем ответ на этот вопрос будет чреват для меня лично. Меня интересует музыка как самоисследование и самоисследование как музыка; и если я действительно думаю именно так, то тут уже не могут помочь ни теория и история музыки, ни музыкальная социология, ни музыкальная антропология, ни даже музыкальная теология. Здесь нужен принципиально новый поворот знания, принципиально новая дисциплина; и поскольку эта дисциплина непременно должна быть связана со мною лично и с моим собственным «я», то такой дисциплиной может быть только музыкальная автоархеология, то есть археология моего «я» через музыку и археология музыки через мое «я». Ответ на вопрос «Что такое музыка?» невозможно получить, если прежде не ответить на вопрос «Что такое мое “я”, задающееся вопросом “что такое музыка?”», и поэтому вопрос «Что такое музыка?» сводится к вопросу «Что такое есть мое “я”?». Вернее, эти два вопроса неразделимы, поэтому-то речь и заходит о музыкальной автоархеологии.
7
Основополагающая особенность нашего дома заключалась в том, что этот огромный, одиннадцатиэтажный, девяностоквартирный дом был одновременно заселен не просто людьми, принадлежащими к одному профессиональному цеху и одной социальной прослойке, но людьми, принадлежащими к одной возрастной группе, ибо большинству новоселов было или «под пятьдесят», или же «чуть за пятьдесят». В то время не было проблемы молодежной культуры с ее диктатом молодости, а потому не существовало и проблемы среднего возраста, так болезненно переживаемой в наши дни. Средний возраст – это было то, что нужно. Это был возраст расцвета сил, возраст, когда человек находится в «самом соку», в зените своих возможностей. И еще: средний возраст был возрастом успешного состоявшегося человека, и наш дом был домом успешных состоявшихся людей, ибо квартиру в нем могли приобрести только люди, относящиеся именно к этой категории.
Разумеется, степени успешности и состоятельности могли варьироваться от средних до самых высших, и в нашем доме жили как «простые смертные», так и настоящие знаменитости. Так, нашими соседями по лестничной площадке были Блантер и Будашкин, пользующиеся всесоюзной славой и всенародной любовью. Непосредственно над нашей квартирой на четвертом этаже жил Анатолий Лепин, со студенческих лет находящийся с моим папой в теснейшей дружеской связи. Он сочинял за роялем и вообще очень много играл, в результате чего весь творческий процесс работы над «Карнавальной ночью» и над другими его хитами 1950-х годов протекал у меня на слуху. Прямо напротив Лепина на том же этаже жил Лев Шварц, над песней которого «Далеко, далеко за морем» я пролил немало умиленных слез. Над Лепиным жил Сигизмунд Кац, над Кацем жил Серафим Туликов. В соседнем подъезде жили Листов, Бабаджанян, Колмановский и Лядова, – словом, по справочной книжке нашего дома можно было изучать историю советской песни 1940–1960-х годов. Конечно же, в нашем доме жили не только композиторы-песенники. Так, непосредственно за нашей стеной жил Михаил Меерович, написавший музыку к уйме мультфильмов, в том числе к таким шедеврам, как «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Несколькими этажами выше жил Михаил Зив, обессмертивший себя музыкой к кинофильму «Баллада о солдате». Жил здесь и целый ряд «серьезных» академических композиторов и музыковедов, постоянных участников камерно-симфонической секции. Жили и такие небожители, как Ростропович с Вишневской, и такие оригинальные персонажи, как всеми любимый и трогательный в своей болезни и в своих стихах Коленька Долуханян – сын тоже знаменитого композитора-песенника, или как художница Алиса Ивановна Порет, ученица Филонова и возлюбленная Хармса, которой сам Хармс посвятил следующие строки:
Передо мной висит портрет
Алисы Ивановны Порет.
Она прекрасна точно фея,
Она коварна пуще змея,
Она хитра, моя Алиса,
Хитрее Реине́ке Лиса.
Когда мы въезжали в наш дом, мне было девять лет. И тут вдруг выяснилось, что в этом доме полно моих сверстников. Кто-то был на год моложе, кто-то на год старше, но в основном это были мои одногодки. Все мы так или иначе были рождены в три послевоенных года – в 1945, 1946 и 1947-м. Это вовсе не значит, что у въехавших в наш дом композиторов и музыковедов не было на тот момент более взрослых и более маленьких детей. Просто более маленькие дети не были еще способны образовать сознательное и самостоятельное сообщество, а более старшие дети были уже членами тех сообществ, которые в свое время сформировались в местах их прошлого проживания, и поэтому на новом месте они оказались как бы не у дел. И именно мы, девятилетние, десятилетние и одиннадцатилетние, оказавшись одномоментно в едином пространстве нового дома, смогли ощутить себя как осознанное самостоятельное сообщество «детей композиторов». В этом сообществе были более тесные дружеские группы и менее тесные отношения, были ближние и дальние круги, но все мы чувствовали единство друг с другом, обусловленное причастностью к нашему дому. Мы ходили друг к другу на дни рождения и просто так в гости. Мы гуляли, играли, влюблялись, ревновали – в общем, жизнь била ключом. Все мы учились в одной школе – в школе № 131, так что все радости и горести учебного процесса мы переживали совместно. Нельзя сказать, что мы держались как-то обособленно и не водили дружбу с другими ребятами, но и в школе мы ощущали себя единым сообществом, единым кланом. Наша обособленность начинала ощущаться иногда во дворе при соприкосновениях с мальчишками из соседних домов. Нас недолюбливали, называли «композиторами», и в этом явно прослеживался мотив социальной розни, который имел достаточно веские основания, ибо по сравнению с соседними домами наш дом был, как бы теперь его назвали, элитным домом, а мы были наглыми пришельцами-нуворишами, незаконно обосновавшимися на земле аборигенов.
8
Несмотря на то, что на протяжении семнадцати лет я преподавал в Духовной академии Троице-Сергиевой лавры и преподаю сейчас на философском факультете МГУ, я не чувствую в себе склонности к преподаванию и не ощущаю педагогического призвания. Однако иногда мне представляется некое идеальное учебное заведение, – или некий ашрам, – обучение музыке в котором происходило бы на основе предлагаемой мною системы музыкальных дисциплин. Знание о музыке должно быть гармоническим знанием, и поэтому дисциплины, образующие систему этого знания, должны были бы образовывать не просто некую целостность, но гармоническую целостность. Подобно тому, как пифагорейский космос представляет собой гармоническое единство четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня, которые образуют иерархическую последовательность возрастания динамичности, начиная от абсолютной статики, олицетворяемой землей, и кончая абсолютной динамикой, олицетворяемой огнем, так и идеальное музыкальное знание должно представлять собой гармоническое единство четырех дисциплин, или четырех ступеней знания – теоретико-исторической ступени, социологической ступени, ступени антропологической и ступени теологической. В этой системе познания теоретико-историческая ступень соответствовала бы элементу земли, и поэтому находящиеся на ней должны были бы носить знак земли; социологическая ступень соответствовала бы элементу воды, и находящиеся на ней должны были бы носить знак воды. Соответственно, находящиеся на антропологической ступени должны были бы носить знак воздуха, а находящиеся на теологической ступени – знак огня. Прошедшие все четыре ступени уже не должны были носить знаков земли, воды, воздуха или огня, но получали знак тетраграмматона, указывающий на достижение полноты знания. Достижение этой полноты для большинства означало бы окончание пути познания, но для немногих избранных путь мог быть продолжен, и продолжением этого пути был бы путь музыкальной автоархеологии. Вступившие на этот путь уже не должны были бы носить никаких знаков, ибо они выпадали из-под действия иерархических законов и становились подобны сразу и кошке, гуляющей сама по себе, и Чеширскому коту, и черной кошке Конфуция.
Конечно же, этот проект ашрама является фантазией чистой воды, но описываемая здесь система знания фантазией отнюдь не является. Напротив, она представляет собой совершенно конкретную и осязаемую реальность, и я сейчас конспективно еще раз напомню ее основные положения и ее четырехступенное членение. Первая – теоретико-историческая ступень посвящается изучению конкретных звуковых структур и музыкальных форм, которое осуществляется на базе таких дисциплин, как гармония, полифония, анализ музыкальных форм и инструментоведение. Что же касается исторической части, то здесь должна изучаться не только история становления музыкальных форм, но и, что важнее, история теоретических систем и история музыкально-теоретических концепций от древности до наших дней. Вторая – музыкально-социологическая ступень посвящается изучению социально-бытовых форм жизни и поведения, предопределяющих природу музыкальных форм и обеспечивающих их жизнеспособность. На этой ступени не только музыкальные формы, но и такие дисциплины, как гармония, полифония или анализ музыкальных форм, должны стать предметом социологического анализа. Этот социологический анализ здесь должен идти рука об руку с психологией музыкального восприятия, ибо инерция восприятия превращается в мощный социальный рычаг, воздействующий на природу музыкальных форм. Третья – музыкально-антропологическая ступень посвящается изучению архетипических структур сознания и базовых моделей культуры, которые проявляют и материализуют себя в социально-бытовых формах жизни; и поскольку эти социально-бытовые формы жизни порождают конкретные музыкальные формы, то получается, что природа музыкальных форм предопределяется архетипическими структурами сознания через посредство социально-бытовых форм жизни. Можно сказать еще, что музыкальные формы есть звуковые отпечатки архетипических структур сознания, и в выявлении этого и заключается суть музыкально-антропологического анализа. Наконец, четвертая – музыкально-теологическая ступень посвящается изучению основополагающих форм откровения и форм веры, которые запечатлеваются в архетипических структурах сознания и через посредство социально-бытовых форм жизни воздействуют на природу музыкальных форм, предопределяя их конкретный вид.
Таким образом, каждая отдельно взятая музыкальная форма существует не сама по себе, но обусловливается различными факторами: социологическим фактором, антропологическим фактором и фактором теологическим. Различные комбинации воздействий этих факторов вызывают к жизни все многообразие музыкальных форм, что наводит на мысль о возможности создания всеобщей классификации музыкальных форм, которая могла бы иметь вид таблицы, напоминающей периодическую таблицу Менделеева. Во всех моих последних книгах практически присутствуют таблицы, но эти таблицы представляют собой лишь фрагменты той таблицы, которую я пытаюсь создать. И когда эта универсальная таблица всеобщей классификации всего многообразия музыкальных форм и музыкальных практик будет создана, тогда откроется и смысл музыкальной автоархеологии как искусства практического пользования этой таблицей или как искусства нахождения своего и только своего места в пространстве табличных ячеек. Однако для того, чтобы применить на практике искусство автоархеологии, совершенно необязательно дожидаться времени завершения создания этой «музыкальной таблицы Менделеева», ибо искусство автоархеологии – это путь самопознания, а путь самопознания может быть начат в любой момент в любой точке пространства.
9
«Vita Nova» создана на основе прозы Данте и его стихотворных размышлений о своей любви к Беатриче. Можно понять, почему Мартынов (1946 года рождения, отнюдь не желторотый птенец!) так увлекся этим произведением. Создатель многочисленных Апокалипсисов, Плачей и Видений, он – один из тех страждущих славян-мазохистов, для которых христианство – форма экстаза, отвергающая материальный мир и презирающая обыденные человеческие условности. Мучения Данте в ходе умирания Беатриче и ее превращения в воплощение божественной любви дают ему еще одну возможность подбодрить себя путаными аккордами. Так выглядит его созерцание вечности под звучание «Agnus Dei» и «Kyrie Eleison».
10
Подобно тому, как в воде Москвы-реки, по утверждению экологов, можно обнаружить все элементы, содержащиеся в таблице Менделеева, так и в музыкальной жизни современного мегаполиса можно обнаружить все музыкальные формы и все музыкальные практики, классифицируемые «музыкальной таблицей Менделеева», о которой я писал выше. Ежедневно и ежевечерне любой мегаполис предлагает человеку все мыслимое и немыслимое многообразие музыкальных форм. Здесь могут одновременно проходить и симфонические концерты, и концерты старинной музыки, и концерты ультрасовременной музыки, и рок-концерты, и джазовые джем-сейшены, и этнические концерты с участием тувинцев, гуцулов или эвенков, и концерты с участием знаменитого ситариста, арабского лютниста или исполнителя на кельтской арфе. В то же самое время здесь могут выступать буддийские монахи, или монахи из католического монастыря, православные певчие или певчие из хасидской синагоги. Я уж не говорю о музыке, звучащей в клубах и на дискотеках, не говорю о модных диджеях, интернетных композиторах или музыкантах, играющих в подземных переходах, – всего просто не перескажешь, и все это образует музыкальное пространство мегаполиса, образует ту музыкальную данность, в которой мы живем, независимо от того, принимаем мы это или нет, слышим или не слышим. Это пространство, рассматриваемое как единое целое, характеризуется специфической комбинацией социологических, антропологических и теологических параметров, о чем я буду писать позже, сейчас же я хочу попытаться обнаружить место, которое занимает композиторская музыка и фигура композитора в невообразимом музыкальном многообразии.
Для того чтобы найти такое место, нужно отсечь все некомпозиторские музыкальные практики – джаз, рок, этно, клубную музыку, традиционную восточную музыку, монашеское пение – словом, все те области, где фигуры композитора не может быть изначально, и сосредоточить все внимание на академической музыке как на области, традиционно принадлежащей композитору. Но и в этой области живому современному композитору остается все меньше и меньше места. Так, в концертном пространстве старинной аутентической музыки ему нет места по определению, а в симфоническом концертном пространстве еще пребывающий в этом мире современный композитор появляется так редко, что такое появление следует расценивать как какое-то из ряда вон выходящее, исключительное, хотя и не всегда радующее событие. Единственное место, где в наше время живой современный композитор может еще чувствовать себя хозяином положения, – это фестивали и концерты современной музыки, но по сравнению с общим массивом мегаполисного музыкального пространства эта область обитания и господства композиторов настолько мизерна и мала, что, для того чтобы ее разглядеть, нужны какие-то оптические увеличивающие устройства или даже приборы ночного видения. Впрочем, последнее обстоятельство не мешает самим композиторам ощущать и вести себя так, будто им по-прежнему принадлежит все музыкальное пространство и будто, как в XIX веке, сейчас вне композиторской музыки нет никакой музыки.
Такая ситуация напоминает анекдот об экскурсии по раю, в котором ангел в качестве экскурсовода показывает экскурсантам места обитания католиков, протестантов и баптистов. Подходя к обители православных, ангел просит всех не шуметь и не разговаривать. На вопрос «почему?» он отвечает: «Они думают, что они здесь одни». Этот несколько сомнительный с религиозной точки зрения анекдот удивительно соответствует взаимоотношениям композиторского сообщества с музыкальным пространством мегаполиса. Композиторы действительно полагают, что это пространство представляет собой бесконечное количество куч звукового шлака, среди которых они мужественно создают «настоящую музыку». Композиторы действительно полагают, что «они здесь одни». А вместе с тем их позиции теснятся не только со стороны некомпозиторских музыкальных практик, но и со стороны новых претендентов на звание «композитор».
Так, согласно данным Российского авторского общества (РАО) за 2007 год, только в одной Москве насчитывается 4604 композитора. В Питере их 442, в Нижнем Новгороде – 268, в Казани – 50, в Воронеже – 167, в Краснодаре – 333, в Ростове-на-Дону – 405, в Волгограде – 211, в Самаре – 260, в Уфе – 175, в Екатеринбурге – 286, в Новосибирске – 380. Таким образом, всего в России насчитывается 7434 композитора. Совершенно поразительная цифра, если учесть, что композиторы – штучный товар и что на нашем композиторском курсе нас было всего восемь человек, и это считался очень большой курс, ибо обычно ежегодно консерваторию заканчивали не более четырех-пяти композиторов. Причем очень важно заметить, что 7434 композитора, зарегистрированные в РАО, отнюдь не являются какими-то «мертвыми душами». Факт регистрации свидетельствует о том, что их продукция где-то звучит и что они, в отличие от большинства «традиционных композиторов», получают за это деньги. Кроме композиторов, зарегистрированных в РАО, есть еще огромное количество интернетных композиторов, обменивающихся своей продукцией в сети, а есть еще и одиночки-надомники, одним из которых является мой старинный друг художник Володя Серебровский, почитатель Фриппа, Гэйбриэла, Маклафлина и Шульце. Он поставил в своей студии дешевенький синтезатор и, не имея никакого специального образования, записал на нем кучу дисков медитативной музыки, которая для меня порой интереснее и приятнее многого из того, что звучит в Союзе композиторов на «Московской осени».
Но вообще-то это достаточно болезненный вопрос. Когда во время обсуждения «Vita Nova» на секции Ассоциации современной музыки я упомянул о проживающих в Москве 4604 композиторах и когда все присутствовавшие в один голос на повышенных тонах принялись утверждать, что это никакие не композиторы и что говорить об этом просто некорректно, то я вдруг почувствовал, что присутствую при ситуации, зеркально противоположной хармсовской. Если у Хармса композитор заявлял: «Я композитор», на что Ваня Рублев отвечал: «А по-моему, ты говно», то в новой ситуации слова «Я композитор» произносил уже некий коллективный Ваня Рублев, а ответ «А по-моему, ты говно» исходил от профессионального композиторского сообщества. Как бы то ни было, но именно тогда я понял, что для того, чтобы решить, кто по-настоящему является композитором, а кто нет, недостаточно ответить на вопрос «Что такое композитор?» – нужно ответить на вопрос «Что такое композитор в контексте музыкального пространства мегаполиса?».
11
Вчера на заседании АСМа В. Мартынов показывал свою новую оперу. Впервые из первых уст я услышал после прослушивания музыки словесный бред самого композитора. К сожалению, этот бред транслируется через журналистов, музыкальных критиков и музыковедов, которые, как мухи, липнут к композитору. Оказывается, бред гламурности исходит от таких, как Мартынов. Сам композитор в устной речи постоянно перескакивал с одной мысли на другую. Для некоторых слушающих это было признаком ума и информированности композитора, для меня же этот бредовый рассказ – неумение человека сосредоточиться и ясно изложить свою мысль устно (письменно он, кстати, тоже очень смутно мысли излагает, хотя и гладко у него это получается). Теперь мне яснее становится и творчество самого композитора, то есть почему он избрал «долбежку» одного и того же на большом отрезке времени в своих произведениях, – это попытка самого композитора собрать свое сознание и ум, чтобы что-то понять в том, что он делает. По большому счету, мне наплевать, что делает этот автор, но очень прискорбно, что свой личный бред он умножает через зомбированных журналистов и критиков от музыки. Этот бред оседает в неустойчивых умах руководителей концертных организаций, властных структур, от которых зависит утверждение тех или иных программ и поддержки современной музыки. Короче говоря, этот бред давит все новое, хрупкое в музыкальном искусстве. Анафема бредовой позиции В. Мартынова, которая правит сегодня в мире музыкального искусства!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.