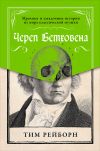Текст книги "Казус Vita Nova"

Автор книги: Владимир Мартынов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
И тут вновь придется обратиться к «Автомонографии» Екимовского. В этой энциклопедии композиторской жизни имена Загния и Юсуповой попадаются только в списках концертных программ, имена Карманова и Соколова удостоены парой не особенно лестных строк, а имени Айги нет даже в именном указателе, хотя его ансамбль «4’33”» и упоминается в тексте. Но самое интересное связано с именем Батагова, который определен Екимовским даже не как композитор, но как «автор-любитель электроакустической и восточной музыки» Здесь мне видится если и не прямая аналогия, то косвенная параллель с ситуацией знаменитой выставки «0,10», на которой был представлен основной корпус супрематических работ Малевича во главе с «Черным квадратом», повешенным в красном углу. В процессе подготовки этой выставки между Малевичем и «амазонками русского авангарда» Поповой, Удальцовой и Экстер возник нешуточный конфликт. «Амазонки» – в то время приверженцы рафинированного кубизма – относились к супрематизму как к чему-то несерьезному и самодеятельному, и даже более того – как к облегченному декоративному дилетантизму, пригодному разве что в качестве образцов при вышивании. Чтобы отмежеваться от супрематизма и чтобы их работы не смешали с примитивными «орнаментами для вышивок», над своей экспозицией они вывесили плакат с надписью: «Комната профессионалов живописи».
Обвинение Малевича в непрофессионализме со стороны продвинутых «амазонок» является крайне типичным и характерным для ситуаций, в которых просто новое сталкивается с радикально новым. Примерно то же самое происходило и в случае Булеза, подозревающего в непрофессионализме Кейджа в связи с его идеей случайных процессов, и в случае с Денисовым, подозревающим в том же Сильвестрова в связи с его «Тихими песнями». В случае с Батаговым Екимовский продолжает линию Булеза и Денисова. Профессиональные шоры не дают ему возможности осознать, что радикально новое связано, как правило, не столько с прорывом в области профессионализма, сколько с мировоззренческим прорывом. Зато это очень хорошо осознают радикально настроенные художники и литераторы, которые часто и охотно сотрудничают и с Батаговым, и с другими перечисленными здесь мною композиторами. Так, Юсупова постоянно сотрудничала с Д. А. Приговым, Загний сотрудничал с Анной Колейчук, Карманов – с группой АЕС+Ф. Сам Батагов сотрудничает с Л. Рубинштейном и с авангардным американским хореографом Биллом Т. Джонсом, который не только танцует, но и исполняет вокальную партию в «Музыке для 35 будд». Так что то, что не принимается профессиональным композиторским сообществом, совершенно очевидно пользуется спросом в среде актуальных художников, театралов и литераторов. И это лишний раз свидетельствует об оторванности композиторского сообщества от процессов общекультурной жизни и замыкании его в скорлупе узкопрофессиональных, цеховых интересов. Ведь те же самые Батагов, Загний, Карманов, Соколов, Айги и Юсупова хотя и являются формально принадлежащими к композиторскому сообществу, но на самом деле они гораздо чаще становятся героями различных художественных акций, чем участниками филармонических композиторских концертов. И в этом можно усмотреть еще один повод для размышлений о месте композитора в современном мире.
43
Размышляя о проблемах русской философии в одной из своих статей, Владимир Соловьев упомянул слова Робана Мавра о «ничто», в которых говорилось, что «ничто» – это столь прискорбное состояние, что не хватит всех слез мира для того, чтобы оплакать его. Если Соловьев вспомнил эти слова, с тем чтобы охарактеризовать состояние русской философии в конце XIX века, то я бы воспользовался ими для характеристики поколения композиторов, рожденных между 1970 и 1985 годами. Во избежание недоразумений сразу же уточню, что я говорю не обо всем поколении, то есть не обо всех вообще людях, рожденных в эти годы, но только о тех из них, кто связал свою судьбу с профессиональной композиторской деятельностью, и именно это композиторское поколение в дальнейшем я буду называть поколением «D». Всякий раз, когда по воле случая мне приходится оказываться в консерватории и встречать там студентов композиторского отделения, я неизменно вспоминаю слова Робана Мавра, ибо невозможно представить себе ничего более достойного оплакивания, чем лицезрение человека, обучающегося композиции в наше время. Но что поделать? – таков удел композиторского поколения «D», и, может быть, единственное его предназначение заключается в том, чтобы все остальные смогли извлечь из этой плачевной ситуации хоть какой-то урок.
Как-то жарким июньским днем, прогуливаясь по своим любимым Кисловским переулкам и прихлебывая прохладное пиво, я забрел в подворотню Рахманиновского зала, где встретил Тарнопольского. Здесь я должен на минуту прерваться, чтобы заметить, что ошибался, когда в самом начале этой книги писал о том, что Тарнопольский является деканом композиторского факультета. Оказывается, деканом композиторского факультета является Александр Кобляков, а Тарнопольский всего лишь заведует отделением современной музыки или чем-то в этом роде, толком я не знаю. Однако думаю, что тогда, в начале книги, я не очень погрешил против истины, ибо имя Тарнопольского значительно более широко известно в композиторских кругах, и поэтому для очень многих именно это имя ассоциируется с композиторским факультетом Московской консерватории. Как бы то ни было, но, увидев меня в подворотне Рахманиновского зала, Тарнопольский принялся рассказывать мне о некоей своей замечательной дипломнице и предложил подняться в свой кабинет, чтобы ознакомиться с ее партитурой, что и было тут же исполнено. Действительно, эта шестидесяти– или семидесятистрочная партитура просто не могла не произвести впечатления своей масштабностью. Каждая из шестидесяти или семидесяти строчек представляла собой совершенно самостоятельную диссонирующую мелодическую линию, а по общей плотности и густоте материала эта партитура мало чем уступала «Группам» Штокхаузена или «Атмосферам» Лигети. Не говоря уже о том, что все это было выполнено на компьютере. Ни о чем подобном во время моего обучения не могло быть и речи, и я листал эту партитуру с ощущением прикосновения к какому-то продукту инопланетного разума, в то время как стоявшая тут же создательница этой партитуры виделась мне представительницей этого разума.
Однако это ощущение начало покидать меня, когда, углубляясь дальше в партитуру, я обнаружил, что это не просто оркестровое произведение, но произведение, использующее текст Хармса «История дерущихся». И тут меня поразило уже другое, а именно несоответствие минималистичности и концептуальной репрессированности текста Хармса плотности и перенасыщенной густоте партитуры. На мой вопрос, является ли это несоответствие плодом осознанного художественного замысла, присутствовавшая тут же представительница инопланетного разума не дала какого-либо вразумительного ответа. И тут до меня дошло, что этого несоответствия для нее просто не существовало и что, обладая, по всей видимости, развитым композиторским слухом, она почти начисто была лишена общекультурного слуха, способного улавливать соответствия и несоответствия между музыкальным, литературным и художественным пространствами. Вообще, как я заметил, эта культурная глухота присуща многим представителям композиторского поколения «D», но в данном случае меня удивило то, что Тарнопольский, будучи ведущим педагогом этой дипломницы, никак не отреагировал на это несоответствие, в то время как в своем собственном творчестве вроде бы не допускал ничего подобного. В связи с этим я подумал о том, что Шнитке, Денисов и тем более Сидельников обязательно отреагировали бы на такую особенность студенческой партитуры, а также о том, что причиной отсутствия подобной реакции у Тарнопольского явились не столько личные качества самого Тарнопольского, сколько качества, присущие всему композиторскому поколению «В». В отличие от поколения «А» это поколение обладает гораздо меньшим педагогическим потенциалом, и, будучи еще хоть как-то в состоянии передавать последующим поколениям код композиторского письма, оно практически уже неспособно к передаче общекультурного кода, воспринятого им от поколения «А». В результате этого композиторскому поколению «D» фактически уже не у кого перенять общекультурный код, и композиторы этого поколения становятся «композиторами и только композиторами» вне каких бы то ни было общекультурных ориентиров.
Один из моих интернетовских оппонентов, как раз принадлежащий к поколению «D», написал забавную фразу о том, что «трезвомыслящая композиторская молодежь пачками бежит в Германию, где существует налаженная индустрия исполнения современной музыки». Забавным здесь является уже выражение «трезвомыслящая композиторская молодежь», ибо оно есть не что иное, как типичный образец оксюморона наподобие «горячего льда» или «круглого квадрата». В наше время трезвомыслящая молодежь не может быть композиторской молодежью, а композиторская молодежь не может быть трезвомыслящей в том смысле, что она просто не способна трезво и адекватно оценивать общекультурную обстановку, и это подтверждается, в частности, тем, что эта молодежь «пачками бежит в Германию». Что же касается «налаженной индустрии исполнения современной музыки», то эта индустрия есть не что иное, как старая авангардистская модель производства нового, редуцированная до состояния пространства потребления. Это поставленное на индустриальные рельсы воспроизведение авангардистского жеста Д. А. Пригов определял понятием «художественный промысел» наподобие жостовских подносов или хохломской посуды, а я определяю понятием «культурная рутина», подразумевающим состояние, при котором некогда живые культурные жесты рутинизируются и превращаются в продукты потребления. Если же этой хорошо налаженной индустрии исполнения современной музыки попробовать подобрать какой-нибудь евангельский образ, то им будет, скорее всего, пространство, в котором мертвые хоронят своих мертвецов. Впрочем, «композитор и только композитор» может чувствовать себя в этом пространстве вполне комфортно и самодостаточно.
44
Разговор о композиторских поколениях «А», «В», «С» и «D» я затеял для того, чтобы показать, что конец времени композиторов – это не некое одномоментное событие, но достаточно продолжительный и постепенный процесс, причем процесс, имеющий совершенно определенные хронологические рамки. Здесь дело обстоит примерно так же, как и в случае начала времени композиторов, только в обратном порядке. Начало времени композиторов – это тоже постепенный процесс, длящийся около ста или ста пятидесяти лет, начинающийся с появления первых свободных органумов и заканчивающийся явлением первого в истории человечества композитора – Перотина Великого. Между этими двумя историческими точками располагаются стадии, характеризующиеся появлением органумов со все более и более явным присутствием композиторского начала: мелизматические органумы, затем развернутые мелизматические органумы эпохи Сен-Марсьяль, потом «почти что уже композиции» первого поколения школы Нотр-Дам во главе с Леонином, и, наконец, во втором поколении школы Нотр-Дам появляется магистр Перотин Великий, который отвечает уже всем требованиям понятия «композитор». Все это напоминает процесс выхода живых существ из воды на сушу. Сначала появляются кистеперые рыбы, затем – рыбы, выходящие на какое-то время на сушу, затем – земноводные амфибии и, наконец, ящеры, живущие на суше и даже летающие по воздуху – археоптериксы и птеродактили.
Если начало времени композиторов – это процесс постепенного становления метода композиции, завершающийся появлением фигуры композитора, то конец времени композиторов – это процесс постепенной инфляции идеи композиторской музыки, завершающийся превращением живого художественного жеста в художественный промысел и культурную рутину. Этот процесс распадается на ряд стадий, для выявления которых и следует прибегнуть к расчленению современного композиторского сообщества на поколения «А», «В», «С» и «D». Но прежде чем говорить об этих поколениях, нужно сказать хотя бы несколько слов о «последнем поколении великих».
Это поколение заявило о себе в самом начале ХХ века, еще перед Первой мировой войной, причем заявило самым энергичным и категорическим образом, определив производимую им музыку как «новую» и «современную» музыку. Вообще-то, строго разбираясь, каждая композиторская музыка, созданная в определенное время, должна являться, с точки зрения этого времени, и новой и современной, однако об этом не объявляется специально, так как это как бы подразумевается само собой. И музыка Моцарта, и музыка Шопена, и музыка Чайковского в свое время являлась именно новой и современной музыкой. В данном же случае новизна и современность ставились во главу угла, как основополагающие качества музыки и как гаранты ее истинности. Речь должна была идти не просто о «новом» и «современном», но о «революционно новом» и «революционно современном», то есть речь должна была идти о революции, и то, что происходило, действительно являлось революцией. История композиторской музыки знает три революции такого масштаба: это Ars Nova – революция XIV века, Musici Nuova – революция XVII века и, наконец, Neue Musik – революция, о которой сейчас и идет разговор. Эта революция вызвала ощущение открытия невиданных и безграничных возможностей развития музыки. В одном из своих писем Шёнберг писал, что открытие метода додекафонии продлит господство немецкой музыки как минимум на сто лет, и эти слова хорошо характеризуют то воодушевление, которым были охвачены музыкальные революционеры начала ХХ века. Однако в их творчестве можно усмотреть уже предвестия надвигающегося кризиса. Это проявилось и в подмеченной Адорно некоей «подточенности» и «ослабленности» самой идеи произведения, проявляющейся и в радикальном сокращении длительности и размеров произведений Веберна, и некоторых произведений Шёнберга, и в незавершенности таких фундаментальных произведений, как «Моисей и Аарон» Шёнберга и «Лулу» Берга, и в некотором творческом застое 1930–1940-х годов, и в ряде других признаков; однако ни о каком «конце времени композиторов» в этом «последнем поколении великих» речи быть еще не может. Все дело заключалось в том, что их новационный шаг оказался столь радикальным, что подвел их к границам возможностей самого принципа композиции, и следующий новационный шаг мог быть осуществлен только путем нарушения этих границ и переступания через них, что и было осуществлено поколением, вышедшим на историческую сцену сразу после Второй мировой войны, – то есть композиторским поколением «А».
Я называю это поколение поколением «А», ибо деятельность именно этого поколения представляет собой ту отправную точку, от которой начинается реальный отсчет часов и минут конца времени композиторов. Если в отношении к «поколению последних великих» можно было говорить только о предвестиях, предчувствиях и предварительных симптомах конца времени композиторов, то в деятельности композиторов поколения «А» все эти предвестия, предчувствия и предварительные симптомы обрели совершенно конкретные и осязаемые формы. Именно в творчестве этих композиторов была дискредитирована и идея произведения как единого целого и завершенного в себе явления, и идея предустановленного последовательного изложения вместе с идеей предустановленного вертикального соотношения элементов, и сама идея нотного письма – словом, были дискредитированы фактически все основополагающие принципы, образующие фундамент здания композиторской музыки. Можно сказать, что поколение «А» взорвало это здание, и в этой связи мне вспоминаются слова Нади Буланже, сказанные ею Алексею Рыбникову, когда Рыбникова и меня, как лучших студентов консерватории, показывали ей в помещении Иностранной комиссии Союза композиторов весной 1966 года. «Нельзя жить на взрыве», – сказала она, и эти слова, мне кажется, как нельзя лучше передают суть того, что оставило поколение «А» последующим композиторским поколениям.
Вообще-то композиторам поколения «А» можно только позавидовать. Независимо от того, были ли они сами инициаторами взрыва или им только довелось жить в момент взрыва, в любом случае в этом есть что-то героическое. Пусть им и не хватает подлинного величия «поколения последних великих», но в героизме и бескомпромиссной смелости им отказать просто невозможно, и вот именно этого героизма явно недостает поколению «В». Это вполне естественно, ибо взрыв-то уже произошел и необходимость в героизме просто отпала. Правда, можно взрывать кое-что помельче – то, что еще осталось от основного взрыва, и самое главное – можно совершенно искренне полагать, что взрыв – это не какой-то очень краткий момент, но протяженный процесс и что можно «жить на взрыве» – именно так полагают композиторы, определяющие лицо поколения «В». Поколение «С» представляет собой некий ослабленный и разжиженный вариант поколения «В» с той существенной разницей, что в нем появляется ряд композиторов, которые начинают понимать, что жить на взрыве нельзя, но жить после взрыва все-таки как-то надо. Они пытаются наладить жизнь на обломках здания композиторской музыки, латая зияющие бреши и дыры заплатами из обрывков разных некомпозиторских музыкальных практик, и это является, на мой взгляд, самым привлекательным из того, что происходит в этом поколении, хотя, по всей видимости, это и не определяет его лица.
Что же касается поколения «D», то оно занимает особое место в истории музыки, ибо, если поколение «А» является исходным пунктом процесса, определяемого как конец времени композиторов, то конечным пунктом этого процесса является как раз поколение «D». Композиторы этого поколения слишком умны и практичны для того, чтобы тешить себя иллюзией возможности жизни на взрыве и тем более для того, чтобы позволить себе просто выживать на обломках здания композиторской музыки, оставшихся после взрыва 1950–1960-х годов. Они весьма успешно научились тиражировать и привлекательно упаковывать иллюзию этого взрыва, тем самым превращая эту иллюзию в реальный продукт реального потребления. Собственно говоря, именно таким тиражированием взрыва «образца 1950–1960-х годов» и занимается «хорошо налаженная индустрия исполнения современной музыки» в Германии, благодаря чему «современная композиторская музыка» превратилась в некий товарный бренд, может быть, и не самый громкий на музыкальном рынке, но все же достаточно успешный и к тому же приносящий уверенные дивиденды некоторой известности и некоторого достатка. Как бы то ни было, но эта ситуация немецкого воспроизведения и тиражирования взрыва «образца 1950–1960-х годов» уж очень подозрительно напоминает ситуацию из упоминавшегося уже мною фильма Иоселиани со статуей деревенского божка, некогда ниспосылавшего дождь и исцелявшего от болезней, а ныне превратившегося в туристический сувенир.
В связи с поколением «D» о конце времени композиторов можно говорить уже не как о процессе, но как о состоянии, и это состояние есть не что иное, как культурная рутина, которая может продолжаться сколь угодно долго, создавая у некоторых впечатление наполненной жизни. На смену поколению «D» могут прийти другие поколения – поколение «Е», «F», «G», «H», «I», «J», «K» и так до бесконечности, но, сколько бы их ни приходило, все останется без изменений: композиторы будут заниматься своим художественным промыслом – писать современную композиторскую музыку, и это есть уже «окончательный и бесповоротный» конец времени композиторов, или, как сказано в Апокалипсисе, это будет «смерть вторая». Однако все может измениться самым чудесным образом с приходом поколения «Х», которое придет и скажет: «Нет никакой современной музыки, нет никакой старинной музыки, нет никакой музыки будущего, нет никакой композиторской или некомпозиторской музыки – есть просто музыка. Есть единая, всепронизывающая и всепроникающая музыка на все времена и на веки вечные». Я верю, что поколение «Х» не только скажет, но и явит эту единую музыку, и все, что я говорил и говорю о конце времени композиторов, в конечном итоге сводится к одному – к чаянию прихода поколения «Х».
Однако этот приход может совершиться и гораздо раньше, чем можно предположить, так что вполне вероятно, не нужно будет ожидать долгой смены поколений «Е», «F», «G» и т. д. Это раньше поколения постепенно сменяли друг друга в естественном ходе рождений и смертей отцов и детей, а теперь время спрессовалось, и совершенно разные поколения могут жить одновременно бок о бок в один и тот же исторический момент. Так, современное композиторское сообщество представляет собой спрессованный конгломерат поколений «А», «В», «С» и «D», в результате чего все стадии процесса конца времени композиторов сосуществуют одномоментно. Однако для того, чтобы увидеть и понять суть этого уникального момента, необходимо отбросить совершенно бессмысленную теорию современной композиции со всеми ее консерваторскими премудростями и обратиться к другой теории – к теории композиторских поколений, набросок которой дан здесь в самых общих чертах. И, наверное, с разработкой этой теории следует поторопиться, ибо поколение «Х» может прийти в любой момент, а с его приходом любые разговоры о «современной композиторской музыке» станут совершенно неактуальными.
45
Я думаю, что это действительно некая установка круга московских концептуалистов. Установка на самоуничижение, переходящее в дикую агрессию ко всему, этим самоуничижением не страдающему. Эта риторика есть и у Кабакова («я плохой рисовальщик», хотя он-то как раз, к счастью, лукавит), и у Пригова покойного (тоже как игровая модель), и у Загния («композиторов больше нет, а если кто считает, что он есть, тот шарлатан»). Да нет, дорогие мои концептуалисты, шарлатаны – это вы. Хочется сказать: ребята, идите себе на кухню и развивайте там свою частную кухонную эсхатологию, а нам не мешайте работать. Проблема, однако, еще в том, что не идут, потому что это ложное самоуничижение сочетается у Мартынова с чудовищным махровым омерзительным русским мессианизмом. Именно он критику в Европе и отталкивает, а в России, к сожалению, привлекает. Как сказал, кажется, Загний в 1970-е годы, «если Мартынов скажет, что надо всем ездить на велосипеде, все начнут ездить на велосипеде». Как я уже раз написал, как раз без фигуры автора, Мартынова, его музыка совершенно бессмысленна. Никаким Булатовым с надписью «закат», на которого Боря ссылается, тут и не пахнет. Все предельно серьезно. И эта серьезность сводит на нет все достаточно скромные музыкальные достоинства Мартынова.
46
Тут, понимаете ли, вырабатываешь язык, смыслы разные, доискиваешься новой выразительности, выясняешь отношения с традицией, призываешь к умному слушанию, к душевному труду – и вдруг является Владимир Иванович и отодвигает тебя в сторону со всеми твоими исканиями и ласково этак до-мажорит со слушателем: «Музыкальное сообщество застряло где-то в середине ХХ века; оно все еще верит в силу прямого высказывания и требует его в музыке».
47
Не так давно мне попался на глаза манифест нового композиторского объединения, называемого «Сопротивление материала», или сокращенно «СоМа». Наверное, о нем вообще не следовало бы упоминать, ибо он не представляет собой ничего, кроме набора недодуманных до конца оборотов речи, как сказал бы Хайдеггер, однако первая его фраза показалась мне настолько забавной, что я просто не смог удержаться от искушения процитировать ее, – вот она: «Современная русская музыка – это мы». В этой фразе поражает не столько полное отсутствие чувства юмора и чувства реальности, сколько уверенность в существовании явления, называемого «русская музыка». Эта уверенность, мне кажется, в свою очередь, опирается на весьма наивное предположение, согласно которому любой этнический русский, проживающий на территории России или когда-либо проживавший на ней, в случае написания музыки будет писать именно русскую музыку. Это действительно крайне наивное предположение, ибо на самом деле существование русской музыки напрямую связано с определенной социально-антропологической средой, и если эта среда в силу каких-то причин прекращает свое существование, то ни о какой русской музыке уже не может идти и речи.
Я не буду сейчас вдаваться в подробности относительно того, что социально-антропологической средой, породившей русскую музыку, явилась Российская империя XIX века, но обращу внимание только на то, что XIX век в Европе – это век национальных музык. Если в ХХ веке музыка, для того чтобы быть «настоящей», «истинной» музыкой, должна была быть современной музыкой, то в XIX веке «настоящей», «истинной» музыкой могла быть только национальная музыка, и поэтому совершенно не случайно этот век являет взору невиданный парад национальных композиторских школ. Национальное самосознание каждого народа настойчиво требовало претворения своих особенностей в музыкальных звуках, и практически каждая европейская страна в это время создает свою национальную музыку и порождает своих национальных композиторов. В Польше это Шопен и Монюшко, в Венгрии – Лист и Эркель, в Чехии – Дворжак и Сметана, в Норвегии – Григ, в Германии, конечно же, великий провозвестник германского духа Вагнер, в России, конечно же, Глинка и «Могучая кучка». Во всех этих случаях музыка понималась как некое национальное служение, а ее высшим призванием почиталось «выражение национального духа».
У каждой из этих национальных музыкальных школ была своя судьба. Некоторые из них имели успешное продолжение в ХХ веке, другие же совершенно заглохли. Что же касается русской музыки, то ее судьба была предрешена Октябрьской революцией. В 1920–1930-е годы на территории бывшей Российской империи образовалась совершенно новая социально-антропологическая среда, и эта новая среда породила новую музыкальную данность – советскую музыку. Советская музыка отличается от русской музыки ровно в той же степени, в какой Советский Союз отличается от Российской империи. Несмотря на ряд генетических сходств, это принципиально противоположенные явления – что бы ни говорило сейчас молодое поколение специалистов, не желающих видеть здесь никаких различий. Сильно упрощая и обобщая проблему, можно сказать, что последними подлинно русскими композиторами были Рахманинов и Стравинский, а Прокофьев и Шостакович были первыми советскими композиторами. При этом любопытно отметить, что Прокофьев начал писать советскую музыку еще до революции, ибо такие его произведения, как Первый фортепианный концерт или «Классическая симфония», представляют собой не только типичные образцы советской музыки, но в 1940–1950-е годы они превратились в канонические образцы композиторской работы как для самого Прокофьева, так и для целого ряда других композиторов, являющихся типично советскими композиторами.
Вообще-то «советскость» музыки – это отнюдь не стилистическое понятие. Лично для меня это некое внутреннее, трудно уловимое, но все же всегда ощущаемое качество, присущее произведениям самой разной стилистической принадлежности и самой разной идеологической направленности. Советская музыка – это и Свиридов, считающий себя русским композитором, и вторая «Могучая кучка» – Шнитке, Губайдулина и Денисов, кажущиеся на первый взгляд скорее некими «антисоветскими», нежели «советскими», композиторами, но при ближайшем рассмотрении обнаруживающие именно советскую природу, проявляющуюся, в частности, в их искренней преданности идеалам Шостаковича. Впрочем, когда я говорю о советской музыке, то это не следует толковать в каком-то оценочном плане. Советская музыка может быть выдающейся музыкой – как Пятая симфония Шостаковича или Вторая скрипичная соната Шнитке, может быть заурядной – как «Поэтория» Щедрина или «Концерт для оркестра» Эшпая, а может быть вообще «никакой» – как вся музыка Кабалевского, но в любом случае она для меня так же узнаваема, как узнаваема русская музыка. Однако и советская музыка могла существовать только до тех пор, пока породившая ее социально-антропологическая среда была жизнеспособна и была в состоянии оказывать давление и всячески воздействовать на сознание причастных к ней людей. В 1960-е годы жизнеспособность и давление этой среды заметно ослабли, в результате чего и могли появиться такие произведения, уже не имеющие ничего общего с советской музыкой, как «Тихие песни» Сильвестрова или «Tabula rasa» Пярта.
То, что названные произведения Сильвестрова и Пярта не имеют уже никакого отношения к советской музыке, отнюдь не означает того, что они представляют собой какую-то там «постсоветскую» музыку. Вообще мне кажется, что искусство второй половины ХХ века освобождается не только от обязанности быть национальным, но даже от обязанности быть привязанным к какой-то определенной социально-антропологической среде. Вернее будет сказать, что это искусство привязано к новой и общей для всего земного шара среде – к социально-антропологической среде мегаполиса, в которой любое проявление национального начала должно быть разумно дозировано, исходя из соображений всеобщей лояльности и политкорректности. Концертные залы, выставочные площадки и театральные подмостки не имеют принципиальных отличий друг от друга, где бы они ни находились – в Нью-Йорке, Париже, Амстердаме, Токио или Москве, и современный художник, оказываясь в этих пространствах, должен соответствовать их параметрам, то есть быть интернациональным, космополитичным и «наднациональным». Сказанное вовсе не означает полного отказа от национального начала в искусстве. Напротив, национальное как антураж, национальное как «оригинальная краска», национальное как остроумно разрабатываемый мотив может иметь место и даже крайне желательно, однако национальное уже не может быть внутренним конструктивным моментом, не может быть внутренней движущей пружиной искусства, и, конечно же, искусство сейчас не может быть «высшим служением национальному духу», каким оно являлось в XIX веке, ибо в этом случае оно неизбежно будет обречено на отторжение и полную изоляцию.
Феномен «мировой музыки» нисколько не противоречит, но, напротив, подтверждает сказанное, ибо на нескончаемых полках супермаркета в современном мегаполисе должны выставляться продукты, производимые в самых разных местах земного шара, ибо в противном случае потребитель не сможет ощутить себя полноценным жителем мегаполиса, в котором «должно быть все», и не сможет быть причастным к переживанию наднационального космополитизма, вне которого невозможна сама идея потребления. Здесь уместно вспомнить советскую формулу, гласящую, что искусство социалистического реализма должно быть национальным по форме и социалистическим по содержанию. В приложении к настоящему моменту она может выглядеть примерно так: «Современное искусство должно быть национально по форме и мегаполисно (или, что то же, потребительски-рыночно) по содержанию». А если быть точнее, то следует говорить о том, что современное искусство может быть, а может и вовсе не быть национальным по форме, но оно обязано быть потребительски-рыночным, или мегаполисным, по содержанию.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.