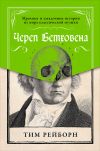Текст книги "Казус Vita Nova"

Автор книги: Владимир Мартынов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
54
В ходе прослушивания оперы В. Мартынова не покидало чувство дискомфорта: было как-то неудобно и за музыкантов, вынужденных на полном серьезе исполнять это невразумительное попурри; и за слушателей, собравшихся, чтобы на полном серьезе послушать «несуществующий» опус «несуществующего» композитора; и за самого автора, который, сохраняя видимую серьезность, до такой степени не уважает ни первых, ни вторых.
55
Не в лучшем виде находился наш дом. Его надстроили на два этажа элитными квартирами. В подъездах вновь появились консьержи, на лестницах установились прежняя чистота и прежний порядок. Но зато, вопреки всем застроечным и экологическим нормам, фактически вплотную к фасаду нашего дома встала серая стена пятиэтажного офисного здания, построенного благодаря темным махинациям председателя правления кооператива Мержановой, путем обмана ослабленной возрастом основной массы жильцов. Если раньше из нашего окна на третьем этаже открывался щемящий вид на каскад московских двориков, на помпезное здание МИДа и на церковь Воскресения Словущего, то теперь стена не просто перекрывала все пространство за окном – она вдавливалась через окна в комнаты и заполняла собой все внутреннее пространство. Я уверен, эта стена сократила дни жизни моего папы, ибо его письменный стол находился прямо перед окном и он все время был вынужден видеть ее. Когда я думал о том, что жильцы элитных квартир верхних этажей могут наслаждаться прекрасными видами из окон, я вспоминал мальчишек из соседних домов в моем детстве и их неприязнь к нам. Теперь те же чувства, которые испытывали они, я испытывал в отношении жильцов верхних этажей. Но, очевидно, в этом заключалась определенная справедливость и жизненная правда: на смену умершему должна приходить новая жизнь. Наш дом умер, и на его остове вырос новый дом. Это совершенно естественный закон жизни, хотя в нашем случае этот закон и стал пугающе наглядным. Наш дом превратился в какое-то подобие геологического пласта, на котором произросло новое биологическое образование – элитная надстройка, которой предстоит своя жизнь и, может быть, своя история.
Всякий дом есть не столько сам дом, сколько люди, живущие в нем; атмосфера, окружающая его; и ситуации, складывающиеся между его обитателями. Дома, о котором я все предыдущее время писал, больше нет. История его закончилась. Но, может статься, осознание этого факта приведет к тому, что наш дом вдруг обретет новую жизнь?
Мне кажется, что музыкознание, занимающееся изучением советской музыки, идет по неправильному пути. Оно исследует отдельные произведения и творчество отдельных композиторов, в то время как необходимо исследовать жизнь композиторских сообществ. Под сообществом здесь я подразумеваю не такие объединения, как «Могучая кучка» или французская «Шестерка», а такие, которые скреплены социальными и административно-хозяйственными механизмами. Мне кажется, что для того, чтобы понять, что действительно представляет собой феномен советской музыки, необходимо всесторонне исследовать феномены композиторских домов – первого, на 3-й Миусской улице, второго – на Огарева, третьего – на Студенческой, и четвертого – на Садовой-Триумфальной. Нужно попытаться понять, в чем состоит специфика, в чем заключается отличие одного дома от другого, а также в чем конкретно проявляется их связь и преемственность. Нужно понять, почему всем последующим домам не суждено было превратиться в такие центры композиторской жизни, какими являлись миусский и огаревский дома. Мне кажется, что только подробнейшее социоантропологическое рассмотрение всех этих проблем может дать нам ключ к подлинному пониманию феномена советской музыки. И, может быть, в этом смысле жизнь нашего дома только начинается.
56
Вообще, поразительно, как на протяжении всей нововременной истории музыкальные критики не уставали постоянно наступать на одни и те же грабли, старательно смешивая с грязью тех, кто, вопреки их оценкам, со временем становились признанными классиками. Кого только из ныне почитаемых великих они не поносили всеми доступными им средствами! Здесь можно вспомнить и Берлиоза, и Дебюсси, и Стравинского. Можно вспомнить и Чайковского, по поводу каждого нового произведения которого Цезарь Кюи писал: «…новое произведение господина Чайковского несравненно хуже предыдущего…» Вот почему меня так порадовали слова музыкального критика из газеты «Таймс», сравнившего «Vita Nova» со зловонной кучей мусора, – ведь не исключено, что в этих словах можно усмотреть залог причисления меня к сонму великих. Во всяком случае, своим комплиментом этот уважаемый критик предоставляет мне шанс.
Но, может быть, еще больше меня порадовал другой критик, который для того, чтобы окончательно посрамить меня, предложил предоставить на суд почтенной публики свои студенческие тетради с гармонизациями в духе Штрауса и Регера, которые, по его мысли, должны были бы выглядеть гораздо талантливее и профессиональнее моих жалких стилизаций. Я-то не считал нужным сохранять свои студенческие тетради; и вообще вся эта ситуация напоминает мне ситуацию, описанную Лесковым в «Запечатленном ангеле», в которой на реплику любителя русской старины, англичанина Якова Яковлевича, о том, что «у них в Англии всякая картина из рода в род сохраняется и тем самым явствует, кто из какого родства происходит», старообрядец Марк отвечает: «Ну а у нас, верно, другое образование и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела». Как бы то ни было, стихия гармонических задачек и упражнений по сольфеджио сейчас мне гораздо ближе и милее стихии авангардистского новаторства, так что вразрез со своими желаниями и устремлениями этот критик мыслит в правильном направлении.
И все же, строго говоря, большинство современных музыкальных критиков являются просто ленивыми свиньями, которые, удобно развалясь в креслах концертного зала, всерьез полагают, что композиторы должны постоянно выпендриваться перед ними, неустанно предлагая им что-то «новенькое», а они – критики – будут судить, насколько это «новенькое» является «действительно новеньким». Однако, скорее всего, в таком положении дел повинны не столько критики, сколько сами композиторы, которые совершенно искренне полагают, что их долг заключается в постоянном поставлении нового музыкального материала. Если в середине и даже в конце прошлого века такой ход мысли был вполне уместным, то сейчас он начинает представляться все более и более неадекватным. Здесь все упирается в вопрос «Что есть новое и что есть истинное, реальное обновление?» Герой хармсовского текста под названием «Утро» ночью молит Бога о чуде. Он зажигает лампу, чтобы увидеть, что изменилось в комнате, но тут же понимает, что изменение должно произойти не вокруг него, но в нем самом. Вот в чем дело! Композиторы все время изменяли и обновляли музыку, сами при этом оставаясь неизмененными и необновленными, а подлинное изменение и обновление может осуществляться только внутри человека.
Мне кажется, те, кто с гордостью говорят о том, что все время создают что-то новое и что каждое их последующее произведение принципиально отличается от предыдущего, просто не задумываются над тем, что весь этот поток изменений и новшеств не приводит к принципиальному изменению и обновлению их самих, в силу чего все эти изменения и обновления остаются внутренне опустошенными, рассчитанными в конечном итоге только на то, чтобы потенциальный критик мог по достоинству оценить это новое как нечто ценное, сам при этом тоже оставаясь неизменным и необновленным. В результате всего этого, музыка окончательно превращается в продукт потребления, а ее вынужденное обновление практически ничем не отличается от постоянного появления все новых и все более совершенных моделей холодильников, телевизоров или стиральных машин. Принимая все это во внимание, можно утверждать, что внутреннее обновление композитора должно заключаться в том, что композитор должен перестать производить продукты потребления и вообще должен перестать относиться к музыке как к чему-то такому, что должно потребляться публикой и критиками. А для этого композитор должен перестать быть композитором. Собственно говоря, в этом и заключается суть концепции «конца времени композиторов».
Вопреки мнению подавляющего числа композиторов, считающих концепцию «конца времени композиторов» сугубо негативной, пессимистической, упаднической и эсхатологической, я воспринимаю ее исключительно в жизнеутверждающем, оптимистическом и позитивном ключе. Конец времени композиторов – это конец эпохи беззастенчивого потребления музыки и начало эпохи новых взаимоотношений музыки с человеком. В этой новой эпохе не будет уже ни композиторов, ни критиков, ни публики, ни директоров издательств, ни артистических агентов, но музыка превратится в свободно льющийся нескончаемый поток, из которого сможет напиться и в который сможет погрузиться каждый желающий, независимо от возраста, пола, национальной принадлежности и профессиональной подготовки. Это будет совершенно новая антропологическая и космологическая данность, но для того, чтобы войти в эту данность, человек должен измениться. Он должен изменить свое отношение к космосу и музыке, он должен прекратить кажущееся сейчас ему столь естественным покорение природы и потребление музыки. Ведь, по сути говоря, музыка – это гармоническое соотношение космического и человеческого или космологического и антропологического, и надежда на возникновение этого нового гармонического соотношения заложена в концепции антропокосмологического принципа, о чем я и писал в книге «Конец времени композиторов». Впрочем, практически никто из композиторов и музыкантов не обратил на это никакого внимания, в силу чего идея «конца времени композиторов» так и осталась для них равнозначной идее «конца музыки вообще». Ну что ж, здесь я уже ничем не могу им помочь. Да, строго разбираясь, они и не нуждаются ни в какой помощи, ибо чувствуют себя в этой жизни вполне комфортно и самодостаточно.
57
И когда земной шар, выгорев,
Станет строже и спросит: «Кто же я?» —
Мы создадим «Слово Полку Игореви»
Или же что-нибудь на него похожее.
В этих строках Хлебникова говорится о грядущем изменении мира и о приходе нового искусства. Мир просто не может не измениться. Хотя бы потому, что он не может, не имеет права существовать в том виде, в котором он существует сейчас. Может быть, это будет моментальное катастрофическое изменение, может быть, это будет плавное и постепенное, но от этого не менее радикальное и фундаментальное изменение; но каким бы оно ни было – это изменение обязательно произойдет, и приход его не за горами. Это будет новая неолитическая революция. И, может быть, она уже совершается – просто мы этого не замечаем. Хлебников говорит о том, что земной шар должен «выгореть», и это очень похоже на правду, ибо современный мир действительно выгорает, будучи выжигаем обществом потребления. На самом деле потребление – это совершенно извращенный способ отношения человека к миру и к самому себе, ибо потребление выжигает не только земной шар, но саму реальность. В «Дхаммападе» есть поразительные слова: «Что за смех, что за радость, когда мир постоянно горит? Объятые тьмой, почему вы не ищите света?» Эти слова, произнесенные две с половиной тысячи лет назад, обретают совершенно особое звучание в наши дни. Если раньше они являли собой некую духовную истину, то в современном мире, в котором ежедневно исчезает по нескольку видов животных и растений, ежегодно сокращается количество народов и языков, постоянно уничтожаются леса и коралловые рифы, а реальность с каждым днем все ощутимее уходит сквозь пальцы, как песок, – эти слова обретают буквальный физический смысл. Мир действительно выгорает, но мы не чувствуем этого, ежеминутно, ежесекундно продолжая выжигать его всеми доступными нам способами, среди которых далеко не последнее место занимает и способ, именуемый «современная композиторская музыка».
Однако это выжигание мира и реальности не может продолжаться вечно. Неизбежно должен настать момент, когда в мире выгорит все, что может гореть, и это будет момент великого изменения. В этот момент изменится всё и изменятся все, независимо от того, хотят они этого или нет. А для того, что останется, и для тех, кто останется в результате этого великого изменения, этот момент будет моментом отрезвления и прозрения. Хлебников пишет, что именно в этот момент земной шар станет строже и спросит: «Кто же я?»; и действительно, человек, полностью поглощенный процессом потребления, выжигающим реальность, просто физически не мог задаться этим вопросом, зато после полного выгорания мира человек уже просто не сможет уклониться от этого вопроса, ибо человеку, оставшемуся один на один с полностью выжженным им самим миром, не останется ничего, кроме вопроса «Кто же я? Кто сотворил все это?». И ответом на этот вопрос будет создание нового великого искусства, ибо только великое изменение может породить великое искусство. Хлебников пишет, что это будет «Слово о полку Игореве» или «что-то на него похожее», тем самым указывая на то, что это новое великое искусство будет в корне отличным от нашего современного искусства. Возможно, это будет некий новый эпос или новый фольклор, но, во всяком случае, это будет нечто принципиально отличное от всех наших теперешних представлений об искусстве.
В этой связи мне вспоминаются слова еще одного моего учителя, о котором я упоминаю не так часто, но который оказал на меня огромное влияние, – мне вспоминаются слова Олега Сергеевича Семенова о приходе нового искусства. Он говорил, в частности, что в новом веке будет новое искусство. И это искусство будет, во-первых, позитивным (знающим, что есть Бог и что есть Бог), во-вторых, классическим (то есть опирающимся на общезначимые моральные аксиомы и художественно-языковые нормы) и, в-третьих, народным (не отторгающим публику, но, напротив, идущим к ней). И все эти три «да» подготовлены великим расцветом искусства ХХ века. Подготовлены модернизмом – несчастным, кричащим, больным, знающим о ничтожестве человека и сострадающим его бессилию перед лицом времени. Подготовлены и постмодернизмом, поставившим перед собой задачу осмеять всю исторически-художественную память, а вместо этого (или вместе с тем) на самом деле актуализировавшим ее. Я полностью разделяю мысль Семенова о том, что искусство, приходящее на смену нашему современному искусству, будет в отличие от него позитивным, классическим и народным. Но, будучи верным учеником и последователем Олега Сергеевича, я не просто разделяю его мысль, но усиливаю и радикализирую ее. Я утверждаю, что на смену нашему современному искусству должно прийти нечто большее, чем просто новое искусство, – должно прийти новое сакральное пространство. Понятие сакрального пространства включает в себя и позитивность, и классичность, и народность, но оно подразумевает и нечто другое – оно подразумевает совершенно новые взаимоотношения человека с реальностью. Перефразируя знаменитую фразу «Коммунистического манифеста», гласящую о том, что «философы лишь различным образом объясняли мир, а дело заключается в том, чтобы изменить его», я говорю: «Люди лишь различным образом выражали и преображали реальность, а дело заключается в том, что нужно просто пребывать в ней». Это состояние пребывания в реальности и является сутью нового сакрального пространства, однако оно абсолютно несовместимо с современными принципами композиторства. Вот почему словосочетание «конец времени композиторов» для меня звучит крайне позитивно и радостно – ведь этот самый конец времени композиторов есть не что иное, как залог наступления эры нового сакрального пространства.
58
Да, у Мартынова, кажется, с логикой изложения совсем худо – судя по книге «Opus Posth». К тому же натяжек масса…
59
«Казалось, что оркестранты скорее исполняли необходимые для рождения мелодии ритуалы, чем играли ее…» Мне представляется, что эта фраза Пруста стоит многих десятков музыковедческих томов, ибо она самым непосредственным образом подводит к пониманию тайны рождения музыки, а также – и может быть, это самое главное – к тайне взаимоотношений человека с музыкой. Из этой фразы следует, что музыка – это не то, что можно сыграть, не то, что можно спеть, и не то, что можно сочинить, но то, что может родиться только в результате совершения неких ритуалов, без совершения которых любая игра, любое пение и любое сочинительство сами по себе никогда не станут музыкой. Но если музыка рождается и являет себя только через посредство ритуала, то возникает вопрос: какова степень участия человека в этом рождении и так ли уж вообще необходимо его участие?
В связи с этим вопросом вспоминается один эпизод из фильма Дэвида Линча «Малхолланд-драйв». В этом эпизоде героиня фильма просыпается среди ночи от того, что сама собой автоматически-бессознательно повторяет странную навязчивую фразу: «Здесь нет музыкантов, здесь нет музыкантов…» Движимая какой-то непреодолимой силой, она вместе с другой героиней – своей любовницей – едет по ночному Лос-Анджелесу и попадает в странный магический театр, где в почти пустом зале звучит странная завораживающая музыка. На совершенно пустой сцене не менее странный и зловещий конферансье как заклинание повторяет ту же самую фразу: «Здесь нет музыкантов, здесь нет музыкантов…», хотя музыка продолжает непрестанно звучать. Но вот на сцене появляется певица – «плакальщица Лос-Анджелеса», и на какое-то мгновение начинает казаться, что дело принимает более привычный оборот, ибо, вопреки заклинаниям конферансье, музыканты все же появляются, во всяком случае, теперь можно не только слышать пение, но и видеть живой источник звука – поющую женщину. Однако эта иллюзия длится недолго, ибо певица падает замертво, и тут обнаруживается, что отнюдь не она была причиной того, что воспринималось нами как ее пение и ее голос, так как этот голос продолжает звучать без каких-либо изменений, в то время как ее безжизненное тело без лишних церемоний выволакивают со сцены. Именно в этот момент начинает доходить смысл слов «Здесь нет музыкантов, здесь нет музыкантов…» Эти слова означают, что музыка не нуждается в музыкантах, музыка не нуждается в человеке – во всяком случае, она не нуждается в живых музыкантах и в живом человеке. Музыка начинается там, где кончается человек. Рождение музыки связано с упразднением или, лучше сказать, с самоупразднением человека, и об этом очень хорошо знал Александр Введенский, ибо задолго до падающей замертво «плакальщицы Лос-Анджелеса» Дэвида Линча он описал ту же самую ситуацию, хотя и под несколько иным углом зрения:
В искусстве музыки творец
Десятое значение имеет.
Он отвлеченного купец,
В нем человек немеет.
Такое «немение» или самоупразднение человека и есть тот ритуал, который подразумевал Пруст, и этот ритуал есть ритуал умирания, ибо музыка рождается там, где человек умирает. Не это ли подразумевают и хлебниковские слова «Когда умирают люди – поют песни»? Музыка – посмертная маска человека, именно поэтому голос «плакальщицы Лос-Анджелеса» и продолжает заполнять притихший зал своим завораживающим звучанием, в то время как бездыханное тело самой певицы выволакивают вон со сцены. Истинный музыкант есть тот, кто способен своим самоупразднением предоставить место музыке в себе самом. Искусство музыканта – это искусство ритуального умирания, в результате которого рождается музыка; и слова «здесь нет музыкантов, здесь нет музыкантов…» следует понимать, как сигнал, оповещающий о том, что все помехи, препятствующие рождению музыки, упразднены, и музыкальный поток может начать наполнять наше жизненное пространство уже буквально в следующий момент.
Сегодняшняя ситуация представляет собой точный негативный отпечаток ситуации странного магического театра из фильма Линча. Здесь есть музыканты, здесь много музыкантов, здесь бесчисленное количество музыкантов, и именно поэтому здесь нет музыки. «Здесь нет музыки, здесь нет музыки…» – эти слова, как заклинание, начинают произноситься сами собой каждый раз при соприкосновении с результатами жизнедеятельности современных музыкантов. Если раньше «оркестранты скорее исполняли необходимые для рождения мелодии ритуалы, чем играли ее», то теперь наоборот: оркестранты скорее играют мелодии, нежели исполняют необходимые для ее рождения ритуалы, в результате чего мелодия просто не может родиться; и хотя мы слышим ее звучание, но это звучание не превращается в музыкальный объект, ибо неисполнение необходимых для рождения мелодии ритуалов превращает звучащую мелодию в мертворожденную мелодию. Современные музыканты не хотят самоупраздняться и неметь, они хотят играть, петь и сочинять. Они хотят сами производить музыку и не собираются предоставлять место музыке в самих себе путем собственного самоупразднения, в результате чего бедная музыка уже не может найти себе пристанища в этом мире. Поэтому на вопрос, поставленный в начале этой книги, – «Что такое музыка?», скорее всего, следовало бы ответить так: «Музыка – это то, что сейчас невозможно услышать».
В этой связи мне представляется крайне показательным парадоксальное и загадочное отношение Введенского к музыке. Написав немалое количество совершенно поразительных слов о музыке, свидетельствующих о его уникальном даре проникновения в самую суть тайны музыкальной природы, он в то же самое время совершенно не выносил реально звучащей музыки. Так, Алиса Ивановна Порет вспоминает о том, как однажды Хармс повел с ней в филармонию на «Реквием» Моцарта Сашу Введенского, которому «медведь наступил на оба уха и который никогда в жизни не был на концерте и заявлял, что из музыкальных явлений он любит только свист, да и то свой. Сидел он сперва смирно, даже хвалился, что ему нипочем, – но постепенно стал томиться, ерзал на стуле и пытался приподняться и бежать. В антракте под предлогом выпить в буфете он ускользнул». Я думаю, что Введенский знал о музыке что-то такое, чего не знаем и никогда не узнаем мы, и поэтому он совершенно не мог выносить той музыки, которую мы слушаем с большим удовольствием. Мне кажется, он был причастен тайне истока музыки, иначе бы им не были написаны такие строки: «И пока она пела, играла чудная, превосходная, все и вся покоряющая музыка. И казалось, что разным чувствам есть еще место на земле. Как чудо, стоят сыновья возле тихо погасшей кровати отца. Им хочется все повторить… “Господи, – могли бы сказать сыновья, если бы они могли, – ведь это мы уже знали заранее”». В этих словах совершенно осязательно пульсирует тайна, связывающая рождение музыки и смерть человека, и в этой тайне заключено высшее знание о музыке. Введенский, безусловно, был причастен этому высшему знанию, но со стороны это знание выглядит как патологическая немузыкальность, а сам он представляется человеком, которому медведь наступил сразу на оба уха. Ну что ж, таков парадокс мира, в котором полно музыкантов и который буквально лопается от игры, пения и сочинительства этих самых музыкантов, но в котором именно благодаря этому и нет музыки. Следуя традиции, принятой в научном мире, я назвал бы этот парадокс «эффектом Введенского – Линча».
Однако сказанное отнюдь не означает того, что музыка совсем покинула наш мир – в противном случае мир перестал бы существовать, ибо музыка есть первичная вибрация, рождающая форму мира. Музыка, конечно же, не покинула наш мир, но музыка покидает места своего традиционного пребывания, осуществляя некую глобальную дислокацию. Музыка покидает концертные залы, музыка покидает музыкальные организации и музыкальные учебные заведения, музыка покидает тексты, описывающие музыку, и тех людей, которые называют себя музыкантами. Субстанция музыки больше не концентрируется там, где концентрировалась раньше, ибо музыка идет в новые места, где она могла бы осесть в виде некоего конденсата или где она могла бы выпасть в виде чудотворной благоуханной росы. Сейчас достаточно трудно предполагать, где будут находиться эти новые места обитания музыки и какими они будут, но следует сказать хотя бы несколько слов о тех местах, которые она покидает.
60
Как-то Шёнберг сказал: «Публика – враг музыки номер один». И эти слова удивительно точно отразили тот момент, когда стало абсолютно ясно, что публике нужна вовсе не музыка, но ее собственные косные представления о музыке и что с этими представлениями отныне придется считаться всем, кто так или иначе подвизается на музыкальном поприще. Ярчайшим симптомом этого стало враждебное отношение публики к современной музыке в опере, анализируя которое Адорно писал: «“Кавалер розы” был и остается последним произведением оперного жанра, которое завоевало широкую известность и при этом, хотя бы внешне, удовлетворяло стандарту технических средств эпохи своего создания. Беда не в том, что у Штрауса не хватило дарования. Он думал о публике, об успехе, а уже тогда можно было претендовать на успех, только сдерживая свои же собственные творческие силы. Не только финальный дуэт – уступка, но и весь “Кавалер розы” – капитуляция; не случайно в переписке, которая предшествовала этой отличной commoedia per musica, встречается имя Легара». Однако эти уступки и капитуляции, совершаемые постоянно, не могли пройти бесследно. Постепенно накапливаясь, они достигли к концу прошлого века некоей критической массы, в результате чего слова Шёнберга начали нуждаться в серьезной коррекции. Теперь говорить о том, что «публика – враг музыки номер один», значит, не только говорить затертые истины, но говорить еще и нечто принципиально неверное, ибо теперь врагом музыки номер один стало само музыкальное сообщество, то есть врагами музыки стали сами музыканты.
Теперь на вопрос Кейджа: «Делается ли шум проезжающего грузовика более музыкальным, если этот грузовик проезжает мимо консерватории, филармонии, оперного театра, Союза композиторов или какого-либо другого музыкального заведения?» – следует отвечать, скорее всего, однозначно отрицательно. Когда Кейдж задавался этим вопросом, еще можно было верить в то, что даже молчаливое присутствие музыканта и тем более присутствие целой группы музыкантов делает окружающее более музыкальным. Однако с тех пор как академические музыканты превратились во врагов музыки, ни о чем подобном не может быть уже и речи. Присутствие академических музыкантов в каком-либо месте не только делает шум проезжающего мимо грузовика менее музыкальным, но и подавляет саму возможность понимания музыки как во всей близлежащей округе, так и во всех, кто волею судьбы оказался рядом. И чем именитее и звезднее оказываются музыканты, тем это влияние на окружающую среду становится более ощутимым. Поверьте: я знаю, о чем говорю, ибо мне довелось не только общаться со многими из них, но приходилось еще и становиться объектом их интерпретаторской деятельности. В одной из своих предыдущих книг я сравнивал этих музыкантов с мертвецами, хоронящими своих мертвецов, но теперь это сравнение кажется мне несколько чрезмерным. В нем есть что-то библейско-евангельское, во всяком случае, в нем есть что-то величественное, в то время как на самом деле все обстоит гораздо проще. Сейчас они напоминают мне, скорее, персонажей музея мадам Тюссо. И в самом деле, все эти музыканты есть не более чем восковые фигуры, предназначение которых заключается в том, чтобы у зрителей создавалась полная иллюзия жизни там, где жизнь невозможна по определению.
Зато когда среди этого воскового паноптикума вдруг встречается фигура, наделенная живым музыкальным пониманием, это начинает восприниматься как чудо. Еще большим чудом может показаться, если вдруг выяснится, что этой фигуре не многим более тридцати лет. И уж совсем каким-то несусветным чудом может выглядеть тот факт, что эта фигура из плоти и крови, по какой-то странной случайности затесавшаяся между восковых манекенов, – вполне раскрученная, именитая и звездная персона. Когда я говорю об этом сугубом чуде, то подразумеваю Владимира Юровского. Вообще-то, моя встреча с ним была предопределена на каком-то генетическом уровне. В детстве я приятельствовал с его отцом – ныне известным европейским дирижером Михаилом Юровским. Знавал я и его деда – автора балета «Алые паруса» и большого почитателя Малера, и его бабушку – «красавицу Симону». Я помню неразлучную троицу друзей – Андрея Беляева, Сашу Шварца и Мишу Юровского, к которым я приходил в гости в композиторский дом на Миусской площади еще в самом начале 1950-х годов. Я помню ту атмосферу, так же как помню атмосферу Мерзляковского училища и консерватории, где мы учились вместе с Мишей, и я явно ощущал флюиды этой атмосферы во время нашего общения с Владимиром Юровским. Но, как говорится, флюиды флюидами, а здесь нужно отдать должное личной инициативе и личной смелости самого Владимира, ибо склонить Лондонский симфонический оркестр на исполнение «Vita Nova» в Лондоне и Нью-Йорке было, безусловно, большим риском, – который, по всей видимости, не оправдал себя. Ведь тот поток помоев, который был вылит музыкальными критиками на это исполнение, не миновал самого Юровского. Так что получается, что я «подставил» его. В результате, у меня развился комплекс вины перед ним. Однако, поскольку комплекс вины есть вещь совершенно неконструктивная, я почту за лучшее напомнить и себе самому, и Юровскому мои любимые строки Заболоцкого:
Побит камнями и закидан грязью,
Будь терпелив и помни каждый миг,
Коль музыки коснешься чутким ухом,
Разрушится твой дом. И, ревностный к наукам,
Над нами посмеется ученик.
Я не знаю, как повлияло на Юровского «побивание камнями» и «закидывание грязью», но знаю точно, что в нашем московском и лондонском общении осязательно ощущалось прикосновение музыки. Это общение несколько напоминало «игру в бисер», ибо для того, чтобы прийти к общему пониманию при обсуждении партитуры, мы поочередно апеллировали к разным культурным феноменам, что напоминало очередность игровых ходов. Помню, как, когда наше обсуждение коснулось «Зимнего пути» Шуберта, я сказал, что общим ориентиром при исполнении «Vita Nova» должна стать песня «Das Wirtshaus» – «Постоялый двор», в которой лирический герой Шуберта сетует на то, что ему не находится места на кладбище, мимо которого он проходит, и что ему придется продолжать свой путь под неподражаемое звучание фа-мажорного трезвучия. А через день Юровский сказал мне, что считает таким ориентиром не «Das Wirtshaus», но «Die Nebensonnen» – «Ложные солнца», и это меня совершенно поразило, хотя я и не подал вида. Это поразило меня не только потому, что такой ход оказался утонченнее моего, но в первую очередь потому, что в этой песне речь идет о трех изначально существующих солнцах и об угасании или уничтожении двух из них, то есть практически о том же самом, о чем повествуется в эпосе орочей, послужившем основой для «Детей выдры» Хлебникова. К тому времени я уже достаточно активно занимался этим хлебниковским проектом, однако соприкосновение одного из древнейших на земле эпосов с романтической поэзией Мюллера, имеющее место в почти что одинаковой трактовке проблемы трех солнц, оставалось абсолютно незамеченным мною. Вот почему мысль Юровского прозвучала для меня как откровение. Сам того не подозревая, он предоставил мне ключ к разгадке тайны перемещения музыки в современном мире, то есть тайны того, куда музыка направляет стопы, покидая места своего традиционного пребывания. Именно в тот момент я начал понимать, что пути дислокации музыки ведут от эталонного звучания Лондонского симфонического оркестра к горловому пению группы «Хуун-хуур-ту», от романтической поэзии к архаическому эпосу, от Данте к «Сыну выдры», от замкнутого пространства филармонического зала к бескрайним азийским просторам, от атлантического и средиземноморского сознания к евразийскому материковому сознанию. Если же говорить обо мне лично, то для меня этот путь есть путь, ведущий от «Vita Nova» к «Детям выдры». Во всяком случае, сейчас я вижу все это именно таким образом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.