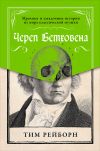Текст книги "Казус Vita Nova"

Автор книги: Владимир Мартынов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
В отличие от «мировой музыки», которая просто обязана постоянно поставлять потребителю все новые и новые национальные продукты, современная композиторская музыка абсолютно свободна от подобной обязанности, а потому она вполне может позволить себе не обременять себя какими бы то ни было национальными проблемами. И если еще как-то возможно говорить о немецких корнях Штокхаузена, французских корнях Булеза, итальянских корнях Ноно или американских корнях Райха, то, пожалуй, совсем невозможно говорить о венгерских корнях Лигети или польских корнях Лютославского. И я просто не могу себе представить, на каком основании можно говорить о Екимовском, Тарнопольском или обо мне самом как о русских композиторах. Еще труднее понять те причины, на основании которых русскими композиторами можно считать Смирнова, Раскатова, Невского, Воронова и многих других композиторов поколения «С», проживающих и успешно практикующих сейчас на Западе. В связи с этим возникает вполне обоснованное подозрение, что «русский композитор» – это всего лишь некий торговый бренд, позволяющий выцыганить у наивных европейцев те заказы, которые наверняка проплыли бы мимо в случае непредъявления этого бренда. Во всяком случае, если вспомнить о том, что последний русский композитор Игорь Федорович Стравинский умер в 1971 году, то нынешние композиторы, называющие себя «современными русскими композиторами», очень сильно смахивают на детей лейтенанта Шмидта, да по сути они и являются ими. Конечно же, гораздо правильнее и честнее было бы называть себя советскими или хотя бы постсоветскими композиторами, но это, конечно, не так приятно и уж совсем не выгодно. И тут просто невозможно не восхититься честностью и мужественностью Корндорфа, который в письме из Канады признается Екимовскому в своей невытравляемой советскости.
Но мне кажется, что сейчас национальная принадлежность композитора не имеет того значения, которое придавалось ему в момент возникновения национальных композиторских школ. Композитор может позиционировать и ощущать себя в качестве русского, советского, китайского или французского композитора, но важным оказывается совсем не это, а то, что при всех своих позиционированиях и ощущениях он прежде всего должен вписаться в интернациональную парадигму современной композиторской музыки. Подобно тому, как во второй половине XIV века на всей территории Европы от Португалии и Каталонии до Богемии и Венгрии в изобразительном искусстве господствовало единое направление, называемое «интернациональной готикой», практически нивелирующее национальные особенности, так и сейчас во всем мире господствует единая интернациональная парадигма композиторской музыки, стирающая различия между Европой и Россией, Востоком и Западом. В современной ситуации следует говорить не столько о национальных различиях, сколько о более «продвинутых» и менее «продвинутых» странах, о центрах и провинциях.
Все это я пишу потому, что в корне не согласен с Поспеловым, утверждающим, что разгром «Vita Nova» на страницах английской и американской прессы обусловлен разницей культурных установок России и Европы, а также какими-то русскими особенностями этой оперы, которые не приемлются и не «съедаются» на Западе. Такое утверждение для меня более чем странно: во-первых, потому, что в данном конкретном случае я абсолютно не ощущаю себя русским композитором; а во-вторых, потому, что в «Vita Nova» я совершенно сознательно пытался как можно дальше дистанцироваться от русской оперной традиции. Конечно, возможно, я ошибаюсь, и на самом деле национальный русский дух прямо-таки прет из меня помимо моей воли, вызывая раздражение западных критиков, но мне все же кажется, что меня не принимает и не воспринимает академическое музыкальное сообщество и композиторская среда независимо от того, где я нахожусь – в России, в Европе или в Америке. И доказательством этому служат разгромные российские рецензии, последовавшие за исполнением первых двух актов «Vita Nova» на Московском Пасхальном фестивале в 2003 году.
Самое интересное заключается в том, что английские и американские критики практически слово в слово повторяют все то, что писалось в российских рецензиях. И в Москве, и в Лондоне, и в Нью-Йорке критики предъявляют одни и те же претензии, выдвигают одни и те же доводы, приводят одни и те же аргументы и в итоге выносят одинаково непримиримый приговор. В чем же причина такого единодушия? Конечно же, вполне резонно предположить, что на самом деле причина очень проста и что все дело заключается в том, что «Vita Nova» – это действительно никуда не годная бездарная опера, представляющая собой одновременно и вонючую кучу мусора, и бесстыдный секонд-хенд, – этого тоже не стоит сбрасывать со счетов, ибо в жизни бывает и такое, и я всегда готов рассмотреть и такой вариант. Однако мне представляется, что дело здесь заключается совсем в другом, и это «другое» обнаруживает себя в тот момент, когда критики начинают сравнивать «Vita Nova» с «Братьями Карамазовыми» Александра Смелкова.
Вообще-то рассматривать меня вкупе со Смелковым – это все равно что сопоставлять Виноградова и Дубосарского с Шиловым. Конечно же, в искусстве могут существовать самые разные вкусы и предпочтения, и для кого-то Шилов окажется гораздо интереснее и лучше, чем Виноградов и Дубосарский, а Смелков – гораздо интереснее и лучше меня. Но здесь дело заключается не в том, что лучше и что хуже, но в том, что речь должна идти о явлениях с совершенно различными культурными кодами. Рядовой слушатель, как и рядовой зритель, не обязан считывать эти культурные коды и волен помещать в единое нечленораздельное пространство своего восприятия и меня вкупе со Смелковым, и Виноградова и Дубосарского вкупе с Шиловым; однако если точно так же начинает вести себя профессиональный критик, то это значит лишь одно, а именно то, что он не способен считывать культурный код того, о чем он пишет, другими словами, он не справляется со своей профессиональной задачей. А если подобным образом начинает вести себя не отдельно взятый критик, но все сообщество музыкальных критиков от Москвы до Нью-Йорка, то тут нужно говорить уже о каком-то системном профессиональном сбое, не позволяющем данному сообществу правильно сориентироваться в современной музыкальной реальности. Конечно же, кому-то может показаться, что, говоря все это, я просто свожу счеты с досадившими мне критиками, но на самом деле я пытаюсь по мере своих сил объективно проанализировать ситуацию, которую считаю тестовой. К тому же я вовсе не снимаю с обсуждения вопроса о том, что, вполне возможно, я написал никуда не годную оперу.
Как бы то ни было, но я полагаю, что когда Петр Поспелов пытается объяснить провал «Vita Nova» у английской и американской газетной критики несостыковкой российского и западного культурного менталитета, то он просто «переводит стрелки» на национальную проблематику, тем самым подсознательно стремясь спасти профессиональную честь мундира той гильдии, к которой принадлежит сам. На самом деле во всей этой ситуации нет никаких национальных мотивов, и речь должна идти не о специфике того или иного национального сознания, но о специфике сознания музыкальных критиков и сознания сообщества академических музыкантов. Эта специфика проявляется, в частности, в неспособности представителей этого сообщества к считыванию культурных кодов музыкального материала, что в конечном итоге приводит к культурной неадекватности, то есть к неумению ориентироваться в пространстве культурных феноменов. Культурная неадекватность музыкального сообщества становится особенно очевидной при сопоставлении этого сообщества с художественным сообществом, с позиций которого смешение Виноградова и Дубосарского с Шиловым не просто немыслимо, но вопиюще безграмотно. Понимание недопустимости подобного смешения обусловлено тем, что художественное сообщество в 1960–1970-е годы прошло сквозь искус концептуализма, в то время как музыкальное сообщество остановилось только где-то на дальних подступах к этому искусу. Это позволяет говорить о стадиальной отсталости музыкального сообщества от сообщества художественного, а поскольку художественное сообщество занимает ключевую позицию в современной культурной ситуации, то можно говорить об общекультурной стадиальной отсталости академического музыкального сообщества. Именно эту стадиальную отсталость, послужившую причиной неприятия оперы «Vita Nova» музыкальными критиками, Поспелов и пытается интерпретировать как проблему несостыковки различных национальных менталитетов, однако единодушие российских, европейских и американских критиков в отношении к этой опере полностью опровергает правомочность такой попытки. Я уверен в том, что в пространстве современного искусства нет и не может быть никаких национальных несостыковок, но зато вполне могут иметь место стадиальные несостыковки; и мне кажется, что ситуация, спровоцированная «Vita Nova», как раз и интересна тем, что обнаруживает местоположение одной из этих несостыковок.
48
Проблема конца времени композиторов может быть рассмотрена и на социально-бытовом уровне. Так, к примеру, можно рассмотреть вопрос, где и в каких условиях композитор мог выпить водки. В этой связи вспоминается, что когда-то в Доме композиторов был довольно неплохой ресторан, называемый в простонародье «Балалайка». В этом ресторане не было никакой музыки, но зато был специальный зал для композиторов, куда не мог зайти никто из посторонних и где, несмотря на любой аншлаг, композитор всегда мог получить свою рюмку водки и свой «стейк по-суворовски». Но потом грянула перестройка, а за ней и развал Советского Союза, одним из результатов которого стало то, что композиторы лишились своего ресторана. В помещении этого ресторана обосновался какой-то элитарный ночной клуб, музыка в котором звучала так громко, что часто была слышна во время концертов в зале Дома композиторов. У меня до сих пор хранится концертная запись моего «Народного танца» в исполнении Любимова, в тихих местах которой отчетливо прослушиваются бас-гитарные риффы, доносящиеся из помещения этого ночного клуба, бывшего когда-то рестораном для композиторов.
Какое-то время композиторам оставалось еще «место под солнцем», где они могли опрокинуть свою рюмку водки. Так, в помещении бывшего буфета Дома композиторов, куда раньше считалось приличным заглянуть разве что во время антракта, образовалось кафе с музыкально-гастрономическим названием «Фа-соль». В этом новообразовавшемся кафе прямо у барной стойки стоял столик, на котором красовалась табличка «Стол для композиторов». Как бы ни было переполнено кафе (а по вечерам оно почти всегда было более чем переполнено), любой случайно забредший туда композитор мог рассчитывать пусть и не на очень значительное, но все же на какое-то там привилегированное положение по сравнению с другими посетителями. Что ни говори, но мысль о том, что где-то в мире существует столик, на котором стоит табличка «Стол для композиторов», просто не могла не согревать тонкую композиторскую душу. Но время неумолимо шло своим чередом, и табличку «Стол для композиторов» заменила табличка «Стол для композиторов и администрации». Конечно же, большинство завсегдатаев кафе даже и не заметили этого изменения, но я, постоянно занимающийся проблемой конца времени композиторов, случайно оказываясь в этом кафе с кем-либо из своих друзей или знакомых, всякий раз указывал на эту табличку, рассказывая о том, что раньше вместо нее на столе стояла табличка «Стол для композиторов», тем самым подталкивая своих собеседников к нужным мне радикальным выводам. Однако ход времени оказался гораздо радикальнее и гораздо циничнее того, о чем я пытался говорить за рюмкой водки или за кружкой пива. Как-то, зайдя в очередной раз в это кафе, чтобы по своему обыкновению пропустить парочку кружек пива, я не увидел привычной таблички на привычном столе, но зато прямо над столом я увидел прибитый к стене небольшой транспарант, на котором было написано: «Стол для администрации». Тут я испытал что-то вроде сатори, вылившееся в пронзительный вопрос: и зачем только я написал столько книг о конце времени композиторов, ссылаясь на Хайдеггера, Адорно, Фуко и Хабермаса, когда все так просто и так наглядно? Зачем вообще тратить время на разговоры о конце времени композиторов, если и без слов все предельно ясно? Ведь что такое, в сущности, конец времени композиторов? Когда над столиком, на котором раньше стояла табличка «Стол для композиторов», появляется транспарант с надписью: «Стол для администрации» – это и есть конец времени композиторов, и для того, чтобы увидеть это, не нужны ни Хайдеггер, ни Фуко, ни Хабермас, ни даже я. Поистине жизнь богаче и мудрее всего того, что можно написать про нее. Жизнь не нуждается ни в каких книгах, ибо, по сути дела, сама жизнь и есть книга. Нужно только научиться читать эту книгу.
49
Но если разговор зашел о социально-бытовом аспекте проблемы конца времени композиторов, то следует коснуться хотя бы вскользь и тактильно-мускульного аспекта. В свое время я уже достаточно подробно писал о том, что разрешение использовать шариковые ручки при обучении письму в начальных классах школы самым пагубным образом сказалось на литературно-поэтическом потенциале целого поколения, ибо поэтическое чувство во многом зависит от тактильно-осязательного ощущения, возникающего при соприкосновении пера с бумагой. Письмо играет огромную роль и в становлении композитора. Наверное, самым лучшим способом ознакомления с произведением кого-либо из великих мастеров для начинающего композитора будет собственноручное переписывание этого произведения. В процессе такого переписывания переписывающий приобщается к мысли мастера не только на зрительном, слуховом и рациональном уровне, но и на уровне тактильно-мускульном, ибо он воспроизводит те же самые движения руки, которые совершал мастер при написании своей партитуры. Вот почему переписывание великих партитур всегда почиталось одним из лучших способов приобщения к секретам композиторского мастерства. Ведь не случайно Бах испортил себе зрение именно в результате того, что в отрочестве и юности переписывал по ночам произведения других композиторов.
Но что говорить о собственноручном переписывании партитур великих мастеров, если в наше время практически совершенно забыта игра в четыре руки? А вместе с тем я уверен, что игра в четыре руки – это тот питательный раствор, в котором только и может произрасти настоящий кристалл композиторского сознания. В процессе этой игры на каком-то неосознанном, или, лучше сказать, подсознательном уровне происходит некий изначальный, первичный анализ, ибо вся ткань исполняемого произведения распределяется между двумя играющими, и, пока ты играешь свою часть фактуры, ты слышишь, как твой партнер играет свою. Потом можно поменяться местами, и тогда ты будешь играть то, что играл твой партнер, а слышать то, что перед этим играл сам. Это сочетание собственных тактильно-мускульных ощущений прикосновения к клавишам с ощущением контакта с партнером ни с чем не сравнимо. Оно приносит такое знание о музыке, которого не может дать никакое прослушивание, никакой визуальный анализ. В моем поколении все обучающиеся музыке так или иначе играли в четыре руки. Я сам вместе с папой и мамой, со своими сокурсниками и, конечно же, с Валерием Афанасьевым переиграл в четыре руки всю симфоническую литературу от Гайдна до Малера, в результате чего я узнал ее как бы изнутри. Особую область четырехручной игры представляет собой игра партитуры “Die Kunst der Fuge”, которую я постоянно играю как сам, так и с кем-нибудь практически на протяжении всей жизни. Игра в четыре руки делает ближе не только музыку, но и того, с кем ты играешь, и поэтому она неизбежно превращается в некий социально-антропологический акт, в горниле которого рождается человек особого типа – человек, склонный к композиторству. Ведь композиторство – это не просто способность к написанию музыки, композиторство – это сложная система соотношений сознания со звуком, с другим человеком и со своими собственными тактильными ощущениями, и именно эта система соотношений формируется в процессе четырехручной игры. Широкое внедрение звукозаписи в музыкальную жизнь сделало практически ненужной игру в четыре руки, а это привело к тому, что эмбрион композиторского сознания лишается питательной среды, необходимой для его полноценного созревания, и так и остается всего лишь эмбрионом. Нужно ли говорить о том, что все это вместе взятое делает абсолютно невозможным появление настоящего полноценного композитора?
Но я вспоминаю еще один тактильно-мускульный опыт общения с музыкой, который я пережил в нашу бытность в квартире на Новослободской улице, где под руководством папы начинались мои музыкальные занятия. Я обожал, что называется, просто бренчать на рояле, то что-то подбирая по слуху, то пытаясь придумать что-то свое; но когда дело доходило до систематических занятий, то тут начинались проблемы, которые усугублялись еще более, если дело касалось вопросов аппликатуры. Я был упрям и капризен, а папа был вспыльчив, в результате чего вскоре на меня начинал сыпаться град увесистых подзатыльников и затрещин. Я же, обливаясь слезами и всхлипывая, упорно продолжал тыкать роковую клавишу именно тем пальцем, которым хотел, но не тем, которым было нужно. Потом я убегал в нашу темную переднюю, прятался за большой кованый сундук и, глотая слезы, шептал как заклинание: «Ненавижу тебя, музыка! Ненавижу тебя, музыка!» Но через полчаса, когда наставало время записывать, что я сочинил, начиналась новая фаза тактильно-мускульного опыта. Тогда я еще не умел записывать сам, и поэтому папа записывал с моих рук. То, что нащупываемое мною на клавишах может под рукой папы превратиться в графические знаки, производило на меня какое-то мистическое впечатление. Оно было столь сильным, что я не мог сдержать себя и начинал прыгать, приседать и кувыркаться вокруг стула, сидя на котором папа записывал то, что я придумал. Тогда я отчетливо ощущал реальное присутствие музыки в нашей комнате. Может быть, это были самые яркие минуты моей жизни. И сейчас, когда я думаю о них, я склонен квалифицировать их как некие «докомпозиторские» или «предкомпозиторские» состояния сознания, которые становятся принципиально недостижимыми, когда наступает пора композиторско-половой зрелости, когда человек становится «полноценным» композитором. И если это действительно так, то, может быть, не стоит сожалеть о том, что время композиторов проходит? Быть может, осознание факта конца времени композиторов есть залог обретения той полноты бытия, которая была дана мне, когда я глотал слезы за нашим кованым сундуком или кувыркался вокруг папиного стула у нашего пианино?
50
В 1990-е годы в доме осталось не так уж много тех, кто изначально поселился в нем и кто определял его лицо в 1950-е, 1960-е и отчасти в 1970-е годы. Те же, кто остался, уже давно миновали пик и своей карьеры, и своего успеха, и своего благополучия. Это были люди, живущие, что называется, «на покое», хотя в бытовом плане жизнь 1990-х годов к покою не особенно располагала: советская инфраструктура разваливалась буквально на глазах. Так, в течение довольно недолгого времени исчезли все продуктовые магазины, находящиеся в окрестностях нашего дома. Если раньше в округе было полно разных овощных, молочных, рыбных, булочных и бакалейных магазинов, то к концу 1990-х годов из них практически не осталось ни одного, ибо в их помещениях расположились бутики, элитные салоны и банки. Время не пощадило даже такие знаменитые магазины на Тверской, как «Диета», «Российские вина», «Главрыба» и Филипповская булочная, номинально сохранившаяся, но превратившаяся непонятно во что. Из этих знаменитых магазинов сохранился только Елисеевский, но мой папа не ходил туда, ибо с этим магазином для него была связана память о том, как в феврале 1994 года, стоя в очереди, он потерял сознание, а мама, бросившись к нему, упала и сломала бедро. Да и вообще, в Елисеевском магазине все стало так дорого, что мало кто ходил туда. Так что пожилым людям, живущим в нашем доме, стало достаточно проблематично ходить за хлебом, молоком и картошкой.
51
Все в целом производит впечатление абсолютно всерьез преподнесенной карикатуры – конечно, если отмести предположение, что композитор просто решил поиздеваться. Это впечатление достигнет кульминации в «экстатическом дуэте» Данте и Беатриче ближе к концу сочинения, где Беатриче на разные лады повторяет фразу: «И ты тоже умрешь», а Данте точно так же твердит: «Сладчайшая смерть». По-видимому, в данном случае источником вдохновения для композитора послужил один из номеров знаменитого спектакля «Необыкновенный концерт» С. Образцова, где колоратурное сопрано в неподражаемой манере исполняет романс «Я, кажется, влюбилась», – во всяком случае, сочинен этот дуэт точно по рецепту Образцова.
52
Когда я говорил об «искусе концептуализма», то я вовсе не хотел сказать, что теперь все должны быть концептуалистами или что все обязаны исповедовать истины этого направления. Концептуализм как направление остался в прошлом и давно уже стал достоянием истории, однако вместе с тем он имел далеко идущие последствия, кардинальным образом изменившие конфигурацию пространства искусства, и потому его подспудное воздействие ощущается теперь не только в том, что так или иначе претендует на какую-то актуальность, но даже и в том, что не ведает ни о каком концептуализме и не претендует ни на какую концептуальность. В отличие от «традиционного» доконцептуального искусства, концептуализм начал работать не с цветовыми, звуковыми или словесными формами, но с тем, что их задает: с мышлением, сознанием и идеологией, в результате чего кардинально изменились взаимоотношения произведения с тем, кто это произведение воспринимает. Теперь зритель или слушатель оказывался в пространстве умозрительных и абстрагированных от конкретных материальных форм отношений, и ему самому приходилось разбираться во множестве контекстов – этических, эстетических, социально-политических, историко-культурных и многих других, свободно интерпретируя концепцию, предложенную автором. Последствия этого оказались столь фундаментальными, что здесь по аналогии с коперникианским поворотом стало возможно говорить о концептуалистском повороте, ибо если коперникианский поворот лишил землю ее центрального местоположения в мироздании, то концептуалистский поворот лишил произведение его монополии на смыслообразование.
Все это имеет самое непосредственное отношение к обсуждаемой выше проблеме прямого высказывания, ибо любое произведение в конечном итоге есть не что иное, как высказывание, выраженное через посредство цветов, звуков или слов. В доконцептуальном искусстве высказывание было единственным источником или генератором смыслообразования, и воспринимающему оставалось только подключиться к этому генератору, чтобы воспринять высказываемый смысл. В концептуализме смысл генерируется контекстом, в котором высказывание выполняет роль лишь некоего провокативного импульса, провоцирующего активность воспринимающего и подталкивающего его к созданию новых контекстов. Таким образом, суть концептуалистского поворота заключается в том, что смысл более не предопределяется высказыванием, но рождается в процессе обнаружения и открытия все новых и новых контекстуальных ситуаций, связанных с этим высказыванием. Выработанное в концептуализме новое соотношение текста и контекста, произведения и воспринимающего оказало воздействие на все послеконцептуальное искусство, и теперь любые разговоры о смыслообразующей силе высказывания, игнорирующие контекстуальную ситуацию этого высказывания, выглядят крайне наивно и неадекватно.
Я прошу прощения за то, что говорю совершенно очевидные вещи, но дело заключается в том, что эти вещи очевидны для всех, кроме музыкантов и музыкальных критиков, и для них мне приходится служить эту обедню снова и снова. А то, что эти очевидные вещи являются совершенно неочевидными для музыкальных критиков, явствует хотя бы из слов одной московской критикессы, написавшей о «Vita Nova», в частности, следующее: «Однако в какой-то момент слушатель остается один на один со звучащим опусом, и в этот момент ему безразлично, опус это или opus posth., сочинен ли он композитором или посткомпозитором. Если он написан и вынесен на сцену, то должен обладать определенной автономией и быть достаточно самостоятельным, чтобы выдержать встречу с аудиторией, которая не обязана вникать в нюансы самоидентификации автора». В этом тексте восхищает четкое распределение прав и обязанностей. Автор должен предоставить опус, обладающий автономией, а аудитория не обязана вникать в нюансы самоидентификации автора. Кроме того, автор обязан еще выдержать встречу с этой самой аудиторией, и это накладывает на него дополнительную ответственность, в то время как слушателю абсолютно безразлично, кто перед ним находится. Самое же пикантное здесь заключается в том, что, говоря от лица аудитории и слушателя, критик тем самым полностью консолидируется с ними, и, стало быть, это именно критик не обязан вникать в нюансы того, что он слышит, именно критику должно быть безразлично то, с чем он имеет дело. Однако здесь следует говорить, скорее, не о том, что критик должен и обязан, но о том, что он просто не может вникать в нюансы и отдавать себе отчет в том, с чем он имеет дело, в силу своих профессиональных установок. И эти профессиональные установки, не позволяющие критику считывать культурный код звучащей вещи, неукоснительно действуют как в России, так и на Западе. Не важно, где находится музыкальный критик – в Москве, Лондоне или Нью-Йорке, важно то, что он живет в некоей заповедной временно́й области, куда еще не дошли отголоски концептуалистского поворота и где процветает искренняя вера в абсолютность прямого высказывания.
Здесь следует оговориться, что я вовсе не сомневаюсь в силе прямого высказывания, но отрицаю его абсолютность, и, чтобы пояснить свою мысль, мне кажется уместным продолжить сравнение коперникианского поворота с поворотом концептуалистским. Каждое утро мы видим, как солнце поднимается из-за горизонта, и каждый вечер мы видим, как оно опускается за горизонт, и эта очевидность есть очевидность прямого высказывания, с которой, как говорится, не поспоришь. Однако после Коперника у этой очевидности появилась оборотная сторона, а именно знание о том, что на самом деле солнце не восходит и не заходит – оно вообще неподвижно относительно нас, а движемся как раз мы вместе с вращающейся вокруг своей оси землей. Таким образом, есть очевидность, и есть механизмы, создающие эту очевидность, однако концептуализм не занимается ни тем, ни другим в отдельности, но постоянно находится между этими точками, вовлекая человека в нескончаемую игру все новых и новых контекстуальных ситуаций. К пониманию этого очень близко подошел Борис Филановский, который в своем отзыве на «Vita Nova» написал следующее: «Между тем Владимир Иванович почти уверил меня в возможности этой непростой вещи – прямого высказывания. Ведь в его опере оно прямее некуда. Только прямота здесь не эмоциональная, а коммуникативная. Это прямота центона. (Конечно, в строгом смысле слова “Vita Nova” не центон, но в музыке он почти не встречается. Пародия – да, цитата – да, но не центон. То есть центонность “Vita Nova” чуть ли не максимально возможная.) Мартынов остроумно отчленяет форму от содержания, “что” от “как”, ведь их неразделимость и есть авторское как таковое – то, что, по Мартынову, исчерпало себя и должно завершиться». Конечно же, Филановский, как и другие музыканты, просто не может относиться ко мне с симпатией, однако он, в отличие от музыкальных критиков и подавляющего большинства композиторов, хотя бы понимает, о чем идет речь.
А речь идет о том, что дело совсем не в том, о чем идет речь. Разбираться в том, о чем идет речь, – то же самое, что пытаться распутать гордиев узел или заставить яйцо стоять неким хитроумным способом. Гордиев узел существовал для того, чтобы его разрубил Александр Македонский, яйцо – для того, чтобы, слегка надбив скорлупу, его поставил Колумб, а речь – для того, чтобы, оторвав «что» от «как», концептуализм сделал бессмысленной любую попытку понять, о чем, собственно, идет речь. Во всех трех случаях совершенно сознательно нарушается целостность предмета или явления, изначально заявленного именно как целостного. Во всех трех случаях имеют место нетривиальные решения, и эти нетривиальные решения приводят к нетривиальным результатам. Вот почему нетривиальность есть одно из основополагающих условий существования концептуализма. Здесь уместно вспомнить то, что Стравинский как-то сказал о духовной музыке: «Духовная музыка без религии почти всегда тривиальна. Она может быть и скучной. Церковная музыка тоже бывала скучной – от Гукбальда до Гайдна, – но она не бывала тривиальной». Эти замечательные по глубине слова вполне могут быть приложимы и к концептуализму. Концептуализм мог быть скучным, занудным, банальным и даже невыносимым, но он не мог быть тривиальным, и эта особенность концептуализма имела роковые последствия для всего постконцептуального искусства – как для того, которое восприняло импульс концептуализма, так и для того, которое осталось абсолютно глухо к его импульсу, и это породило достаточно парадоксальную ситуацию современной конфигурации пространства искусства. Отныне все нетривиальное обречено выглядеть скучным и банальным, в то время как все претендующее на оригинальность, самобытность и новизну на поверку неизбежно оказывается тривиальным. Конечно же, это положение выглядит парадоксально, но таковы последствия концептуалистского поворота, и именно эти последствия, игнорируемые музыкальными критиками, превращаются в непреодолимые препятствия на их пути к тому, чтобы понять хоть что-нибудь.
53
Дом композиторов также переживал далеко не лучшие времена. Ресторан, как я уже говорил, пришлось отдать, и в нем устроили какой-то ночной клуб. Одно время рядом с залом поставили бильярдный стол, у которого собирались какие-то подвыпившие личности, и тогда к музыке, звучащей со сцены, примешивался стук падающих на пол бильярдных шаров. Помню еще, как в какой-то из годов зал перестали отапливать, и редкие слушатели сидели в пальто и шапках. Так что жизнь Дома композиторов могла служить живой иллюстрацией к моей книге «Конец времени композиторов».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.