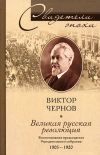Автор книги: Владимир Романов
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 75 страниц) [доступный отрывок для чтения: 24 страниц]
В опубликованном в 1914 г. фундаментальном ведомственном издании «Азиатская Россия» Романов подвел итог своей деятельности как одного из руководителей колонизации Дальнего Востока, написав о нем особый раздел[37]37
Романов В. Ф. Дальний Восток // Азиатская Россия. В 3 т. СПб., 1914. Т. 1. Люди и порядки за Уралом. С. 500–531.
[Закрыть]. «Для нас, – отмечал Романов, – обширные Дальневосточные области представляют первостепенное государственное значение, в особенности потому, что Россия – государство континентальное, с береговой полосой, примыкающей к морям или закрытым, или замерзающим». Всего с 1901 по 1914 г. в Приамурье были поселены 230 200 человек, т. е. в 2,5 раза больше, чем за весь период с 1861 г., когда произошло окончательное присоединение Приамурья к Российской империи, причем к 1914 г. Приамурье могло принять еще свыше 1 млн землепашцев. С 1911 по 1913 г., в результате мер, нацеленных на замену желтого труда русским на Дальнем Востоке туда переехали, на тех же и даже более льготных условиях, что и крестьяне, 150 000 русских рабочих. В результате буквально за считанные года в Амурской области возникли свыше 20 поселков городского типа, которые стали городами еще до революции 1917 г. (например – Алексеевск и Бурея) либо после нее[38]38
Романов В. Ф. Указ. соч. С. 501, 524, 531.
[Закрыть]. Естественно, что советская власть все эти потрясающие успехи старорежимного чиновничества приписала исключительно себе, хотя в действительности в данном случае, как и во многих других (с тем же Днепрогэсом), она лишь побиралась крохами с барского стола старого порядка…
В июле 1914 г., с началом Первой мировой войны, карьера Романова сделала крутой поворот – и опять по вине его покровителя Б. Е. Иваницкого, который был назначен председателем Комитета Российского общества Красного Креста на Юго-Западном фронте со штаб-квартирой в Киеве. Иваницкий призвал Романова к себе на пост своего товарища (заместителя). Ю. И. Лодыженскому, начальнику Киевского лазарета Красного Креста имени великого князя Михаила Александровича, Романов, как помощник Иваницкого, запомнился в 1915 г. «чрезвычайно дельным и корректным». Это был, отмечал Лодыженский, «человек неизменно очень тактичный и сдержанный (в противоположность своему начальнику сенатору Иваницкому)». К 1917 г. Романов в глазах Лодыженского принадлежал уже к числу тех деятелей, которые характеризовались им как «выдающиеся работники Красного Креста с общепризнанным авторитетом». После Февральской революции, благодаря тому что Алексей Федорович Романов являлся членом Президиума Чрезвычайной следственном комиссии Временного правительства, Владимир Федорович имел возможность одним из первых ознакомиться с результатами расследования деятельности экс-императора Николая II и императорского правительства. Такие честные члены комиссии, как А. Ф. Романов и В. М. Руднев, должны были признать, что Николай II и представители верхушки старорежимного чиновничества каких-либо преступлений, в том числе и уголовных, не совершали[39]39
См. Приложения № 4 и 5.
[Закрыть]. Тем не менее Временное правительство продолжало держать под арестом царскую семью и некоторых сановников, утаивая от широкой общественности правду, которая могла роковым образом отразиться на легитимности нового режима.
Пребывание В. Ф. Романова на посту одного из руководителей РОКК, да еще в Киеве, стало, пожалуй, самым драматическим периодом его жизни, если принять во внимание, что в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны с марта 1917 по июнь 1920 г., за тридцать девять месяцев, власть в городе менялась пятнадцать (!) раз[40]40
1) Временное правительство – 2 марта – 7 ноября 1917 г., 2) Украинская центральная рада – 7 ноября 1917 – 26 января (8 февраля) 1918 г., 3) большевики – 26 января (8 февраля) – 1 марта 1918 г., 4) Украинская центральная рада – 1 марта – 29 апреля 1918 г. (по ее приглашению 2 марта в Киев вошли германские войска), 5) гетман П. П. Скоропадский – 29 апреля – 14 декабря 1918 г., 6) Украинская директория – 14 декабря 1918 – 5 февраля 1919 г., 7) большевики – 5 февраля – 30 августа 1919 г., 8) Украинская директория – 30 августа – 31 августа 1919 г., 9) Добровольческая армия – 31 августа – 14 октября 1919 г., 10) большевики – 14 октября – 16 октября 1919 г., 12) Добровольческая армия – 16 октября – 16 декабря 1919 г., 13) большевики – 16 декабря 1919 – 7 мая 1920 г., 14) поляки – 7 мая – 12 июня 1920 г., 15) большевики – с 12 июня 1920 г.
[Закрыть]. Все это время, до декабря 1918 г., Романов оставался на своем красно-крестном посту, одновременно, после прихода к власти 29 апреля 1918 г. гетмана П. П. Скоропадского, занимая должность товарища державного секретаря, ведавшего делопроизводством Совета министров, а затем – сенатора Державного Сената Украинской державы.
Идя на службу к гетману, Романову не надо было кривить душой и изменять России, поскольку хотя Скоропадский и опирался на германо-австрийские войска, но сами эти войска пришли в Малороссию по приглашению не гетмана, а его предшественницы, социалистической Украинской центральной рады. «Великороссы и наши украинцы, – излагал Скоропадский собственное кредо, – создали общими усилиями русскую науку, русскую литературу, музыку и художество, и отказываться от этого своего высокого и хорошего для того, чтобы взять то убожество, которое нам, украинцам, так наивно любезно предлагают галичане, просто смешно и немыслимо. Нельзя упрекнуть Шевченко, что он не любил Украины, но пусть мне галичане или кто-нибудь из наших украинских шовинистов скажет по совести, что, если бы он был теперь жив, отказался бы от русской культуры, от Пушкина, Гоголя и тому подобных и признал бы лишь галицийскую культуру; несомненно, что он, ни минуты не задумываясь, сказал бы, что он никогда от русской культуры отказаться не может и не желает, чтобы украинцы от нее отказались. Но одновременно с этим он бы работал над развитием своей собственной, украинской, если бы условия давали бы ему возможность это делать. Насколько я считаю необходимым, чтобы дети дома и в школе говорили на том же самом языке, на котором мать их учила, знали бы подробно историю своей Украины, ее географию, насколько я полагаю необходимым, чтобы украинцы работали над созданием своей собственной культуры, настолько же я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, особенно в культурном отношении. При существовании у нас и свободном развитии русской и украинской культуры мы можем расцвести, если же мы теперь откажемся от первой культуры, мы будем лишь подстилкой для других наций и никогда ничего великого создать не сумеем»[41]41
Скоропадский П. П. Мои воспоминания // Смирнов А. С. Проект «Украина», или Звездный год гетмана Скоропадского. М., 2008. С. 251.
[Закрыть]. Понятно, что Романов мог бы подписаться под каждым словом из приведенной цитаты.
После падения гетманата, с декабря 1918 по август 1919 г., Романов жил в Киеве на подпольном положении, не только в прямом, но и в переносном, точнее – экзистенциальном, смысле, пережив все ужасы петлюровского и большевистского террора. Седьмая, последняя, глава его воспоминаний, посвященная в том числе и этому периоду, своего рода новое издание «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского, поражает тонкостью самоанализа и соотносится, по части описания террора, с другими источниками[42]42
См. Приложение № 6.
[Закрыть], хотя, конечно, не лишена антисемитских мотивов. Объясняя, почему нельзя считать антисемитскими фразы, которые могли показаться таковыми и которые в январе 1919 г. делегация евреев услышала от председателя Украинской директории В. К. Винниченко по поводу массовых избиений еврейского населения шомполами, А. Д. Марголин писал: «Вообще, каждого человека надо брать целиком, когда его судят. Нельзя по одной неосторожной фразе составлять суждение. Надо всегда учитывать и обстановку, и момент, когда эта фраза произносится. Участие еврейства в большевистском движении вывело из состояния душевного равновесия и трезвого, справедливо-объективного отношения к этому вопросу весьма многих испытанных борцов за права и свободу того же еврейского народа»[43]43
Марголин А. Д. Украина и Антанта. Записки еврея и гражданина. М., 2016. С. 260.
[Закрыть]. В подтверждение своего вывода Марголин сослался на антисемитские пассажи из воспоминаний В. Д. Набокова[44]44
Набоков В. Д. Временное правительство // Архив русской революции. 1921. Т. 1.
[Закрыть] и Н. П. Карабчевского[45]45
Карабчевский Н. П. Что глаза мои видели. В 2 т. Берлин, 1921. Т. 2.
[Закрыть]. «И если Карабчевские и даже Набоковы, – отмечал Марголин, – могли настолько утерять правильное понимание и оценку всего происходящего и чувство меры и справедливости, если из-под их пера появились такие нелепые обвинения (Карабчевский) или такие неудачные выражения (Набоков), то нельзя в таком случае быть очень строгим к неосторожным словам, которые вырвались у Винниченко в самом начале, когда вопрос об участии евреев в большевизме еще не был и не мог еще быть основательно изучен и продуман»[46]46
Марголин А. Д. Указ. соч. С. 260.
[Закрыть]. Если нельзя быть «очень строгим к неосторожным словам» лидеров Украинской директории, при благосклонном попустительстве которой с декабря 1918 по декабрь 1919 г. произошли 439 еврейских погромов, когда погибли 16 706 человек[47]47
Ипполитов С. С. Деятельность Российского общества Красного Креста на территории Украины, Кубани и Крыма в 1918–1920 гг. // Новый исторический вестник. 2018. № 2. С. 160.
[Закрыть], то тем более не приходится говорить о строгости по отношению к повествованию Романова, не являвшегося антисемитом и принципиально осуждавшего еврейские погромы.
После прочтения воспоминаний старорежимного чиновника нельзя не признать истинности слов П. Б. Струве. Указав на то, что «обычное ходячее объяснение той катастрофы, которая именуется и впредь будет, вероятно, именоваться русской революцией», заключается, помимо прочего, в ссылке «на “режим” (“старый порядок” и т. п.)», в августе 1918 г. он писал: «Между тем один из замечательнейших и по практически-политической, и по теоретически-социологической поучительности и значительности уроков русской революции представляет открытие, в какой мере “режим” низвергнутой монархии, с одной стороны, был технически удовлетворителен, с другой – в какой мере самые недостатки этого режима коренились не в порядках и учреждениях, не в “бюрократии”, “полиции”, “самодержавии”, как гласили общепринятые объяснения, а в нравах народа или всей общественной среды, которые отчасти в известных границах даже сдерживались именно порядками и учреждениям. Революция, низвергшая “режим”, оголила и разнуздала гоголевскую Русь, обрядив ее в красный колпак, и Советская власть есть, по существу, николаевский городничий, возведенный в верховную власть великого государства. В революционную эпоху Хлестаков как бытовой символ из коллежского регистратора получил производство в особу первого класса, и “Ревизор” из комедии провинциальных нравов превратился в трагедию государственности. Гоголевско-щедринское обличие Великой русской революции есть непререкаемый исторический факт»[48]48
Струве П. Б. Указ. соч. С. 461.
[Закрыть].
В марте 1920 г. В. Ф. Романов эмигрировал из России в Югославию, где стал правительственным уполномоченным по устройству русских беженцев, председателем Белградского отдела и членом Окружного совета Русской беженской организации в этой гостеприимной стране[49]49
См. Приложение № 3.
[Закрыть]. Свои воспоминания он написал в 1922 г. Скончался Владимир Федорович от грудной жабы 26 апреля 1929 г. в Белграде в Топчидерской здравнице имени баронессы О. М. Врангель. Его прах покоится на Новом кладбище Белграда[50]50
Романов Владимир Федорович // Чуваков В. Н. Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–2001. В 6 т. Т. 6. Кн. 1. М., 2005. С. 263.
[Закрыть]. Жизненный путь старорежимного чиновника закончился. Но жизнь его воспоминаний, как читаемого текста, только начинается…
Считаю своим долгом выразить искреннюю благодарность А. В. Дыдычкину и Н. С. Петросян, которые более десяти лет назад абсолютно безвозмездно, в свободное от основной работы время, создали электронный вариант воспоминаний В. Ф. Романова, рецензентам И. В. Лукоянову и А. С. Пученкову и коллегам по Отделу Новой истории России СПбИИ РАН, высказавшим на его заседании ценные замечания при обсуждении подготовленной к изданию рукописи воспоминаний, и членам Ученого совета СПбИИ РАН, утвердившего рукопись воспоминаний к печати.
Шилов Д. Н.
Археографический экскурс
Мемуары Владимира Федоровича Романова «Старорежимный чиновник (из личных воспоминаний от школы до эмиграции, 1874–1920 гг.)» представляют собой машинопись с авторской правкой (477 листов). В настоящее время они находятся в Государственном архиве Российской Федерации (Ф. Р-5881 «Коллекция отдельных документов и мемуаров эмигрантов». Оп. 2. Д. 598).
Данный документ попал в ЦГАОР СССР[51]51
Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления. Так назывался ГАРФ до 1992 г.
[Закрыть] после окончания Второй мировой войны в числе документов, принадлежащих Русскому зарубежному архиву в Праге.
Русский зарубежный архив в Праге начал формироваться еще в 1923 г. из личных документов белоэмигрантов. В нем собирались и хранились документы и печатные издания, присылаемые русскими беженцами из всех стран (в том числе и из СССР). В итоге Пражский архив стал культурным институтом мирового значения благодаря усилиям многих тысяч наших соотечественников, политике Чехословацкого правительства, которое в 1921 г. начало проводить «Русскую акцию» – программу помощи русским эмигрантам, а также международным организациям и меценатам. При этом основная поддержка оказывалась не политическим, а научным и культурным деятелям, что предопределило превращение Праги в «русский Оксфорд»[52]52
Ковалев М. В. Научный быт русских историков-эмигрантов в Праге в 1920–1930-е годы: автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2009. С. 16–17.
[Закрыть]. Большинство русских эмигрантов воспринимало Прагу как научную столицу Зарубежной России.
Сюда в начале 1930-х гг. поступили материалы из Белграда (Югославия) от В. Ф. Романова[53]53
Русский заграничный исторический архив в Праге – документация. Каталог собраний документов, хранящихся в пражской Славянской библиотеке и в Государственном архиве Российской Федерации. Составители: Л. Бабка, А. Копршивова, Л. Петрушева. Прага, 2011. С. 125, 128.
[Закрыть]. В 1945 г. большая часть собраний бывшего отдела документов РЗИА была «передана в дар» СССР, где эти материалы долгие годы находились в режиме секретного хранения. О размере переданного архива говорит тот факт, что для его транспортировки потребовалось 680 больших ящиков, переправляемых в девяти железнодорожных вагонах[54]54
Там же. С. 19.
[Закрыть]. Так был сформирован фонд Р-5881 с целью создания коллекции документов, основу которой составляют автобиографии и воспоминания известных политических, общественных, военных деятелей, деятелей культуры и науки эмиграции. Здесь в 1978 г. в состав коллекции были включены малообъемные личные фонды, документы которых вошли во вторую опись фонда 5881 («Коллекция отдельных документов белоэмигрантов (1893–1939 гг.»). Среди них оказались и мемуары В. Ф. Романова. Сюда было включено 388 фондов (объемом не более 10–12 единиц хранения), существовавших ранее самостоятельно. В 1995 г. в состав коллекции была включена 3-я опись, состоящая из переданных в 1965 г. в Отдел хранения документов по истории Российской империи ЦГАОР СССР.
В настоящее время источник имеет жесткий переплет бордового цвета, на лицевой стороне корешка указание номера фонда, описи, дела: «Р-5881-2-598». Повторяется два раза: вверху и внизу. С обратной стороны переплета лист использования документов, в котором значится 8 фамилий с начала 1980-х гг.
Титульный лист, сразу после обложки, – неплотная шероховатая бумага розовато-бордового цвета. Если посмотреть на просвет – видны по всей поверхности водяные знаки округлой формы, напоминающие чешуйки. Вверху в центре написано чернилами: «Романов В. Ф.». В центре титульного листа также написано от руки чернилами: «Романов В. Ф. Старорежимный чиновник. (Из личных воспоминаний от школы до эмиграции, 1874–1920 гг.). Машинописный экземпляр». В правом нижнем углу также чернилами проставлена дата – «1922». В нижнем левом углу титульного листа, с некоторым смещением к центру – стоят три печати архива.
Первая снизу: Центральный государственный архив Октябрьской революции. Ф. № 6384. Оп. № 1, ед. хр. № 3. Вторая: Центральный государственный архив Октябрьской революции. Ф. № 5881. Оп. № 1, ед. хр. № 580. Третья: Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР. Ф. № 5881. Оп. № 2, ед. хр. № 598.
После титульного листа – оглавление. На оглавлении в верхнем левом углу печать: Русский заграничный архив, Прага № 8123 и дубликат – по-чешски. Такая же печать присутствует на листах 171 и 292 документа. Вверху листа с оглавлением красным карандашом выведена цифра «13» (неразборчиво написана единица), далее, скорее всего, номер ед. хр. – «№ 580», в правом верхнем углу – цифра 1, которая начинает отсчет листов. Оглавление занимает первые четыре листа.
После оглавления идет лист 5, с надписью от руки чернилами на французском и печатью внизу, датированный 21 марта (mars) 1931 г., Франция. Бумага достаточно плотная.
Лист 6 представляет собой напечатанный на машинке текст по-французски, датированный от руки 25 марта (mars) 1931 г. Бумага средней плотности, стандартная. В подписи угадывается фамилия «Романов» и имя. Возможно – «Алексей» или «Александр».
Лист 7 – письмо некоему Виктору Николаевичу от 2 апреля 1931 г. Бумага клетчатая, плотная.
Мемуары набраны на печатной машинке. Судя по тому, что иногда – неразборчиво, это может оказаться второй или даже третий экземпляр. Некоторые слова и буквы вбиты четко, явно – последующая правка и редактура. Начало глав напечатано не с новой страницы, в то время как начало частей – с новой. В правом верхнем углу дана нумерация красным карандашом. Начиная с 11 листа нумерация в правом верхнем углу идет простым, серым карандашом.
Мемуары напечатаны с одной стороны, на разного типа бумаге. Оглавление мемуаров, а также листы 307–321 и 335–477 – на тонких листах, похожих на кальку. Листы 322–334 напечатаны на листах типа кальки, но матовых, темноватых и шершавых, худшего качества, чем все предыдущие. Существует вставка – страница «254 а» (лист 265), текст на которой напечатан на боле плотной и глянцевой бумаге. Все остальные листы напечатаны на стандартной бумаге средней плотности, довольно хорошего качества. Ширина листа несколько отличается от стандартного А4 (короче примерно на 1 см), длина – на 5 см больше.
В тексте употребляются i, яти. Иногда отдельные буквы вписаны от руки. Иногда есть вставки на полях, карандашом от руки (лист 46). Иногда машинописные буквы перечеркнуты и исправления внесены карандашом (лист 82). Иногда добавлены машинописные слова (последующая вставка), над строчкой (листы 139, 164, 219 и др.) или строчки вымараны (замазаны) и поверх написанного – новая, более четкая надпись машинкой (листы 144, 159 и др.).
Существует машинописная нумерация вверху в центре. Начинается с цифры «2», т. к. на первой – начало первой части. Данная нумерация соответствует 12-му листу, обозначенному карандашом. Иногда машинописная нумерация пропущена и номер страницы вписан карандашом от руки (лист 74). Вставки по-французски вписаны чернилами от руки (листы 76, 201, 210, 225, 447 и др.)
На листе 441 – пятна от какого-то напитка, предположительно – кофе. Большой след от кружки и несколько капель. Последние 6–7 листов – с заломами, помяты. Края листов в некоторых местах потрепаны, однако общее состояние документа – удовлетворительное.
Отрывок из воспоминаний В. Ф. Романова, посвященный Амурской экспедиции 1910–1912 гг., был опубликован д. и. н. К. А. Соловьевым в сборнике мемуаров о П. А. Столыпине[55]55
Романов В. Ф. Историческая миссия на Дальнем Востоке // П. А. Столыпин глазами современников. М., 2008. С. 207–242.
[Закрыть].
Старорежимный чиновник (из личных воспоминаний от школы до эмиграции. 1874–1920 гг.)
Памяти дорогих друзей и сослуживцев, погибших во время смуты.

Предисловие
Чем более «углублялась русская революция», тем более нам – представителям «старого режима» становилась дороже, во всех мелочах, прежняя «Царская» Россия.
Излюбленным нашим занятием, в особенности вне родины, стало – вспоминать, рассказывать о прошлом, сопоставлять, сравнивать мирное время с пережитой и переживаемой смутой, а также – свое с чужим.
Из таких моих рассказов-воспоминаний составились настоящие записки, которым я дал название «Старорежимный чиновник», как принято теперь называть тех, кто служил во время Империи.
Так как я по своему воспитанию, образованию, служебным занятиям и знакомствам, наконец, даже по первоначально легкомысленному отношению к революционным событиям представляю из себя среднего, а следовательно, вполне типичного русского интеллигента-чиновника эпохи царя Николая II, то, мне кажется, мои личные, частью служебные, частью просто обывательские воспоминания могут дать будущему историку или романисту хотя и скромный, но не лишенный значения материал для характеристики качеств и быта русского служилого класса этой, величайшей в истории России, эпохи.
Современному же русскому обществу мои воспоминания напомнят о тех положительных качествах нашего царского чиновничества, которые несправедливо и предвзято замалчивались нашей литературой и прессой и ценность которых неизменна при всяком государственном строе.
Эти качества: любовь к человеку и сознательно-добросовестное исполнение принятых на себя обязанностей – особенно ценны теперь, когда на смену им пришли завистливая злоба, вспоенная началами классовой борьбы, и личная нажива, для которой все дозволено атеистическим миросозерцанием марксизма.
Вскрываемые мною недостатки русского чиновника, общие для большинства средней русской интеллигенции, не таковы, чтобы умалить достоинства. Недостатки эти: в отсутствии национальной школы с односторонним преобладанием в нашем воспитании мягких гуманитарных начал в ущерб холодному опыту и в неумении работать размеренно, без излишней впечатлительности, дисциплинированно, одним словом – по-немецки.
Устранить эти недостатки было бы, во всяком случае, легче, чем вновь обресть утерянные с 1917 года достоинства.
В. Романов
Часть I. Воспитание и образование
Глава 1. Дома и в гимназии (1874–1893 годы)Влияние бабушки и матери. Избалованность и мечтательность; беспорядочное чтение. Малорусский театральный кружок. Разлука с семьей и пансион Киевской 1-й гимназии; пребывание в ней с 1883 по 1893 год. Недостатки преподавания; формализм. Охлаждение к церкви; увлечение утопическими идеалами; безнравственные влияния. Речной спорт; друзья юности; культурно-национальное влияние киевских театров; опера Прянишникова и драма Соловцева. Наши театральные приключения и партийно-национальная борьба.
Родился я в Киеве 4 марта 1874 года. Этот город, начиная с самого его древнерусского названия, всю жизнь был для меня самым любимым и красивым городом в мире. Точно так же на всю жизнь сохранил я пристрастие к сосне, березе, пескам, болоту, груздям и рыжикам, дикой малине у лесных колодцев, т. к. такова скромная, но для меня родная природа Радомысльского уезда, Киевской губ[ернии], в котором находилось имение моей матери Гладышево, верстах в двадцати от городка Чернобыля на р[еке] Припяти, в этом имении прошли лучшие годы моего детства. На всю жизнь осталась у меня и любовь к степям Бессарабии, тоже потому, что в уездном городе Бендерах, где служил в акцизе1 мой отец, я провел несколько счастливых лет детства.
Главным источником моего детского счастья была моя бабушка Надежда Ивановна Волжина, с которой я в детстве почти не разлучался, а затем всю жизнь был в самых близких дружеских отношениях. Своими основными достоинствами и недостатками я главным образом обязан ей. Это была женщина, воспитанная еще в обстановке крепостного права, некогда с большими средствами, властная, очень много, но без всякого разбора и системы читавшая, представлявшая из себя как бы живой энциклопедический словарь; она не была счастлива в браке, несмотря на высокую образованность ее мужа; долго была духовно одинока и всю силу любви, весь смысл жизни вложила в меня, как старшего ее внука; она очень любила и брата моего и сестру, но все-таки обстоятельства так сложились, что я был к ней всегда сравнительно ближе других. Я чувствовал с первых сознательных дней моей жизни так сильно эту любовь, так воспринимал ее, как нечто необходимое для моей жизни, что, казалось, иначе и не мог бы жить. Когда мне было года три, я, помню, ходил за бабушкой по пятам, даже стоял часто возле уборной в ожидании ее выхода. Наказываем ею я никогда не был; я ясно инстинктивно сознавал силу моего значения для нее, сознавал, что я ее «любимец», но когда я злоупотреблял таким моим положением и огорчал ее чем-нибудь, высшим наказанием для меня, вероятно, гораздо более сильным, чем какая-нибудь порка, практиковавшаяся в некоторых семьях, было строгое выражение недовольства на лице бабушки, а в особенности признаки слез на ее глазах.
Я не педагог, но чувствую по себе, что любовь – одно из лучших действительных средств воспитания. Первое вполне сознательное чувство, которое проснулось во мне в раннем детстве под влиянием взаимной любви к бабушке – это какое-то особое преклонение перед старостью; я рассуждал чисто эгоистически так, встречаясь с чужими бабушкой или дедушкой: «У них, вероятно, есть тоже внук, такой, как я, которого они любят; значит, их надо любить, помочь им чем-нибудь, чтобы внуку их было хорошо». Из эгоистического чувства постепенно развивалось сознательное желание быть честным, полезным людям вообще. Практическая любовь ко мне бабушки, доставляемые этой любовью жизненные удобства воспитывали мое моральное «я» с несравненно большим успехом, чем ожидавшая меня в будущем холодная прописная мораль различных учителей Закона Божьего, классных наставников и т. п.
На всю жизнь запечатлелись в моей памяти такие два ничтожных мелких случая, повлиявшие на мою душу очень сильно.
Как-то в лесу, в нашем имении в жаркий день мы нашли кусты земляники или черники, я с братом набросились на них с жадностью – было жарко и хотелось пить; бабушка тоже собирала ягоды и затем отдала все их нам; я инстинктивно почувствовал, что ей приятнее видеть наше удовольствие, чем самой полакомиться ягодами; впервые тогда озарила меня мысль о красоте и смысле не чисто личного животного наслаждения; никакая литература, никакие проповеди в будущем так ярко, как этот простенький случай, не вскрывали передо мной значения альтруизма в жизни людей.
Другой случай – бабушка читала нам вслух какой-то старый английский роман. «Мистер Карлтон» (до сих пор помню фамилию героя и его наружность) и его приятель, отправляясь на прогулку в лес с дочерью местного помещика, обещают последней, что они не будут стрелять при ней; шутя, приятель Карлтона, увидя дичь, снимает ружье и прицеливается; Карлтон его останавливает, ссылаясь на данное обещание. Прочтя это место, бабушка остановилась, приподняла очки на лоб и строго сказала нам: «Вот, запомните, дети, когда вырастете – будьте так же честны в исполнении своих обещаний, как мистер Карлтон».
Под влиянием таких мелочей, которые могут для взрослых показаться совершенно ничтожными, и складываются детские души – но для успеха воспитателя нужна именно действительная большая любовь к воспитываемым и к людям вообще.
Читали я и брат без всякого разбор и наблюдения. У нас была большая библиотека; бабушка и мать, скучая в уездном городке – Бендерах, открыли библиотеку для общего платного пользования; обычно выдавала книги и давала советы подписчикам бабушка; впоследствии, лет через двадцать, будучи проездом в Бендерах, я слышал похвалу бабушке от одного местного старожила за эту ее деятельность. Пока бабушка была занята с подписчиками, я и брат вытягивали с полок разные книги и читали их наперегонки; к восьми годам я прочел уже очень много; вслух же бабушка читала нам различные страшные и поучительные романы, едва ли имевшие художественное значение. Историческая хроника Дюма, в особенности «Королева Марго»2, навсегда осталась моей любимой книгой; помню также, что при чтении некоторых мест «Графа Монте-Кристо»3 бабушка сама вытирала слезы на глазах.
Помню еще, что с самого раннего детства лица Пушкина и Лермонтова были для меня чем-то священным; я подолгу, раскрыв первую страницу их произведений, смотрел на их портреты и даже иногда целовал. Кроме художественной литературы, моей любимейшей книгой была и осталась таковой на всю жизнь «Зоология»4 Брема – но, будучи ребенком, я и к зоологии относился с точки зрения художественных настроений, с точки зрения мечты о далеких странах, зверях и птицах, наблюдательность же, настоящее опытное изучение природы от такого чтения во мне не развивались. Бабушкино чтение вообще развивало во мне область чувства, будило инстинкты героизма и душевной красоты, но не давало знаний, если не считать многих, но весьма отрывочных исторических и отчасти географических сведений. Это и программа классической гимназии, в которую я был определен в Киеве, предопределили мою судьбу и мои качества как человека, наряду с серьезной работой любившего всегда различные приключения, личную свободу, оригинальных людей, нелегко поддававшегося внешней дисциплине и более всего пригодного не к повседневной практической, а скорее теоретической кабинетной работе.
Романтическое, а не реальное настроение мое особенно ярко сказалось в любимой моей детской игре с братом: один из нас садился на качель, другой, бегая, раскачивал ее и называл себя именем какого-либо животного из сказки; напр[имер], я спрашиваю, кто пришел меня качать; брат отвечает: «Лисичка»; затем появлялся «медведь», «петушок» и т. д.; и вот наступал день, момент печали, какое-то инстинктивное угадывание преходящести всего земного и следующей за ним вечности; задавался вопрос: «Лисичка, ты еще придешь когда-нибудь?» Ответ: «Нет, никогда; это в последний раз я качаю тебя». Я помню, как после такого ответа сжималось сердце, делалось грустно, каждая секунда, проводимая с «лисичкой», казалась дорогой, и, наконец, – «лисичка, прощай, прощай навсегда». По правилам нашей игры попрощавшийся зверь не мог никогда уже более называться нами. Последнее «прощай» и затем – большая мировая печаль.
Из детского периода моей жизни в г. Бендерах особенно ярким событием является посещение мною впервые театра, произведшее на меня, конечно, потрясающее впечатление. Кружок местных любителей, преимущественно офицеров и их жен, поставил «Наталку-Полтавку»5; главные роли исполнялись М. К. Хлыстовой (Наталка), моей матерью (мать) и братьями Тобилевичами; кружок этот по приглашению знаменитого Кропивницкого впоследствии преобразовался в профессиональную труппу; в нее не пошла только моя мать, несмотря не все ее стремление на сцену (у нее был прекрасный голос и большие артистические способности), т[ак] к[ак] этого не пожелал, кажется, мой отец. Кружок дал мощное развитие малорусской драме; он состоял из первоклассных талантов: М. К. Хлыстова, рожд[енная] Адасовская, двоюродная сестра моей матери, прославилась под фамилией Заньковецкой (взятой от названия ее хутора «Заньки»), братья Тобилевичи на сцене приняли фамилии Садовского, Саксаганского и Карпенко-Карого, сделавшиеся гордостью малорусской сцены.
Моя мать, помимо сценических и вокальных способностей, в украинских кругах приобрела имя как поэтесса («Одарка Романова»). Знатоки языка весьма ценили всегда ее чистый, без галицийской полонизации и немецкого производства недостающих слов, язык Черниговщины и Полтавщины, а также ее удивительно музыкальный стих. Думаю, что в украинской литературе некоторые из ее стихотворений будут всегда помещаться в школьных хрестоматиях, в качестве образцовых, а народные легенды (напр[имер], «Сватанье мороза») в звучных стихах сохранятся в народе в обработанном их виде. Мать сравнительно с бабушкой меньше занималась нами, но влияние ее на нас тоже было исключительно «романтического», а не реально-материалистического порядка, она привила нам с ранних лет любовь к поэзии и музыке. К чести ее надо отнести, что в ней не было гадкого украинского фанатизма; Пушкина, а не Шевченко, прежде всего она научила нас любить, а от Пушкина – вся моя неискоренимая никакими событиями любовь к России вообще, а не к какой-либо отдельной ее части. По словам матери, первая фраза, которую она от меня услышала после долгой разлуки (я жил с бабушкой под Киевом), была сказана мною по-украински. Мать поздоровалась со мною и сразу за что-то сделала мне какое-то замечание; я обиделся, т[ак] к[ак] никаких замечаний не выносил вообще, и сердито ей заявил: «А я тоби горобчика не спиймаю». Курьезно, что я за всю вообще жизнь не поймал ни одного воробья; значит, уже в три года у меня развилось какое-то самомнение, в стиле «Трех мушкетеров» Дюма6, ни на чем не основанная «спесь», как впоследствии прозвала меня одна девочка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?