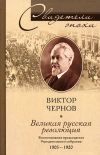Автор книги: Владимир Романов
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 75 страниц) [доступный отрывок для чтения: 24 страниц]
И вот, несмотря на то, что украинский язык, в сущности, был для меня родным, я почти без акцента владел русским языком, очень всегда его любил и тонко понимал; никогда не пришло бы мне в голову заговорить на киевском волапюке7 «я скучаю за тобой» и т. п. Будучи взрослым, живя преимущественно в Петербурге, я, к сожалению, забыл малорусский язык, хотя все, конечно, понимал на нем, напр[имер], посещая малорусскую драму. Я говорю «к сожалению», т[ак] к[ак], по моему убеждению, музыкальная малорусская речь если и не может и не должна являться конкурентом великого русского языка, то во всяком случае имеет все права гражданства, при сравнении, напр[имер], с южнославянскими наречиями, в особенности для красочного изображения народного быта.
От матери, которая юные годы провела в консерватории в Москве8, я впервые услышал о Чайковском и московском его ученике Сергее Танееве; тогда только что появился «Евгений Онегин»9, мама с бабушкой играли в четыре руки, я ничего не понимал, но уважал Чайковского, как учителя матери; по ее рассказам он рисовался мне изящным, томным молодым человеком, с женственными задумчивыми серыми глазами, нюхающим постоянно в классе какую-то соль или духи; Танеев – сверстник матери, был конфузлив, диковат, задумчив; его очень любил Чайковский. Я как бы предчувствовал в детстве, чем, какими лучшими наслаждениями в жизни я буду обязан музыке вообще, а в частности двум названным композиторам, таким близким мне, каким-то как будто родным, по рассказам матери, с ранних детских лет; тогда же фамилия «Глинки» была окружена уже в моих глазах тем же ореолом, как Пушкин. Это все – влияние матери.
Странно, что при всем этом я был в детстве удивительно немузыкален, не имел слуха, впрочем, никогда его и не развил, в смысле возможности что-либо правильно спеть, хотя бы «Чижика», пения терпеть не мог вообще, особенно женского, лет до двенадцати; впоследствии, увлекаясь оперой и симфоническими концертами, прекрасно разбирался в достоинствах капельмейстера, оркестра (слышал фальшь), певцов; быстро, с первого раза часто усваивал красоты сложных произведений, не выносил пошлости (напр[имер], многое из Массене), научился без принуждения играть на рояле, часто слышал от понимающих музыку, что хотя у меня и нет техники, но видны большие музыкальные способности.
Оперы и в этом роде сравнительно доступные вещи я легко всегда играл à livre ouvert[56]56
«С листа», «без подготовки» (фр.). Французский текст вписан от руки.
[Закрыть]. Рояль дал мне очень много в жизни, несмотря на дилетантизм моего исполнения; он заполнял часы моего досуга и усталости, а главное, спас меня от карточной игры.
Итак, детские годы мои прошли под влиянием женщин и искусства. Отношения мои с отцом были всегда проникнуты взаимной любовью, но ближе сошелся я с ним уже в более зрелом возрасте. Он всегда очень любил игру в карты, которые я ненавидел, но за всю жизнь выпил, вероятно, не более двух рюмок водки; вина он не выносил органически. Я в этом отношении не пошел в отца; насколько он ненавидел вино, настолько я увлекался часто спиртными напитками. Я любил их и во вкусовом отношении, и за то приподнятое поэтическое настроение, которое они, при моем уклонении в сторону романтизма, давали мне во время трапез с друзьями.
В 1883 году я был определен в пансион классической Киевской 1-й гимназии, впоследствии по поводу столетия получившей название Императорской Александровской, в память императора Александра I10. Гимназия эта занимала тогда всю роскошную усадьбу, выходившую на четыре улицы, с огромным садом, окаймленным высокими тополями. Фасад громадного здания гимназии, так называемой николаевской постройки, отличающейся всегда мощной красотой, выходил на одну из красивейших улиц Киева – Бибиковский бульвар11. Напротив гимназии в восьмидесятых годах был пустырь, частью обработанный под огороды; впоследствии здесь был разбит красивый большой сквер – Николаевский, в центре его с памятником императору Николаю I12, обращенному лицом к великолепной красной громаде здания университета13.
Одним словом, и тогда, и теперь – это одно из живописнейших мест Киева.
Бесконечный главный коридор гимназии, полутемный коридор со сводами верхнего этажа, где помещался гардероб пансиона, общие дортуары на 50 человек, выстроенные рядом кровати с одинаковыми на каждой одеялами, комната для занятий с рядом мрачных парт, с двумя всего свечами на каждой для шести учеников, вообще казенный холодный вид всего здания – все это произвело на мои нервы потрясающее впечатление, и я долго тосковал по домашнему уюту и бабушкиным ласкам; как только наступала ночь и вообще там, где меня не могли видеть, – я неистово плакал. Прощаясь с бабушкой, я бодрился, ибо был самолюбив, но как теперь помню то ощущение, когда она меня в воротах громадного сада поцеловала в последний раз, и я внешне бодро зашагал по дорожке сада к группе гимназистов. Это – ощущение перелома в жизни, сознание, что нечто очень хорошее осталось позади и началось что-то неизвестное новое и, может быть, печальное. Второй раз я испытал то же самое по окончании университета14 и поступлении на службу и – в последний раз, наконец, когда понял, что личная жизнь кончена, т. к. почти все близкие друзья мои уничтожены большевиками, и жить, как прежде, больше не придется15.
Я знал, что над новичками издеваются и бьют, но настолько не допускал мысли, что меня кто-нибудь мог бы ударить, меня, который был уверен, что я всем должен нравиться (мальчиком я был очень красив и знал это), и который сам хотел всех любить, ибо так мне было внушено бабушкой, что действительно я ни разу не явился в пансионе предметом каких бы то ни было шуток, но сразу стал почти общим любимцем. Тут я впервые понял, что сила – действительно внутри нас.
Я был очень живой и остроумный мальчик, что ставило меня всегда во главе различных игр и шалостей; такое мое положение все более развивало во мне самолюбие и самоуверенность, укрепившиеся во мне на всю жизнь и часто портившие мои отношения с людьми, а главное – в связи с романтическим воспитанием – явившиеся плохой подготовкой к стоическому отношению к жизненным противоречиям.
Во второй год пребывания моего в пансионе моему самолюбию дана была особенно благоприятная почва. Во-первых, я на латинском языке сочинил басню под названием, кажется, «Лисица и волк». Басня эта привела в восторг нашего учителя латинского языка и воспитателя пансиона добрейшего чеха А. О. Поспишиля и читалась массой гимназистов; я решил, что я – будущая литературная знаменитость. Во-вторых: у нас сформировался любительский цирк, дававший свои представления в саду; я получил в нем амплуа клоуна, и каждое мое выступление сопровождалось смехом, овациями, забрасыванием меня конфектами. Это окончательно вскружило мне голову. В цирке был оркестр на гребешках, гимнасты, наездники (гимназист ездил на гимназисте), дрессированные лошади и осел, обязанности которого выполнял именно самый глупый из наших сверстников. Мы все несомненно переживали в цирке подлинные ощущения артистов.
Представления наши закончились инспекторским разгромом цирка; вызвана кара была тем, что мы стянули из пансионского гардероба и, кажется, попортили много казенного добра (одеял, простынь и т. п.); труппа в разгар представления была арестована педелями («дядьки» в пансионе) и приведена в цирковых костюмах под гримом (я напудренный и с красным носом) к инспектору на расправу. Строгий, но добрый и чуткий инспектор К. Н. Воскресенский вызывал нас поочередно, расспрашивая каждого о роли в цирке; рассмеялся, когда явился перед ним «осел»; очевидно, оценил нашу детскую наблюдательность. К высшей мере наказания был присужден директор цирка С-о, который, по слухам, впоследствии действительно поступил в настоящий цирк. «Директору цирка отвести, конечно, отдельный кабинет», – сказал Воскресенский, и С. был посажен в карцер за решетку. Остальные подверглись заключению в классах на свободное от занятий время. Я отсиживал, кажется, с перерывами несколько дней; помню, что наказание мне было продлено за то, что я использовал ящик («пюпитр») парты перед выходом из заточения в качестве уборной.
Справедливость или произвольность, а в особенности глупость наказания инстинктивно верно определяется детьми. Воскресенский понимал хорошо детскую душу и индивидуальность каждого пансионера; потому его строгость не вызывала ни ропота, ни насмешек.
В области различных мер наказания припоминаю следующие наиболее характерные случаи.
Я очень любил есть всегда, в детстве в особенности. Мой аппетит возбуждался даже такими словами сказки: «Петушок, золотой гребешок, масляная головушка». Бабушка всю жизнь вела со мною борьбу, даже тогда, когда я был уже взрослым, по поводу моих излишеств в пище. Дневник мой гимназический пестрит такими записями: «1-го съел три десятка слив, 2-го принимал касторку и не был на уроках» и т. д. Пансионский стол по сравнению с домашним был не только мало вкусен, но и недостаточен; первая половина дня была обставлена в этом отношении еще удовлетворительно: в 7½ ч[асов] или в 8 ч[асов] утра стакан чая с пятикопеечной булкой; в 12 ч[асов] завтрак из одного мясного блюда и в 3 ч[аса] дня обед из трех блюд; после этого перерыв до 7½ ч[асов] вечера, когда полагался только один стакан чая с булкой. К пяти-шести часам вечера большинство начинало ощущать голод, и за чаем особенно хотелось съесть что-нибудь более существенное, чем одна булка. Мы обычно брали за обедом в карманы по несколько кусков черного хлеба с солью, который и съедали, запивая водой, часов в пять вечера. К чаю же можно было покупать на свои деньги кусочек сыра или колбасы, либо стакан молока. Денег на руки нам (малышам) не давалось (они хранились у инспектора), кроме 15 коп[еек] в неделю на мелкие расходы (напр[имер], на зубной порошок, мыло, ибо казенное почти не мылилось и т. п.). На расходы же по буфету в столовой вместо денег выдавалась подписанная инспектором записка на право забора закусок на один рубль, причем буфетчик Антон обязан был следить за тем, чтобы гимназисты не покупали у него слишком много; он исполнял строго и добросовестно это требование, у него приходилось просто вымаливать каждый кусочек колбасы или сыра, за что он прозывался «ярыгой», т[о] е[сть] скупцом. Меня сравнительно Антон-Ярыга баловал, и записка моя на буфет использовалась сравнительно быстро, но тогда К. Н. Воскресенский задерживал на несколько дней выдачу следующей записки, и я усиленно налегал на черный хлеб. В один прекрасный день «директор» цирка показал мне, какого искусства достиг он в подражании подписи Воскресенского и предложил мне за угощение выдать буфетную записку; я, конечно, согласился, ибо ничего предосудительного в этом не видел, знал, что буфетчик за каждую записку, представленную им инспектору, получает расчет из денег, внесенных моей бабушкой на мои мелкие расходы. Очевидно, однако, что инспектор вел учет всех подписываемых им буфетных записок, т[ак] к[ак] проделка наша была скоро обнаружена; С. понес какое-то тяжкое наказание, а впоследствии был исключен из гимназии, я же долго ждал наказания и переживал неприятные дни в этом ожидании; дождался его в такой форме: как-то, встретив меня в коридоре, Воскресенский строго погрозил мне пальцем и сказал: «Обо всем узнает бабушка»; это для меня было хуже карцера, ибо я понял ясно, что сделал что-то очень скверное. Вдумчивый педагог правильно учел мою психологию и нравственное значение для меня бабушки.
Другой случай наказания: я в церкви во время обедни ударил шутя одного пансионера по лицу; меня вызвали в алтарь, где мне было предложено положить сто поклонов; карцер или лишение отпуска за такой проступок были бы для меня тяжелее, но моральное значение наказания было сильное.
Глупому наказанию я подвергся за такой проступок: наловив в саду несколько десятков лягушек, я часть их посадил в ящик парты одного из моих товарищей – вызывавшего постоянные насмешки своей «растяпостью»; когда он сел за занятия и полез в ящик за книгами, лягушки начали выпрыгивать из ящика; это привело «растяпу» в неописуемый и беспомощный ужас. По выяснении виновного, воспитатель заставил меня перенести всех лягушек под «часы» – большие стенные часы в коридоре, под которыми отбывалось наказание провинившимися «стоять на часах»; мне было предложено очертить мелом круг на полу, в пределах этого круга разместить лягушек и сторожить всю ночь, чтобы лягушки не выпрыгивали за пределы круга; я через некоторое время выкинул всех лягушек в окно в сад, а сам ушел спать.
В общем, сидеть в заточении мне приходилось довольно часто.
В гимназии я провел десять лет, начиная с приготовительного класса и включая двухлетнее сидение в пятом классе; три года я был в пансионе, а остальное время «приходящим», т[ак] к[ак] дела родителей моих пошатнулись, они переехали в Киев, имение было продано, и года четыре нам пришлось терпеть сильную материальную нужду включительно до недоедания и холода в квартире по недостатку дров.
В пансионе большинство жило единственной мечтой – надеждой поскорее дождаться праздничных или летних каникул.
Я усердно и радостно вычеркивал на календаре каждый прожитой до Рождественных (sic!) праздников день; ничего я так не любил в то время, как утренние причитания нашего старого дядьки Ивана, по прозванию «ябеды»: «Вставайте, вставайте, Рождество уже на веревке висит», это было в ноябре; в конце месяца Рождество висело уже «на веревочке»; в начале декабря «на ниточке»; а к двадцатым числам декабря «на паутинке»; в день же отпуска «паутинка рвалась», и тут добродушному Ивану не приходилось уже долго будить нас. Появлялась моя бабушка и тетка моего друга с детских лет В. И. Ф-ко, мы раздавали рубли нашим дядькам и весело разъезжались по домам.
Летние каникулы я проводил в нашем имении, а после продажи его – на пригородной даче бабушки у Китаевского монастыря16.
Здесь обычно я жил и на Рождество, и на Пасху (двухнедельные каникулы).
В Китаеве, о котором я расскажу подробно ниже, особенно любил я Пасхальные каникулы; большего впечатления, чем в старых Китаевских монастырях, Страсти и Пасхальная заутреня никогда нигде на меня не производили, несмотря на скромную обстановку и плохой монашеский хор; старец игумен, старцы иеромонахи, старцы диаконы, каждый по-своему делающие возгласы, оживленные праздником, с которым у каждого в далеком домонастырском прошлом связаны многие дорогие воспоминания, приветливо-радостное обращение их к молящимся со словами «Христос Воскресе!» и поспешный ответ мужиков и баб «Воистину воскресе!», с ударением на последнем слоге, затем возвращение домой лесом уже после ранней обедни, на восходе солнца, когда ночные крики пугачей вокруг монастыря заменяются перекликанием иволг и синиц, затем угощение пасхами, куличами и бабами, в изготовлении которых я и брат любили принимать всегда живое участие, – в се это не может быть никогда забыто.
Каникулы были действительно заслуженным нами отдыхом, т[ак] к[ак] гимназическим занятиям отдавалось в общем очень много времени: от 9 до 2½ ч[асов] дня (пять уроков) и часа два-три домашнего приготовления уроков или, по крайней мере, формального сидения за таковыми. Что же давали нам эти, посвященные непосредственно гимназии, занятия?
Подавляющее большинство моих учителей, когда о них вспоминаешь в перспективе далекого прошлого, были, несомненно, люди весьма порядочные, за скромное вознаграждение добросовестно исполнявшие возложенные на них обязанности, люди большой доброты и сердечности, но самая система преподавания не могла нас увлечь, заставить полюбить науку, а главное, дать нам сознание ее действительной необходимости. Уроки задавались от сих пор до сих пор, чрезвычайно редко урок посвящался какому-либо обобщающему чтению, живому рассказу, который поставил бы в связь разрозненно зазубренные сведения, дал бы из них интересные выводы; обычно весь урок сводился к спрашиванию выученного на сегодня, причем по большей части заранее можно было высчитать, когда дойдет до тебя очередь; уроки поэтому часто учились с пропусками нескольких предыдущих, что еще более лишало смысла и интереса изучаемый предмет. За десятилетнее мое пребывание в гимназии я помню только несколько единичных уроков, которые заинтересовали и остались в памяти.
В первом классе это были художественно-образные рассказы из ветхозаветной истории священника отца Илии Экземплярского; его манера говорить, красота жестов и удивительно приятный по тембру голос невольно приковывал внимание к каждому его рассказу; приняв монашество, он стал викарным (Чигиринским) епископом Киевской митрополии под именем Иеронима, а умер в сане архиепископа Варшавского; все возгласы он пел сильным красивым тенором, и более красивой службы после него я ни разу не видел. «Призри с небеси, Боже, и виждь и утверди виноград сей, его же насади десница Твоя», – иногда закроешь глаза и перед мысленным взором встает величественная фигура этого архиерея с лицом Святителя Николая Чудотворца и слышится в душу идущий, исключительный по красоте голос его.
В пятом классе гимназии наш учитель латинского языка Т. И. Косоногов перед чтением Овидия дал нам очень красочную характеристику Аякса и Одиссея, оспаривающих право на меч погибшего Ахиллеса17; Аякс простой, откровенный, неискушенный в красноречии и дипломатическом искусстве храбрец-воин, а Одиссей – умный, хитрый, красноречивый. Аякс грубо и просто перечисляет свои заслуги при взятии Трои. Одиссей же с ложной скромностью отдает должное Аяксу, умаляет свои собственные заслуги и лишь постепенно осторожно приводит слушателей к неоспоримому сознанию, что не будь Одиссея – не пала бы и Троя; меч присуждается ему; Аякс убивает себя, из крови его вырастает нарцисс. Этот один из многих красивейших шедевров Овидия заинтересовал нас в целом, возбудил желание прочесть его до конца только потому, что мы были до приступа к чтению ознакомлены с его содержанием, заинтересованы характеристикой, типом двух речей. А ведь все остальное, что мы читали и бессмысленно дословно переводили на русский язык, – давалось в виде бессвязных отрывков, в строк 20–25 каждый; художественная физиономия автора, его значение и особенности, полное содержание произведения оставались неизвестными; все в сущности сводилось к механическому переводу отдельных предложений; еще, конечно, глупее были переводы с русского языка на латинский или греческий; грамматика преобладала над смыслом и красотой классиков. Между тем оба древних языка были главнейшим предметом; неуспехи в них закрывали возможность получения аттестата зрелости; не выдерживавшие скуки, иногда способные мальчики уходили в юнкерское училище18. Сам я совершенно случайно избег той же участи. Уже в четвертом классе я был плох по языкам, в пятом же, когда за письменную работу получал единицу с плюсом, учитель объявлял торжественно, что «Романов поправляется». Мне назначена была после экзаменов «повторка» по греческому и «передержка» (после каникул) по латинскому языку. Я обозлился, взял себя в руки и, приехав на дачу в Китаев, прочел сразу полностью всю грамматику несколько раз и всего Юлия Цезаря, и вдруг мне стал ясен дух, строй латинского языка; в две недели я стал понимать, а главное, чувствовать его лучше, чем за пять лет гимназического обучения; не хватало только слов, но и они приходили по мере чтения, не по 20 строк, а сразу по 20–40 страниц. С этого лета я без помощи учителей понял высокую красоту латинского языка, красоту Овидия, Горация и проч., и стал выдающимся в гимназии «классиком». Но как ни курьезно, на передержке я получил единицу, потому ли, что еще не был уверен в себе, потому ли, что учителя были предубеждены против меня, как самого скверного в классе латиниста. Такова случайность экзаменов! Невероятно был изумлен новый мой учитель-классик И. А. Григорович, экзаменовавший меня на передержке, когда за первую же письменную работу по латинскому языку ему пришлось поставить мне пять – урок был написан без ошибки. Греческий язык уже среди учебного года я изучил по той же «моей системе», как и латинский (сразу чтение всей грамматики и всего Гомера), и с тех пор по обоим языкам имел только высшие отметки. К старшим классам гимназии я достиг такого совершенства в знании древних языков, что к урокам почти не должен был готовиться: читал классические произведения[57]57
Далее оставлено свободное место на четверть строки.
[Закрыть] и писал почти безошибочно. Робкий, конфузливый добряк-чех И. А. Григорович, часто подвергавшийся мальчишеским насмешкам за его смешной чешский выговор и чрезмерную застенчивость, избегал меня «вызывать», делал это только для «проформы», чтобы хотя раз в месяц в журнале против моей фамилии стояла соответственная отметка; он чувствовал мое превосходство; перед вызовом меня как-то нерешительно долго разглаживал классный журнал и затем, краснея, тихо произносил мою фамилию. Он требовал не литературного, а буквального, без пропусков перевода каждого отдельного слова; отсюда получались такие дикие фразы: «Он де, мол, не не любил», «Она шла, неся на коленях ребенка» и т. п.; такие переводы и заунывный голос учителя, произносившего русские слова как-то однообразно нараспев по-чешски, наводили безумное уныние на учащихся и возбуждали в них только ненависть к классицизму.
Между тем я, усовершенствовавшись в языках, быстро постиг, что остальными предметами могу не заниматься, ибо мой классицизм обеспечивает мне удовлетворительную отметку – тройку по всем предметам, как бы плохо я ни знал их. Спокойный всегда учитель-математик – любимец гимназистов И. И. Чирьев, возвращая мне тетрадку с нерешенной задачей по алгебре или геометрии, приговаривал часто с легким упреком: «У Вас, Романов, если и были когда-либо какие-либо знания по математике, то они давно уже исчезли», а другой математик – вспыльчивый, но тоже общий любимец С. К. Ильяшенко, сознавая невозможность бороться с засильем классиков, объявлял, что тройка мне выводится в четверти только «за чересчур уж хорошее знание языков».
При таких условиях я к восьмому классу гимназии не имел почти никакого представления об алгебре, но, как ни странно, добровольно в две недели залпом, так сказать, прошел с моим другом Володей Ковалевским курс тригонометрии и великолепно усвоил этот предмет, даже полюбил его: Ковалевский умел объяснить основы, сущность тригонометрии во всем ее целом виде, а не поурочно, заинтересовать ее логичностью и красотою фигурного рисунка.
Наиболее привлекала внимание врагов «классицизма» физика; единственный предмет, преподавание которого сопровождалось опытами в специальном физическом кабинете. Увы, я не могу вспомнить ни одного удачного интересного опыта, скучал я в физическом кабинете беспросветно, за все мое пребывание в гимназии был вызван один раз, получил единицу и в дальнейшем, как классик, был оставлен в покое; по этому предмету я абсолютно ничего не знал. Ни естественной истории, ни начал анатомии и физиологии в мое время в гимназии не преподавалось – в этом отношении мы, получив «среднее» образование, оставались круглыми невеждами.
География изучалась только до пятого класса гимназии и, кажется, повторялась в восьмом. Бессмысленное заучивание ничего не говорящих ни уму, ни воображению названий, сведений о том, что в Греции водятся козы, а где-то больше всего лошадей и т. д.; родины, ее величайших богатств, мирового значения ее колоний – Сибири с Приамурьем, Туркестана и проч. мы не знали; этому предпочиталось зазубривание названий губерний, рек, без общего плана, связи, одухотворенного сознания величия России, ознакомления с ее экономическими возможностями. Когда я прочел случайно несколько лет тому назад учебник географии, составленный моим товарищем по гимназии В. В. Кистяковским19, я позавидовал нынешней молодежи; она действительно изучала свое отечество, а не голые названия и цифры. А между тем и у нас был знающий учитель географии – маленький, с бородой Черномора старичок Н. Т. Черкунов; он много путешествовал, многое лично наблюдал, собрал на свои скромные средства порядочную естественно-географическую коллекцию, которую завещал нашей гимназии; у него были немногие «любимчики», которых он приглашал к себе, демонстрировал им различные предметы своей коллекции, давал интересные объяснения, а главное, устраивал игры в «железную дорогу» по географическим картам, что гораздо лучше, чем сухой учебник, способствовало запоминанию учениками различных городов, гор, рек и т. п. На уроках же в гимназии единственно что было живого – это, пожалуй, различные веселые анекдоты из жизни экзотических народов, а в особенности китайцев. Я к числу любимцев не принадлежал, а потому и географические мои знания в гимназии были немногим больше физико-математических.
По истории в памяти моей остались несколько не уроков, а настоящих лекций учителя, впоследствии профессора Киевского университета П. В. Голубовского о континентальной системе Наполеона20; вдруг, после бессмысленных описаний браков разных королей со всегда «прекрасными» королевами, после сухих хронологических цифр, была дана ясная, обобщенная, с объяснением причин и следствий, картина определенной исторической эпохи; стало сразу ясно, что без знания прошлого нельзя постигать настоящего, т[о] е[сть] было разъяснено самое главное – значение и необходимость читаемой науки. И это было один раз всего за весь гимназический курс. Наш учитель истории – до старших классов гимназии, директор ее А. Ф. Андрияшев занимал эту должность чуть ли не 50 лет; это был очень важный, почтенный старец, которого за две звезды на виц-мундире, большой живот и властно-хриплый голос я считал самым главным гимназическим начальством, выше попечителя округа. Обычная его резолюция была, когда до него доходило дело о какой-нибудь провинности гимназиста: «На 24 часа в карцер». Произносилось это с важностью, но вместе с тем без всякой злобы, со старческой добротой; вот, мол, как напугал виновного. Он пользовался как общественный деятель большой известностью в Киеве: издавал ежегодный календарь, работал в Обществе попечения о слепых и почему-то славился трудами по пчеловодству. По неизвестной нам причине он прозывался «Аписом», так дошло это прозвище к нам из глубины веков.
Представить себе 1-ю гимназию без Аписа было невозможно, а потому когда он был уволен в отставку, кажется, в 1890 году, и на его место был назначен более современный педагог математик И. В. Посадский-Духовской, стало как-то первое время грустно; особенно за утренней общей молитвой в актовом зале недоставало величественной фигуры прежнего директора, неизменно при звуках «Спаси, Господи, люди Твоя» начинавшего вытирать слезы на своих ласковых глазах, а при словах «Императору Александру Александровичу» плакавшего иногда настоящим образом; ведь он в тех же стенах слышал моление о победе «Николаю Павловичу». Так вот этот самый старый директор важным сиплым голосом не рассказывал, а вещал нам о Трое, Египте, в частности об Аписе действительно почему-то с особыми подробностями и чувством, о сиракузских тиранах и проч. и проч. Все это без связи между собой, но для оживления урока большей частью с указаниями всех исторических мест на карте; при этом широкой ладонью он обыкновенно закрывал какое-либо место на карте и спрашивал весь класс: «Что я закрыл?»; один кричал: «Афины», другой: «Фивы», третий: «Спарту» и т. д. Всеми ответами он был удовлетворен, по-генеральски с кашлем хохотал и отвечал с удовольствием каждому крикуну: «Верно, верно».
Новые языки преподавались так, что тот, кто знал их дома, обычно забывал или, во всяком случае, лишался правильного произношения под влиянием невероятного, без поправок учителя чтения разнообразно, каждый по своему, произносивших иностранные слова учеников: напр[имер], большинство не выговаривало французского носового «н»; слово «un»[58]58
Здесь и далее иностранное слово вписано от руки.
[Закрыть] одни читали «ан», другие «эн», а третьи «он» и т. п., и только меньшинство произносило «un», и т. д. в том же роде.
Опять-таки и в преподавании новых языков требовались главным образом сухие грамматические знания, зазубрение различных правил и исключений, сопровождаемое скучным чтением бессвязных отрывков. Обязательным был один язык: французский или немецкий, и большинство, чтобы избежать излишней скуки, предпочитало иметь свободный час вместо занятий обоими языками. Поэтому я по окончании гимназии понятия не имел о немецком языке, даже не мог прочесть слова, написанного готическим алфавитом, и вынужден был заняться этим важным для всякого культурного человека языком уже будучи взрослым, с большими усилиями, но с малыми успехами. Французским языком я занимался самостоятельно дома, еще будучи в гимназии, иначе и его я знал бы слабо.
Учителя французского и немецкого языка вследствие их комичного русского выговора были, как всегда, источником большого веселья и шуток со стороны гимназистов, хотя ввиду их порядочности и доброты как француз Метро, так и немец Г. Р. Бергман (по образованию богослов) были всеми очень любимы. Особенность Метро представляла его крайняя вспыльчивость и чрезвычайно громкий, несмотря на сиплость, голос. Сипел он особенно сильно, как стало нам известно, всегда после посещения оперетки «Прекрасная Елена»21 – его любимейшей пьесы. Он имел привычку вызывать по алфавиту к кафедре сразу по 6–10 учеников и спрашивал у них урок у всех сразу; как теперь помню выкрикивание им: «Булах, Гагаринских обои, Радченко, Руманов и т. д.»; обычно поднимал страшный крик, когда ни один из спрашиваемых не знал какого-нибудь слова; молчание он считал признаком крайней невоспитанности: «Ти невежа, мужик и тот отвечает, когда его спрашивают, а ти молчишь и молчишь». Если случалось ученику перепутать построение фразы, Метро неизменно приводил свой излюбленный пример: «Когда ти слышал, чтобы сначала убивали, потом дрались и потом ссорились; всегда сначала бывает ссорэ, потом дракэ и, наконец, убивство». Когда Метро умер, мы все были очень опечалены, и его место занял молодой изящный и хорошо воспитанный обрусевший француз Регаме; он вел уроки интереснее, но, к сожалению, с теми же, указанными мною выше, учебными недостатками, живого знания языка, выговора он не давал.
Немец Бергман, благодаря его добродушию, подвергался усиленному вышучиванию, порою доходившему до грубости, за которую, впрочем, и он отплачивал ученикам фамильярной грубостью, без всякой взаимной обиды. Комик Ваня Колоколов любил, например, вести с Б[ергманом] разговор в таком духе: «Густав Ричардович, разрешите один вопрос». – «Ну что там тебе такое?» – «Отчего, скажите пожалуйста, ваш брат такой знаменитый, умный человек, а вы…». Брат Б[ергмана] был известный хирург, переехавший из Юрьева в Берлин, когда началось обрусение б[ывшего] Дерптского университета22. Б[ергман], краснея, кричал на К[олоколова]: «Ну вже, балван, садись». Тогда К[олоколов] обиженно добавлял: «За что вы сердитесь, вы же не дали мне кончить; я хотел сказать: а вы еще умнее». Бергман улыбался и уже добрее говорил: «Ну вже, садись, садись, дурак». Иногда Колоколов и К° при входе Б[ергмана] в класс озабоченно и с любопытством посматривали на потолок. Постепенно заинтересовывался и он, хотя и предчувствовал обычную шутку; посматривал на потолок мельком, затем вставал и смотрел пристально. «Ну вже, что там такое нашли?»; ответ был всегда унылым разочарованным тоном, с трагическим вздохом Колоколова: «Ничего». Раздавалось звучное «дураки», и инцидент кончался. Моего друга Ваню Богданова, впоследствии известного инженера путей сообщения – строителя, Бергман вызывал всегда так: «Ну вже, ты, Иван-болван, отвечай», а т[ак] к[ак] он в немецком не был силен, то учитель предсказывал ему самое мрачное будущее, говоря, напр[имер]: «Слушай, Иван, из таких как Штильман выходят профессора, а из таких как ты… сицилисты». Положение социалиста представлялось справедливо Бергману самым мрачным в жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?