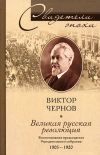Автор книги: Владимир Романов
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 75 страниц) [доступный отрывок для чтения: 24 страниц]
При Иваницком дело приняло уже иное государственно-правовое направление; предварительная разработка его была поручена Н. И. Туган-Барановскому, а затем выработанный законопроект был внесен на рассмотрение междуведомственного совещания44. К участию в этой работе Н. И. пригласил меня.
В основу законопроекта были положены нами такие общие соображения: 1) законодательные правила судоходства и сплава должны заключать в себе исключительно общие нормы, совершенно не касаясь изменчивых технических подробностей, опираясь на каковые нормы, сдерживаясь, так сказать, их пределами, исполнительное ведомство получит законное право регулировать в подробностях этот важный вид народного промысла и 2) дабы многочисленные административные правила, которые будут издаваться в развитие закона, были возможно более обеспечены от произвольного усмотрения одного ведомства и были всегда возможно ближе к действительным условиям жизни, издание таких правил должно производиться не единоличным усмотрением министра, но через коллегиальный орган, Совет по делам судоходства и сплава, состоящий из представителей различных ведомств и выборных представителей от самих судопромышленников и сплавщиков45. Таким образом, в отсталое в правовом отношении дело вносилась свежая струя привлечением к нему различных специалистов и общественности.
Разработка законодательных норм по судоходству и сплаву потребовала весьма напряженной работы, понятной только юристу: требовалось внимательно изучить громадный материал разновременно издававшихся полицейских правил, систематизировать его, отобрав из устаревшего хлама все жизненное, и, наконец, самое главное, из целого ряда однородных мелких правил извлечь одну обобщающую их законодательную норму, которая не только подводила бы законный фундамент под существующие административные правила, но и служила бы основанием для возможного их развития в будущем. Все это требовало очень тонкой, чеканной и для юриста весьма занимательной работы. Занятия мои с Т[уган]-Б[арановским] в этой области продолжались долго, кажется, целую зиму; проект был одобрен и министром, и начальником управления, а также благополучно в общем прошел через междуведомственное совещание, после чего был разослан еще на заключение всех министров46.
Вторая довольно крупная работа, которая была поручена мне уже единолично – это разработка законопроекта о найме служащих по судоходству и сплаву. Знаток судоходного дела морской офицер А. И. Одинцов составил весьма обстоятельный проект соответственных правил47, но они частью устарели, частью опять-таки, по недостатку у автора юридических методов мышления, требовали серьезной переработки. Не полагаясь на материал А. И. Одинцова, хотя и чрезвычайно ценный для меня, но не снабженный совершенно ссылками на какие-либо источники, я, прежде всего, познакомился со всеми аналогичными законами по другим отраслям труда, как в бедном по этой части нашем законодательстве, так и в западноевропейском, особенно германском. Затем я прочел русскую литературу по этому предмету, которая, к моему величайшему изумлению, вполне, впрочем, естественному при недостатках нашего образования, оказалась весьма богатой именно в интересовавшей меня области судоходства. Печатные труды санитарных врачей округов путей сообщения, совершенно почти не известные нашему обществу, как все «казенное», в таких подробностях, цифровых и описательных, освещали быт и тяжелые условия труда различного рабочего нашего люда на реках, начиная с матросов и кончая пароходными лакеями и знаменитыми волжскими крючниками-грузчиками, что осталось только, внимательно изучив их, извлечь из них те конечные выводы, которые могли бы быть переработаны в законодательные обобщающие нормы. Попутно мне хочется еще раз сказать, как обидно, как досадно, что университет наш, давая схоластические сведения о «значении прилежного труда для его производительности», о том, что «веревка есть вервие простое» и т. п., не знает и не хочет знать родной жизни, задачи из которой с успехом поддаются интереснейшей научной разработке, хотя бы если не на лекциях, то в виде практических занятий. Право, студенту-экономисту было бы гораздо полезнее порекомендовать прочесть, например, работы об условиях труда наших грузчиков, в связи с главой по рабочему вопросу, чем преподносить ему изустный в течение года пересказ печатного учебника.
Само собою разумеется, что та картина рабочей обстановки, которую дали мне изученные мною материалы, поставила меня всецело на сторону служащих и против эксплуататорских наклонностей промышленников-нанимателей. Это не могло, конечно, не отразиться на общем направлении моей работы. Т[уган]-Б[арановский], познакомившись с составленным мною законопроектом, назвал его, смеясь, социалистическим, но признал, что как база для торга с судопромышленниками он вполне целесообразен и если даже подвергнется некоторым изменениям под их натиском и во внимание к действительно упущенным мною некоторым затруднениям для них (например, по моему проекту потребовалась бы перестройка некоторых мелких пароходов для улучшения жилищных условий прислуги), то, во всяком случае, явится крупным шагом вперед в нашем законодательстве о рабочих.
Не помню, что затормозило дальнейшее продвижение моей работы, но законопроект о найме долго оставался у меня в портфеле. Министр как-то внезапно заинтересовался этим проектом; на вопрос Т[уган]-Б[арановского], под рукою ли у меня проект и хорошо ли переписан, я обещал принести его на другой день. С портфелем, в котором находилась моя многомесячная работа, я отправился обедать с приятелями по Земскому отделу в ресторан; министр куда-то уехал на один день, и представление ему законопроекта было отложено. Обед наш, по поводу какого-то чествования, прошел в отдельном кабинете чрезвычайно оживленно, и уже под утро только я вернулся домой. На другой день Т[уган]-Б[арановский] спрашивает у меня снова о законопроекте, я иду по привычке к своему столу, чтобы достать бумаги из портфеля, и в тщетных поисках его припоминаю, что вчера со службы на обед я ушел с портфелем, а пришел домой без него. Начались безрезультатные поиски и по телефону, и личные; в конце концов, я должен был объявить начальству о пропаже так долго составлявшегося законопроекта, как подлинника, так и переписанного на машинке для министра. Т[уган]-Б[арановский] был очень взволнован, главным образом тем, что неизбежно увольнение меня от службы, очень сетовал на мое легкомыслие и убедил еще раз самому съездить в ресторан поискать портфель; к большому моему изумлению и радости, последний действительно был найден мною почему-то на кушетке возле стола; это событие было отчествовано тут же мною должным образом с вызванными по телефону друзьями из Земского отдела, уже знавшими о моей неудаче и сильно за меня волновавшимися, но с тех пор я никуда никогда больше не брал с собою никаких служебных дел при поездках по частным делам.
Законопроект мой начал свое обычное странствие по ведомствам и совещаниям48.
Наконец, последняя, пожалуй, наиболее интересная и увлекательная работа, в которой я принял участие, заключалась в разработке вопроса «об эксплуатации силы падения воды», как гласило официально его название, или о «белом угле», как принято было говорить в технической литературе.
«Белый уголь», т[о] е[сть] использование водопадов и речных течений для получения электрической энергии, получивший мощное развитие в Америке и отчасти в Западной Европе, России почти не известен. Проект соответственного устройства Днепровских порогов был, как я уже говорил, разработан в связи с проектом Черноморско-Балтийского водного пути. Осуществлением электрификации Днепровских порогов были бы достигнуты грандиозные экономические задачи: русский Манчестер – Екатеринослав и весь его фабрично-заводской район получали бы дешевую энергию в количестве, обеспечивающем в десятки раз увеличенное по сравнению с существующим производство, не говоря уже о том, что Юго-Западный край с Киевом во главе был бы соединен сплошным дешевым путем сообщения с Черным морем, которое с низовьями Днепра отрезано теперь от среднего и верхнего его плеса именно Екатеринославскими порогами.
Однако использование силы падения воды в Днепровских порогах, вполне осуществимое технически, сталкивалось с серьезными затруднениями юридического свойства. Каковы права частных прибережных владельцев на эту силу, а если таковая и была бы признана, подобно праву судоходства, принадлежащей общественно-государственному распоряжению, то какие пределы вознаграждения берегового владельца за принудительно отчуждаемую от него, обычно скалистую, береговую полосу: по местной оценке стоимости земли, либо по расчету, принимающему во внимание специальную ценность берега, расположенного у таких источников двигательной силы, как Днепровские пороги и т. п.? На эти вопросы в нашем законодательстве не заключалось сколько-нибудь определенных ответов49. Владельцы, осведомившись о тех выгодах, которые дает им приречное расположение их имений, не желали дешево расстаться с ценной их частью, но, не располагая достаточными средствами на производство крупных гидротехнических работ, сами не эксплуатировали силу падения воды, которую они считали своей собственностью, а, выражаясь вульгарно, лежали как собака на сене. Кроме того, надо сказать, что, в свою очередь, эксплуатация силы падения воды сложно сплеталась с правом судоходства и сплава, так как, понятно, то или иное гидротехническое устройство не могло не влиять на общее состояние водного пути и требовало государственного разрешения и наблюдения за частным предприятием по эксплуатации силы водного падения. Это вызывало необходимость создания на местах особых специальных административно-технических органов.
Все изложенное побудило наше ведомство приступить к разработке общего вопроса об условиях добычи «белого угля», поставив дело о Днепровских порогах в зависимость от выработки общих для России правовых оснований пользования водной силой для получения двигательной силы.
С Высочайшего соизволения с указанной целью было образовано Особое совещание под председательством единственного, кажется, сенатора с образованием инженера путей сообщения, престарелого Фадеева; в состав совещания вошли крупные юридические силы различных ведомств, а разработка и подготовка материалов, также и ведение журналов совещания было возложено на чинов нашей Юридической части, с усилением их состава несколькими молодыми специалистами-инженерами50. Во главе образованного таким образом делопроизводства совещания, как было принято у нас называть исполнительные органы совещаний, был поставлен присяжный поверенный М. И. Свешников. В бытность мою студентом С[вешников] занимал на правах приват-доцента вторую кафедру государственного права51; читал живо, имел свою аудиторию, но, как говорил Коркунов, давал слушателям скорее календарные, чем научные сведения, так как по натуре своей он был всецело практик, а не ученый, почему, выйдя в оппозиционном порядке из состава профессоров, он всецело предался адвокатуре, преимущественно по делам различных акционерных компаний и проч. Дела его то шли в гору, то падали; поэтому его полную фигуру с упитанным бритым лицом типичного бонвивана приходилось видеть то в удобной собственной коляске, то пешком, когда он, весь красный и потный от тяжелой и непривычной ему ходьбы, бегал по всему городу по различным учреждениям и клиентам. Пешая его фигура была моим последним воспоминанием о нем: в 1905 году он во главе процессии адвокатов с каким-то, кажется, флагом в руках с трудом, но торжественно шествовал по Литейному проспекту; позже мы не встречались. Это был типичный столичный интеллигент от оппозиции: способный, красиво говорящий, больше всего в этой жизни любящий удобства сытой жизни и не выдерживающий никакой длительной упорной работы, если в особенности она не обещает сколько-нибудь приличных материальных выгод. Хотя иметь общение с[о] С[вешниковым] было в общем весьма приятно, как с живым и остроумным собеседником, но, конечно, назначение его во главе делопроизводства или канцелярии серьезного совещания в деловом отношении не могло ничего обещать хорошего. Милый, добрый и высоко добросовестный сенатор Фадеев сначала отнесся с полным доверием к своему сотруднику – «профессору» и адвокату; возлагал, видимо, на него большие надежды и в первые недели не вносил никаких предположений в совещание, не получив соответственной справки или заключения «профессора». Первые дни С[вешников] действительно увлекся работой, но вскоре переложил на меня главную ее часть; постоянно отвлекался от дел переговорами с разными своими клиентами-концессионерами; писал наскоро в заседаниях совещания проекты различных частных уставов, иногда внезапно покидал заседание для длительных разговоров с ожидавшими его даже в коридоре управления клиентами; опаздывал, а часто и совсем не приходил в назначенный час на квартиру сенатора Фадеева, где он устраивал предварительные совещания с ним чинов нашей канцелярии по отдельным юридическим подробностям.
Старец Фадеев в тщетных поисках «профессора» разводил иногда беспомощно руками и добродушно говорил про него: «Что же это за работа? Там пробежал, здесь плюнул и исчез». В конце концов, несмотря на свое благодушие, Ф[адеев] начал не на шутку сердиться и стал игнорировать С[вешникова], фактически передав делопроизводство совещания в мое ведение.
Те, кто не соприкасался с внутренней жизнью наших министерских учреждений и, в особенности, кто относился к ним с предубеждением, никогда, конечно, не представлял себе, с какой горячностью, с какой чисто научной пытливостью постигнуть истину протекали многие «казенные» совещания.
В нашем совещании, по ознакомлении с законодательными и литературными материалами, сразу же определились два течения мысли: одно стоявшее на точке зрения широких государственных интересов, другое отстаивавшее, по основаниям, впрочем, чисто правовым, частноправовые интересы. Оба течения были представлены серьезными юридическими силами: первое поддерживали главным образом юрисконсульты Мин[истерства] юстиции Нечаев и финансов Гернгросс, второе – сенатор Гасман; прочие участники совещания распределились почти поровну между этими, так сказать, лидерами двух противоположных взглядов. Обе стороны проделали чрезвычайно обстоятельные исторические изыскания в области нашего водного права, начиная с Уложения царя Алексея Михайловича52 и отдельных законов Петра Великого. Государственники, парируя обвинение их в колебании устоев права личной собственности, снабжали свои доводы целым рядом исторических справок, которые, с моей точки зрения, вполне убедительно доказывали истинно-государственный взгляд наших царей, особенно Петра Великого, на речное наше хозяйство как на достояние общественное, в котором береговой владелец имеет лишь некоторые права в интересах своего земельного имения, в пределах, не нарушающих интересов общественных и государственных. Защитники частноправовых интересов оперировали с не меньшей горячностью данными позднейших законов, которые они считали вредным и опасным колебать. Это – так сказать, схема возникшего разногласия; я не могу говорить о подробностях, чрезвычайно интересных для специалистов-юристов; вокруг таких подробностей разгорались часто весьма тонкие по юридическому анализу прения. Должен только заметить, что в горячих поисках затуманенной законодательными и бытовыми наслоениями истины нервы у активных членов совещания так истрепались, отношения так обострились, что лидеры противоположных течений мысли перестали подавать друг другу руку, а иногда заседание совещания закрывалось Фадеевым до окончания его по причине слишком обостренного характера прений. Припоминаю, что в первые дни работ совещания, когда начала уже определяться непримиримость основных точек зрения на вопрос, раздался предостерегающий голос одного умного и очень практичного инженера В. Е. Тимонова. Он был настолько практичен, что, как говорили о нем злые языки, менял свою внешность в зависимости от наружности данного министра: то он ходил в поношенном сюртуке, с растрепанными волосами на голове, со всклокоченной бородой, то при министрах не ученой, а светской внешности одевался с иголочки, стригся и имел бороду в виде аккуратного клинышка a la Henri IV[70]70
На манер Генриха IV (фр.). Французские слова вписаны от руки.
[Закрыть]. В совещаниях он всегда был интересен тонким и злым своим остроумием; например, когда говорили об исправности какого-то шоссе, он, любезно улыбаясь, задал вопрос, почему именно на этом самом шоссе сокрушился автомобильный свадебный поезд дочери одного сановника, по небрежности ли шоферов или, быть может, вследствие некоторых недостатков именно самого шоссе.
Зная пристрастие Т[имонова] быть оригинальным, идти против общего течения, увлеченные делом юристы не обратили внимания на его предостережение, а оно заключалось в том, чтобы выработать специальный новый закон в отношении одних только Днепровских порогов, а общими юридическими вопросами заниматься уже потом сколько угодно. На этот раз, как показало будущее, Т[имонов] оказался прав; из-за общего вопроса надолго затормозилось разрешение дела о «белом угле» для Екатеринославщины. Нам, всем юристам, показалось тогда, однако, обидным прерывать начатое общее изучение сложного юридического вопроса и заниматься какими-то частностями. Предложение Т[имонова] было единогласно отвергнуто53.
В разгар обострения споров в совещании, однажды ночью, среди сна, как это часто бывало со мною при увлечении какой-нибудь служебной работой, меня вдруг осенила показавшаяся мне тогда блестящей мысль примирить противоположные течения, сочетав государственные и общественные интересы. Я тотчас же, встав с постели, набросал схему моих соображений, а утром поспешил к сенатору Фадееву поделиться моим открытием. Я забыл теперь различные подробности дела, но насколько могу вспомнить, мое предложение сводилось, в общем, к пред[о]ставлению береговому владельцу права в течение известного срока после того, как поступит предложение другого частного лица или правительственного ведомства, самому использовать силу падения воды для однородных по размеру и общественной выгодности гидротехнических устройств. Фадеев радостно ухватился за мою мысль, очень благодарил меня и уверенно говорил: «Ну, слава Богу, теперь, верно, мы придем к концу». С согласия Ф[адеева] я составил подробно мотивированную записку и доложил ее совещанию; когда по ней открылись прения, то, к искреннему моему и Ф[адеева] изумлению, они сразу же приняли столь обостренный характер, что в результате заседание пришлось закрыть, а некоторые из членов совещания отказались принимать в нем участие вообще.
Бедный Ф[адеев] был чрезвычайно удручен, я пытался его утешить, говоря, что у нас есть еще способ закончить работы, что во всяком случае выработаны нами уже положения о местных водных учреждениях, органах надзора и проч., а вопрос о праве на движущую силу воды можно направить в дальнейшие инстанции в двух редакциях, и что вообще нельзя терять надежды на созыв хотя бы последнего совещания для подписания протоколов и прочих заключительных действий. Ф[адеев] печально посмотрел на меня и сказал со вздохом: «Нет, чувствую, что мое место даже не в совещаниях, а там», – и он поднял руку вверх по направлению к небу.
И действительно через несколько дней я провожал уже к месту последнего успокоения этого честного старого работника54. Несомненно, страстная работа совещания подорвала физические силы Ф[адеева], у которого было больное сердце, и ускорило его кончину. Можно радоваться одному, что не дожил Ф[адеев] до времени, когда тысячи подобных ему расстреливаются за принадлежность к «нетрудовому классу населения»55.
После скандала в совещании в связи с обсуждением моей записки я имел первое неспокойное объяснение с Б. Е. Иваницким. «Как вы решились входить с какими-то самостоятельными представлениями, не посоветовавшись даже с М. М. Свешниковым; ведь вы недавно со школьной скамьи и видите, что наделали!» Я обиделся, объяснил, что я кончил университет, служу пятый год, и ушел недовольный начальством, но, конечно, не объяснив, почему нельзя и не стоит советоваться с «профессором».
После смерти сенатора Фадеева начались тщетные поиски заместителя ему в совещании. Сенатор Варварин, с которым велись предварительные переговоры, прямо так и написал: «Ознакомившись с журналами и материалами совещания, не нахожу возможным принять в нем председательствование». И действительно, груда исторических изысканий, а главное обостренные отношения в среде совещания, которые ярко выявлялись в его журналах, не могли быть привлекательными для свежего со стороны человека.
К этому времени наступили события, которые все вообще наши законодательные предположения, а не только по «белому углю» затормозили на много лет: война с Японией и первая после нее революция56.
На этих событиях я должен хотя бы самым кратким образом остановиться в моих воспоминаниях, конечно, только постольку, поскольку они отразились на моей личной обывательской и чиновничьей жизни; за эти пределы не распространяется, как я говорил, задача моих записок. Наша война и наши новые, порожденные первой революцией законодательные учреждения57 имеют своих специальных мемуаристов.
Война в столице58 глубоко волновала общество, в особенности чиновничий мир: мы остро переживали каждый шаг военных событий; печалились гибелью адмирала Макарова, художника Верещагина59, генерала Кондратенка60; ненавидели адмирала Алексеева за его бездарность и ликовали по поводу назначения главнокомандующим генерала Куропаткина61. У каждого из нас пошел на войну ряд близких людей, у меня, в частности, мои друзья-доктора: В. Ковалевский, С. Кистяковский, М. Костеркин и З. Чернявский; по их письмам мы переходили от надежды к разочарованиям. Провинции нашей, в массе ее, война была чем-то чуждым, неинтересным. Оппозиционно большей частью настроенное под влиянием прессы и земств, провинциальное общество в лучшем случае не интересовалось этим событием, а в худшем исповедовало веру в то, что «чем хуже – тем лучше». Слухи о том, что виновники войны – мы, а не японцы, что у нас был выгодный и почетный способ избежать нападения на нас японцев, что наша дипломатия и другие заграничные представительства на Дальнем Востоке проявили преступную и тупую неосведомленность в отношении политических целей и военных средств Японии – все эти слухи постепенно разрастались, но в государственно-мыслящих людях они могли только пробуждать желание исправления ошибки, без унижения русского авторитета на Дальнем Востоке, в среде же утопистов, к которым принадлежало большинство оппозиционной интеллигенции, вызывали одно стремление – к поражению.
Наши государственные ошибки на Дальнем Востоке получили, по моему мнению, наиболее яркое и понятное выражение в вышедших теперь мемуарах С. Ю. Витте62. Для меня, посвятившего ряд лет службы делам Приамурья, данные и соображения Витте теперь особенно близки и дороги, как подкрепляющие мои собственные взгляды, но, повторяю, во время Японской войны над всем преобладало у меня естественное чувство скорби по поводу наших военных неудач.
Столкновение в настроениях и взглядах с инакомыслящими и чувствующими представителями нашей оппозиционной, особенно провинциальной, интеллигенции вносило уже в наши споры сильное раздражение, увеличивало пропасть между двумя совершенно непримиримыми идеологиями.
На одной стороне находились те, как я, которые знали и чувствовали, что в России, при ее непочатых богатствах и массе требующих разрешения, так сказать, обыкновенных текущих вопросов во всякой решительно области, с которой хотя бы случайно соприкоснешься, не наступило еще время для резких скачков вперед по пути политическо-социальных задач, на другой стороне были те, кто по принципиальным или часто просто личным соображениям верил, что главное для России то, что написано в европейских научных книгах, либо социалистических брошюрках, т[о] е[сть] ограничение самодержавной власти, четырех[х]востка (всеобщее, прямое, тайное и равное голосование), передел и раздача частновладельческих земель и т. п. Значение для России самодержавного строя прекрасно выявлено опять-таки в тех же мемуарах Витте; он вполне отчетливо выражает те причины, которые могли побуждать известную часть государственных работников держаться за этот строй, единственно удобный для быстрого проведения главным образом хозяйственных реформ63. Я не стану здесь повторять его доводов. Мне важно только отметить наличность такой убежденной идеологии, к которой я тогда примыкал всецело и под влиянием событий укреплялся все сильнее и сильнее.
Я не давал еще тогда себе отчета, что в жизни народов, государств, как и в частной жизни человека, наступают такие моменты, когда доводы ума и логики должны уступать место психологии, области простого чувства. Психологически, а не по объективным условиям для России или, по крайней мере, для единственной влиятельной части ее населения – так называемой интеллигенции наступило время предпочесть конституционный строй старому самодержавному, как для крестьян чисто психологически настало время потребовать себе помещичьи земли, как в нынешнее смутное время психологически необходимо оказалось попробовать большевизма и коммунизма. Никакие доводы логики и ума вообще не имеют в таких случаях силы, раз известная масса населения, подготовленная односторонней прессой и пропагандой, настроена так, что в первый удобный для нее момент с общим увлечением и подъемом потянется за тем, что ей кажется в данное время для нее наилучшим. Наше правительство не знало контрпропаганды, да и едва ли сумело бы с нею быстро и хорошо справиться, а раз этого не было, и широко развивалась проповедь других идей – крушение старого самодержавного строя было неизбежно.
Крестьянам и интеллигенции внушалось, что стоит отдать помещичьи земли нашим землепашцам – и наступит общее их благоденствие; десятки лет эта мысль всячески вдалбливалась в головы крестьян, внедрялась в их сердца как какая-то радужная мечта – «синяя птица», и теперь В. И. Гурко («Что есть и чего нет в мемуарах Витте». Журнал «[Русская]Летопись». 192264) и другие авторитеты нашего землеустроительного дела могут сколько угодно, оперируя чисто научными цифровыми выкладками, доказывать отсутствие оснований и невыгодность раздела частновладельческих имений, им не победить ни логикой, ни цифрами, не победить умом там, где замешалось чувство, не признающее ни цифр, ни логических доводов. Ведь своевременной контрпропаганды по вопросу о национализации или социализации земель В. И. Гурко не устраивал65.
Итак, к 1905 году я, не считаясь, повторяю, с психологическими условиями, был ярым сторонником самодержавия, ибо в этом убеждении укреплял меня мой ум. Но кроме того и постоянное оскорбление во мне моего национального чувства выпадами пораженцев, считавших, что за какую-то четыреххвостку можно платить сотнями тысяч жизней русских офицеров и солдат, не могло не настраивать меня крайне враждебно к революционному движению этого времени.
Колебания и уступчивость Царя, когда смерть Плеве была использована как подходящий момент для делания «весны» новым министром внутренних дел [Святополк-]Мирским66, издание различных Высочайших актов, взаимно противоречивших друг другу67, наконец, совершенно неожиданное появление конституционного манифеста 17 октября68 – все это впервые враждебно настраивало меня к тому, к которому я относился некогда с полной верой и обожанием, не позволяя себе учитывать его мелкие ошибки и слабости.
Не помню, 17 или 18 октября утром я был у Г. В. Глинки с Б. Е. Иваницким и некоторыми другими знакомыми; последнему обещали срочно прислать из редакции «Правительственного вестника»69 оттиск ожидаемого манифеста; точное содержание его еще не было известно; говорилось только, что ожидается объявление конституции. Наконец появился курьер с узким свежеотпечатанным листком бумаги, в котором заключались судьбы России. Объявлялось, помимо всяких свобод, что ни один новый закон не будет иметь силы без предварительного одобрения Государственными Думой и Советом, т[о] е[сть] давалось именно то, что составляет сущность всякой конституции, ограничивающей власть монарха; почему нашей прессе и различным оппозиционным профессорам требовалось продолжать свои утверждения, что в России нет конституции, об этом не стоит здесь говорить. Я понял, что неограниченной, самодержавной власти, хотя термин этот и остался в наших Основных законах, но уже в ином смысле, более в России нет70. Было подано вино, и я впервые в жизни отказался принять участие в тосте за Царя, предложенном Г. В. Глинкой; все присутствующие были, естественно, сильно взволнованы. Дома не сиделось, на службе не работалось, тянуло на улицы посмотреть, как отразился манифест на настроении масс, принимавших тогда большое участие в различного рода забастовках. Я провел, с небольшими перерывами для сна, около двух суток вне дома, преимущественно на Невском. При моем отвращении к толпе это было для меня большим подвигом тем более, что кроме самого искреннего отвращения при моих взглядах и настроениях я ничего не мог получить от «конституционных ликований».
По Невскому день и ночь ходили толпы, разделяемые политической враждой или соединяемые симпатией. То появлялась толпа с национальным флагом, на котором была надпись: «Да здравствует свобода и Царь», то с красным, то с зеленым, то с бело-синим и т. п. Некоторые флаги, некоторые моменты продвижения толп по широкой длинной линии Невского были сами по себе красивы, но не умолкающий, какой-то дикий, грубый крик, с звериными завываниями наиболее исступленных участников процессии, крик, который не умолкал потом в собственной голове даже во время сна, но пошлые побоища одной толпы с другой при встрече враждебных флагов, с раздиранием до крови физиономий и истреблением флагов, но пролетавшие на извозчиках в стоячем положении какие-то лохматые студенты, преимущественно кавказской наружности, сиплыми звериными голосами кричавшие: «Ночью, товарищи, на тюрьмы» и другие лозунги, и проч., и проч., все это было до гнусности гадко, унизительно для человеческого достоинства и культуры. Запечатлелись в памяти на всю жизнь некоторые образы: с разбитым, истекающим кровью носом какая-то пьяноватая проститутка со шляпой на затылке патетически кричала: «Помогите кровь свою проливающей за свободу». Затем пристав, проезжавший в пролетке мимо Казанского собора; усы как у кота, вокруг глаз добродушные морщинки, посмотрел в сторону собора, хотел перекреститься, вдруг взгляд его упал на орущего что-то с возвышения у собора студента без шапки с южной копной курчавых грязных волос; у ног студента, разинув набожно рот, какая-то старушка, типичная церковная принадлежность, вероятно нищенка; пристав долго смотрел на эту группу и потом отвернулся в сторону с таким выражением, как будто увидел какую-то невероятную нечисть, вроде самого черта, что ли. Наконец, поздним вечером на Васильевском острове возле университета – громадная толпа, сходка студентов; какой-то сиплый голос кричит, что Черноморский флот обстреливает Крым и Одессу71, как будто это так было бы радостно для обстреливаемых городов; я стараюсь на извозчике пробраться мимо университета по набережной; обычное место городового занято каким-то студентом; жестом типичного провинциального околодочного, грубым голосом он останавливает извозчика: «Сворачивай, здесь проезда нет»; извозчик ворчит: «Вот те на, новая полиция!» и мы возвращаемся к Дворцовому мосту. В том же роде пошлые сцены разыгрываются и в день открытия Первой Государственной думы72. Все это создает и укрепляет во мне настроение ненависти к этому учреждению. В нем начинаются бесконечные речи, дела останавливаются. То, что дорого, возбуждает живой интерес в деловой среде, очень мелко для представителей «народного гнева». Самые разумные меры только потому, что они исходят от Правительства, тормозятся. Один член оппозиции договаривается до того, что по поводу прекрасной прогрессивной декларации министра народного просвещения Кауфман-Туркестанского73 заявляет в прессе: «Будь эта речь сказана в европейском парламенте, ее приветствовали бы аплодисментами. Но у нас надо критиковать во имя оппозиции». Всякое мелкое дело, например, о срочном кредите на университетскую оранжерею74, признается «вермишелью», которой Правительство умышленно заваливает Думу, как будто бы государственную, хотя бы и мелкую, работу можно остановить, как будто бы сама Дума не начала бы метать гром и молнии, если бы в каждом мелком, для нее не интересном, случае нарушалась конституция и кредиты отпускались в порядке управления. Получается впечатление, что одна цель оппозиции – это добиться министерских портфелей, а разные текущие государственные нужды – на втором плане. Ничего, абсолютно ничего ни Первая, ни Вторая Дума не делают для того, чтобы планомерным, мирным, так сказать, походом на Правительство показать, что они в своей среде имеют людей, которые и по работоспособности, и по знаниям выше стоят чинов Правительства, ничего не делают такого, что воочию показало бы безусловную деловую необходимость Думы. Это пустословие и отсутствие практических способностей уметь завоевать себе деловое положение со стороны первых двух Дум явилось роковым для последующих взаимных отношений между таким чистым душой человеком, как царь Николай II, и нашими новыми законодательными учреждениями. Лидеры оппозиционных партий (я не говорю, конечно, про утопистов – для них закон не писан) не умели понять простейшей вещи, что Царь – это могучая сила, которую им важнее привлечь на свою сторону, переделать его, так сказать, психологически, чем считаться рабски с каждым словом нашей дешево-либеральной прессы; эти лидеры не умели завоевать для себя, т[о] е[сть] для своих партий, влиятельного делового положения, признания их незаменимости, а этого достигнуть было легко при таком Царе, который всей душой искал только правды и добра своему народу, особенно крестьянам. Впрочем, остается еще открытым вопросом, способны ли были вообще «лидеры» к чему-либо другому, к какому-либо творчеству, кроме словопрения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?