Текст книги "Ночь после выпуска (сборник)"
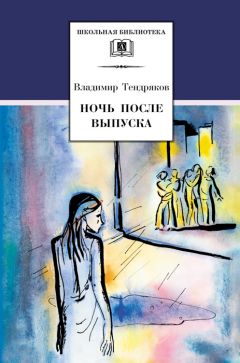
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
– Дочь прихвостня крупного капиталиста, твоего скрытого врага, княжны стоит.
– Да какой же Иван Семенович мне враг? Он учил меня, помогал. От отца я ни сапог, ни валенок в жизни не получал, а Иван Семенович в первый же год мне купил.
– Валенки… А он их сам катал? Катал-то их какой-нибудь мытарь, вроде твоего отца. Один Граубе юшку с рабочих жал, да так, что сам сожрать не мог, братцу подкидывал, мол, на спасение твоей и моей души букварей купи ребятишкам, валенки на крайнюю нуждишку подкинь, чтоб мы оба красиво гляделись, чтоб нас простаки хвалили. Семейка разбойничков, донага на морозе разденут и пуговицу от рубахи отдадут – грейся, милок, в ножки кланяйся. Темнота ты темнота, классовой ненависти в тебе ни на понюшку.
Иван Суков смотрел с суровой прямотой в зрачки.
Я и сам понимал: какую-то уступочку себе делаю, закрываю глаза на то, что Иван Семенович не совсем свой для революции человек. Ну а мой отец, чем он революции помог? Как тачал раньше сапоги, так и теперь тачает, как пил прежде горькую, так и теперь заливает. Но на моего-то отца Суков не замахивается. И я как умел выложил ему это. Иван Суков спокойно возразил:
– Твой отец в стороне, а почему? Темный он элемент. Просвети его, научи, открой глаза, будет свой. А почему в стороне этот Граубе – от темноты, от неучености? То-то и оно, что он нас сам учить собирается. Он нас, а не мы его.
– Ну и пусть учит. Что тут такого?
– Эва! А ежели он научит тебя своего братца любить? Мол, добр был, на бедность валенки давал, зря вы, такие-сякие, немытые, против него революцию устраиваете. Ты и теперь верить ему готов. А таких, как ты, целая школа. Можем мы допустить, чтоб в школе враги революции росли? За революцию ты или против?
– За, конечно.
– Тогда и не защищай Граубе.
Я молчал. Иван Суков с прищуром разглядывал меня.
– Молчишь? Мнешься? «Нас на бабу променял»?
И я закричал срывающимся, петушиным голосом:
– А она-то в чем виновата? Она-то не учит, сама учится! Тоже враг!..
Суков не обиделся на мой крик, ожесточенно потер небритую щеку.
– С ней, конечно, не все ясно. Молода, но, поди, отец успел… Вряд ли наших взглядов.
– А если наших?
– Пусть докажет.
– Как?
– Выступит против отца. Честно! Напрямоту! Без приседаний! Тогда доказано, девка наша. Вот проведи подготовочку!
«Проведи подготовочку» против родного отца!
Только аморальный тип не посовестится произнести эти слова подростку. Иван Суков аморальный?.. Ой нет! Иван Граубе, человек высокой души, нравственно был нисколько не чище его, не беззаветней, да и не добрей тож.
Жил Суков, как птица небесная, спал то в кабинете на широком кожаном диване, то в сторожке при школе на дощатом топчане, ел когда придется и что придется, обычно на ходу ломоть хлеба, выуженный из кармана. Все имущество – то, что на нем надето, да еще плотницкий сундучок, где хранил единственную смену штопаного бельишка и дорогой цейсовский бинокль, подаренный ему комдивом: «Прими, товарищ Суков, на всю жизнь и старайся разглядеть в него врагов революции».
Из лапотной и мякинной деревни, из обморочной российской глухомани выбросило этого бесхитростного парня в кипучую гущу классовой борьбы, в разбушевавшийся мировой пожар. Он едва умел читать по-печатному, но всем сердцем принял лозунг, переложенный с французского: «Экспроприируй экспроприаторов!» Цельная натура, он не ведал ни сомнений, ни рефлексий, а потому верил, как в «Отче наш»: род людской расколот пополам на паразитов и тружеников, иных на земле нет. Слова гимна:
Лишь мы, работники всемирной,
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
Но паразиты – никогда! —
стали для него святым законом. А так как сам он, Иван Суков, с раннего детства тяжко, по-мужичьи трудился, то и себя относил к полноправным властелинам планеты. К любому начальнику он являлся с несокрушимым убеждением, что и страна с ее богатствами, и сам начальник с его учрежденческим столом принадлежат ему, Ивану Сукову. Он не кричал, не возмущался, а лишь щурил свои деревенской голубизны глаза и вразумительно напоминал: «Эй-эй! Опомнись, дорогой товарищ. Ты кому это не даешь, кому отказываешь? Ты хозяину отказываешь, пролетарского хозяина заставляешь себе в ножки кланяться».
Для себя он никогда и ничего не просил, а для других добивался невозможного: школьный сторож Никанор вдруг начал получать зарплату больше самого Сукова, больше любого из учителей; двенадцатилетняя девочка, внучка глухой бабки Рычковой, была проведена персональной пенсионеркой на том только основании, что она «дочь сельского пролетария, безвременно загубленного эксплуататорами». Он многих поставил на ноги, многим дал путевку в жизнь. И мне в том числе.
«Проведи подготовочку…» Мне и в голову не пришло осудить Ивана Сукова за эти слова, посомневаться в их праведности.
Не осуждал, но и не соглашался с ним, не хотел ему верить.
Моя мать ни разу не погладила меня по голове, постоянно мне напоминала, что я «хлебогад», «прорва», «постылое семя». Отец под пьяную руку из меня «давил масло», не помню, чтоб он когда-нибудь купил мне обливной пряник. И что я не «хлебогад», не «прорва», а человек, от которого можно ждать хорошее, убедил меня Иван Семенович Граубе. От него я впервые получил подарки, и не обливные пряники, а валенки и полушубок. Из-за него даже мои родители стали глядеть на меня с надеждой: «Колька-то ужо-тко в люди выйдет».
И вот, оказывается, валенки, полушубок, апостольская возвышающая доброта неспроста… «Семейка разбойничков, донага на морозе разденут и пуговицу от рубахи отдадут…»
Я не хотел верить Сукову, но задуматься он меня заставил.
Иван Семенович содержал школу на деньги своего брата, сам находился на его содержании.
Почему этот брат, известный миллионер-капиталист, помогал учить бедных, даже покупал им валенки и полушубки?
Был слишком добр?
Может, он и разбогател-то от своей доброты, а не оттого, что притеснял трудовой народ?
Я не знал, любить мне или ненавидеть Ивана Семеновича. Время от времени я голосом Ивана Сукова сам себе задавал беспощадный вопрос: «Кто тебе дороже – Иван Семенович Граубе или революция?»
«Проведи подготовочку…»
Носить в себе тяжелые сомнения и скрывать их от Тани – значит не доверять ей, значит заранее записывать ее в число врагов. Я обязан раз и навсегда выяснить с ней все начистоту. Раз и навсегда, без «подготовочки»!
Село внизу рассыпалось раскаленными на закате крышами, и лежала в берегах тяжело-ртутная река.
Таня слушала меня, низко наклонив голову. Был виден ее прямой пробор в темных волосах, полоска известково-белой кожи.
На содержании… От доброты ли содержал? От доброты ли разбогател?.. Почему таких добреньких подмела революция?..
Таня слушала меня и не возражала, сидела с опущенной головой.
– Таня, ты должна выступить!
Она подождала, не скажу ли я еще что-нибудь, спросила в землю:
– Против кого выступить?
– Вот те раз! Говорил тебе, говорил!..
– Против отца выступить?
– Таня: или – или!
И она подняла голову, блестящие недобрые глаза, придушенный голос:
– Скажи, я честный человек?
Я не сразу ответил, я боялся подвоха.
– Молчишь? Может, ты сомневаешься в моей честности?
– Нет! Нет! Не сомневаюсь!
– А я добрая?
– Да.
– А я умная?..
– Да.
На секунду замялась и спросила все тем же глухим голосом:
– Ты… любишь меня?
Впервые произнесено это слово! Я выдохнул сипло:
– Да.
– Так вот, все во мне от отца! От него честность, доброта и ум, какой имею. Если от таких отцов дети станут отказываться, знаешь… мир, наверное, тогда выродится.
И встала, хрупкая, легкая, непрочно связанная с землей, плечики вздернуты, тонкая косица падает по узкой, жесткой девчоночьей спине, остроносое лицо заносчиво отведено в сторону. Она не хочет со мной больше разговаривать, она сейчас уйдет от меня, от нас!.. И я выкрикнул:
– Кто тебе дороже, отец или революция?!
– Знаешь… На провокаторские вопросы не отвечаю.
«Провокаторский…» Этого слова я тогда еще не знал, она при мне его ни разу не произносила.
Если дети станут отказываться от отцов, мир выродится. Это было сказано сорок пять лет тому назад.
А сегодня мне самому пришлось вознегодовать: «Человечество перестанет существовать, если ученики будут убивать своих учителей. Больше этого преступления только отцеубийство!»
Сорок пять лет спустя я вдруг повторил Таню.
Нет! Нет! Она слишком умна, должна понять, должна оправдать меня.
14
Мне было пятнадцать лет, и я вместе с Иваном Суковым свято верил: сермяжная правда в бедности, и каждый, кто хоть как-то прикасался к богатству, нечист.
Иван Суков проповедовал полное решимости: «Весь мир насилья мы разрушим». Иван Граубе нечто жиденькое: «Ученье – свет, неученье – тьма».
Таня ушла от меня к отцу, к ним!
И была простая – проще таблицы умножения – логика: на содержании у богатого, богатым так просто стать нельзя, только насилуя, только грабя и обманывая народ. «Весь мир насилья мы разрушим…»
Таня ушла… Кто тебе дороже, Таня?..
Я не мог ее ненавидеть, и никакой Иван Суков не заставил бы меня: чувствуй к ней это! Не мог ненавидеть я и ее отца, Ивана Семеновича Граубе. Не было у меня ненависти даже к его нечисто богатому, презренному брату. Но вопрос стоял так: кто мне дороже – они или революция?..
Таня ушла к ним…
Меня родная мать величала «хлебогадом», меня бил пьяный отец, с самого раннего детства на спине и на голове я чувствовал, что такое насилие. «Весь мир насилья мы разрушим…» Таня ушла к ним. Революция мне дороже.
Да, даже ее!
Иван Суков среди прочего неколебимо верил в силу, проницательность, справедливость коллектива. Один ум хорошо, а два лучше, пять лучше двух, десять – пяти, а целый коллектив уже столь умен, что никогда не ошибается. Ни одно серьезное дело Иван Суков не проводил без общешкольного собрания, где в равной степени учитывалось слово и поседевшего на ниве знаний педагога, и сопливого мальчишки, вчера севшего за парту.
На общее собрание Иван Суков вынес и обсуждение Ивана Семеновича Граубе. Родственные связи с капитализмом, интеллигентские замашки, отрыв от масс и т. д. и т. п. – все это умещалось в одной привычной формулировке «персональное дело».
На таком собрании не выступить, отмолчаться я не мог. Меня бы не исключили за это из школы, но про меня бы говорили, что я потерял классовое чутье, снюхался с чуждым элементом, «нас на бабу променял».
Пусть вспомнит каждый свои пятнадцать лет и ответит: найдется ли более страшное обвинение для человека в таком возрасте?..
Под потолком самого большого класса, в парно надышанном, сдобренном всеми ароматами дурно кормленной плоти воздухе под тусклым стеклом пятилинейной лампы медленно умирал вялый огонек. Только лица сидящих впереди сдержанно бронзовели под его светом, а дальше был мир теней, живущих во мраке, шевелящихся, сопящих, вздыхающих… Иван Семенович Граубе сидел в первом ряду, у него, как и у всех, было невнятно бронзовое лицо и бронзовая лысина да еще остренько поблескивали очки на носу.

Я излагал бронзовым бесстрастным лицам все то, что уже говорил Тане, то, о чем все это время думал, – свой нехитрый логический ряд. Бронзовые лица – учителя школы – молчали, но тени за ними в своем пещерном мраке подхватывали каждое мое слово. Бронзовым лицам моя логика казалась, верно, слишком простой, а ребятам вполне понятной, близкой.
Я говорил и был непримирим ко всему на свете, и в первую очередь к самому себе. Ради революции я жертвовал самым дорогим для себя – Таней! «В набежавшую волну»! Подвиг, сравнимый лишь с воспетым в песнях подвигом Стеньки Разина.
От Ивана Семеновича Граубе потребовали ответа. Он вышел на свет под лампу, повернулся лицом к бронзовым лицам, к мраку, заполненному тенями. Он гнулся под тяжестью своей объемистой отблескивающей головы. Он долго молчал, рассеянно поправлял на носу очки.
А собрание дышало шумно и ожидающе. Настала захватывающая минута – лев загнан, но еще силен, предстоит схватка!
Как всегда, первые звуки его голоса невольно поразили неожиданной силой, спокойствием, бархатными интонациями.
– Ечевин был моим учеником, – заговорил он. – Я учил его отличать ложь от правды и не научил. Учил ненавидеть зло, уважать добро – не научил. Я жалкий банкрот! Я попусту жил, зря топтал землю, ел хлеб. Тут выкрики, требующие наказать меня. Увы, уже без вас наказан – сильней невозможно.
Он постоял, сгибаясь под тяжестью собственной головы, повернулся и ушел при общем серьезном и недоуменном молчании.
А утром его нашли в постели уже холодным. На столике лежало письмо: «Прошу никого не винить…» – и ключ от шкафа с химическими реактивами.
Хоронить Граубе неожиданно вышло все село. Бабы плакали, мужики молчаливо стояли без шапок под дождем. Я прятался в самом конце толпы, за спинами.
У Ивана Сукова была чистая совесть, он ни от кого не прятался, даже счел нужным сказать свое слово над гробом покойного: как всегда, призывал верить в грядущую мировую революцию и близкий конец загнивающей буржуазии.
В этот день мой отец напился пьяным и, завалившись домой, принялся меня бить, как давно уже не бил.
– У-у, выродок! От людей совестно! Кругом несут: мол, змея вырастил! У-у, рвотное! Мозги вышибу! Так и отца в одночасье за полушку!..
Я молча гнулся под отцовскими кулаками.
Таня какое-то время жила у одной учительницы, потом куда-то уехала.
Лет двадцать спустя, уже после войны, на областной учительской конференции я сидел в зале и слушал очередной доклад. Вдруг я виском ощутил направленный со стороны пристальный взгляд. Я обернулся и увидел: женщина с прозрачно-бледным лицом, в синем шевиотовом костюме, униформе учительниц районного масштаба, отвела глаза. Я узнал ее – Татьяна Ивановна!
Я постеснялся подойти к ней во время перерыва. А постеснялся ли?.. Нет! Она достаточно умна, чтоб понять и простить.
15
Сосны шумели у меня над головой. Почтенные сосны, старше города, старше меня.
Тане, Татьяне Ивановне Граубе, в этом году тоже должно исполниться шестьдесят – мы ровесники.
Я сошел с ума! Я думаю, не она ли с непостижимой женской хитростью возвеличила себя – «я алкоголик», подписалась «Ваш бывший ученик»? Таня, дочь Граубе, грозит мне смертью? Несуразная дикость!..
«Выдающийся… самоотверженный… ум и совесть нашей педагогики»! Шумный юбилей! Николай Ечевин завоевывает мир!
А что должно мешать Тане считать меня убийцей своего отца? Причем наверняка таким, который действует из-за угла.
Но нет, нет! Она слишком умна…
Умна, чтоб понять, если я и убийца, то по неведению, не из-за кошелька.
По неведению?.. Отец Тани несколько лет подряд изо дня в день учил меня, а безнадежно глупым меня не считали… Почему должна она оправдывать меня – не ведал-де, что творил?
Я виноват в том, что создал простенький, как частушка, логический постулат: тебя содержит богатый, каждый богатый – враг, значит, враг и ты! Откуда мне было знать в пятнадцать лет, что чаще всего приводит людей к беде слишком простая логика.
Она, дочь известного русского педагога Граубе, сама педагог, не может не считать, что только с чистыми руками и кристальной совестью можно заниматься воспитанием детей.
Человечество перестанет существовать, если ученики будут убивать своих учителей. Боже мой! Я в ее глазах именно такой вот убийца!
И я справил триумфальный юбилей.
Есть ли на свете еще человек, который бы имел столь ощутимый повод ненавидеть меня? Ненавидеть и считать меня опасным для общества.
Но… «Я алкоголик… представитель человеческих отбросов… подозрительный философ забегаловок…»
Ты допускаешь, естественно, что полученное тобой письмо написано поддельным, подложным почерком, тогда столь же естественно, что и портретные черты автора должны быть в нем ложны, как и сам почерк.
И откуда знать, что Таня не нашла себе помощника, который может про себя сказать с чистой совестью: «Я алкоголик» и даже «Ваш бывший ученик». Через меня прошло более трех тысяч учеников, не все они были Григориями Бухаловыми.
Таня?.. Нет! Все-таки невероятно! Не умещается в мозгу! Бред!..
Я встал и вышел из-под шумящих сосен. И снова внизу передо мной раскинулся мой город – веселое нагромождение нагретых солнцем железных крыш, каменных стен, тесные пропасти переулков, асфальтовые озера площадей. А давно ли дремлющее среди огородов, как овцы на выпасе, избяное стадо… Не верится, что за одну неполную человеческую жизнь можно навозить столько кирпича и так загромоздить землю этаж над этажом.
Земля, на которой я родился, изменилась, ничего похожего с прежней. Изменился и я, но так ли уж, чтоб ничего похожего?..
16
Я словно вынырнул из прошлого, как герой немудреного научно-фантастического рассказа, с легкостью путешествующий во времени. Стою на солнечном тротуаре, каждой по́рой своего тела ощущаю плывущую мимо жизнь, до оскомины знакомую, до невменяемости страшную. Письмо?.. Да здесь, здесь это письмо, в кармане, напротив сердца. О нем я не забывал даже в стране Прошлого.
Плывет мимо знакомая жизнь, нужно прыгать в ее поток. Я, кажется, шел в милицию за спасением… Перед милицейской фуражкой всегда чувствуешь себя виновным. Там спросят: «А кого вы подозреваете, уважаемый товарищ Ечевин?»
Подозреваю Таню, виноват, Татьяну Ивановну Граубе. Слышал, она недавно вдруг ни с того ни с сего вернулась в родной город, подозрительно!
И Таню вызовут… И Таня подумает: «Каким ты был, таким остался. Бьешь по-прежнему из-за угла…»
Во главе городской милиции стоит Вася Фомин… Он не исчезал надолго из моего поля зрения, уходил на фронт и возвращался, женился, рос по службе, ныне майор, но должность занимает такую, куда обычно ставят полковников – заметная принадлежность новенького, с иголочки города Карасина. Был когда-то стриженый крепыш, тихоня, аккуратист, себе на уме, в учебе надежный среднячок…
Сколько лет знаю, но сейчас с удивлением почувствовал, что не могу ответить на такой важный для себя вопрос: как бывший ученик Фомин относится к своему старому учителю? Уважает ли? Любит ли?.. Ну, любит, положим. Учителя не обязательно бывают самоотверженными, а ученики благодарными. Знания – не сладкий плод, а горький корень. И чем настойчивей учитель кормит своих учеников этим неудобоваримым корнем, тем меньше шансов рассчитывать ему на их любовь. Конечно, Фомин встретит вежливо, даже внешне любовно – чти и уважай старого учителя, но, как знать, не подумает ли: «Отливаются кошке мышкины слезы…» Бывший ученик…
– Здравствуйте, Николай Степанович.
Полная женщина в обвисшей кофте с двумя набитыми авоськами в руках, на лице взволнованный румянец, словно нежданно-негаданно встретила свою давнюю, неперегоревшую любовь, мать Левы Бочарова. И я наперед знаю ее вопрос:
– Как Лева, Николай Степанович?
– Все в порядке на этот раз.
Сейчас я чувствую себя виноватым перед всеми, хочется искупить какую-то вину, каяться, жаловаться, оправдываться. Хочется умиляться… Но это непедагогично, и я не добавлю ни слова к своему ответу. Однако и такой черствый ответ делает мать счастливой.
– Он слово нам дал, Николай Степанович. Мы с отцом ему сказали: будь, как все. Если что, мы тебе просто не родители, иди работать. Так и сказали. И, честное слово, выполнили бы. Понял, обещание дал.
Я неопределенно промычал. Почему-то меня не обрадовала родительская поддержка. А мать счастлива, цветет молодым румянцем.
– Спасибо вам, это вы нас надоумили и поддержали. Большое спасибо, Николай Степанович.
– М-м… Не за что.
Мы простились. Она двинулась своей дорогой, сгибаясь под раздутыми авоськами, набитыми хлебом, кульками с крупой, бутылками с молоком, – любящая мать, охваченная родительским счастьем, ибо сын пообещал быть, как все.
И я вспомнил последнее сочинение Левы, которое лежит у меня в портфеле. Как у всех, даже хуже…
Мне вдруг захотелось встретиться с Таней. Не с той, какой ее помню, а с сегодняшней, в сущности, незнакомым мне человеком. Встретиться, чтоб выслушать в лицо упреки. Но это мечтание, а жизнь-то течет, и мне надо поспевать за ней.
В милицию мне идти незачем, значит, в школу.
17
Сравнительно недавно снесли школу Граубе – бревенчатый дом в два этажа с высокими печами-голландками, с деревянными лестницами, с крашеными изношенными полами, с тесными классными комнатами. Стены той школы хранили камерную уютность, в них всегда ощущался особый, сложный запах – чернил, старых, лежалых книг, копившейся десятилетиями пыли. Последнее время мы страдали от тесноты, но то была теснота скученной семьи.
Старую школу снесли, на ее месте поставлен небольшой магазин обуви, новая выстроена чуть в стороне по проспекту.
Она безупречна, эта новая школа. У нее гордый фасад – красный кирпич с прослойками белого, силикатного. По фасаду развернуты ряды одинаково размашистых окон, стекла́ больше, чем кирпичных простенков, за широким входом посреди вестибюля безмолвно трубит гипсовый горнист, призывает подняться по лестнице. Коридоры по-больничному светлы. На белых дверях нет табличек – «V класс», «VI класс»… Нет классных комнат, есть только кабинеты – физики, математики, географии, истории, биологии, литературы, русского языка… Они же и классы, черные доски в них могут быть накрыты белыми экранами – смотри кино, правда, не смотрим, нет учебных фильмов. Есть конференц-зал, который легко превращается в театр. Есть обширный спортзал, где нельзя играть только в футбол. Новая школа раз в пять больше старой. В новой школе нет своих особых запахов, да и своего лица тоже нет – в точности похожа на остальные новые школы города.
Я признаю свою школу и красивой, и удобной, работаю в ней вот уже десять лет, но почему-то не перестаю чувствовать себя новоселом.
Только что кончился перерыв. Коридоры пусты, двери отрешенно закрыты, смутно доносятся из-за них голоса учителей, ведущих уроки. Из разных дверей разные голоса и неясные, сдержанные звуки, создающие насыщенную атмосферу рабочего дня. Она меня всегда взбадривает, попадая в нее, я молодею.
Открывая дверь в учительскую, я услышал раздраженный разговор и невольно поморщился – каркающий голос Евгения Сергеевича Леденева, преподавателя литературы в старших классах.
Старая граубевская школа кончила свой век, магазин обуви – памятник на ее могиле. Но кое-что из той старой школы перекочевало в новую. Кое-что и кое-кто – вещи и люди.
В просторной солнечной учительской стоит длинный, под зеленым сукном стол. Еще до революции Иван Семенович Граубе собирал за ним своих педагогов. В прежних стенах стол казался подавляюще громадным, он не просто занимал всю тесноватую учительскую, он сам собой представлял учительскую, в семейную спайку он объединял еще не слишком разросшийся тогда преподавательский коллектив. И в те времена за этим столом никогда не слышалось раздоров, споры были чинны, сдержанны, учтивы, и учителя подымались из-за олицетворявшего педагогический оплот стола с ощущением надежности, ясности, наперед зная – так похвально, а так запретно.
В новой же учительской старый стол не кажется большим, занимает лишь часть комнаты, и давно уже все педагоги не умещаются за ним во время педсоветов. И все чаще и чаще за этим столом нарушаются мир и согласие, нередко вспыхивают склочные баталии, недостойные тех, кто своим примером призван воспитывать.
Первый в баталиях авангардист Леденев. Он окончил московский вуз, привез с собой столичные (последнего образца!) взгляды и столичную самоуверенность. Он не стесняется в открытую ругать не только утвержденные программы обучения – их все помаленьку поругивают! – но и клянет всю систему просвещения: классы устарели, урочный подход – анахронизм, отец существующей педагогики Ян Амос Коменский – трехсотлетняя древность!
Я не выношу ни его залихватских теориек, ни его самого. Мне крайне неприятен его голос – только язвительный, только напористо крикливый, никогда не нормальный, его угловатое лицо, тонконосое, тонкогубое, обезьяньи подвижное, с недобреньким блеском смородиновых глаз, его собранная, спортивная, наилегчайшего веса фигурка, его манера одеваться с подчеркнутым презрением к общепринятым нормам – не носит галстуков и белых сорочек, является в школу в свитерах дамски бешеной расцветки.
Сейчас в пустой учительской Леденев спорил с завучем Надеждой Алексеевной. Этот спор начался тогда, когда Леденев переступил порог нашей школы, а кончится он наверняка с кончиной добросовестнейшей страдалицы Надежды Алексеевны. Впрочем, на ловца и зверь бежит, Леденев тогда найдет себе новую жертву.
– Я не могу допустить, чтоб дети на уроках слушали безнравственные стишки, воспевающие пьянство! – уже причитающим голосом выдавала Надежда Алексеевна.
А Леденев спокоен. Леденев холоден, сидит, небрежно перекинув ногу на ногу, в своих трещащих от модности брючках. У него своя манера вести спор – быть спокойным до равнодушия и доводить противника до белого каления. И когда выведенный из равновесия противник сорвется, скажет глупость, неточно выразится, Леденев тут взрывается, начинает художественно неистовствовать.
– Во-первых, дети… – хмыкает он. – Этим детям, Надежда Алексеевна, шестнадцать, семнадцать лет. Уверяю вас: все они давно уже знают, что младенцев находят не в капусте.
– Может, вы предложите сделать это предметом преподавания?
– Может, и нужно будет когда-то ввести такой предмет.
Надежда Алексеевна в ответ лишь воздела к люстре руки.
– Во-вторых, как вы выразились, стишки… Извините, не стишки, а великие стихи – рубаи Омара Хайяма. В-третьих, считать шедевры мировой классической лирики безнравственными есть ханжество или крайнее невежество!
– Николай Степанович! – как к свалившемуся с неба спасителю воззвала ко мне Надежда Алексеевна. – Николай Степанович! Вы послушайте только!
Мне неприятен Леденев, но на этот раз и Надежда Алексеевна не вызывает сочувствия. Воистину простота хуже воровства, надо же наброситься с упреками – читает ученикам не запланированного программой Омара Хайяма. И бабий беспомощный вопль: «Спасите, Николай Степанович!»
– Не могу согласиться с вами, Надежда Алексеев на, – сухо сказал я. – Бессмертные рубаи Хайяма не безнравственны, а, напротив, высоконравственны.
Леденев небрежно перебросил ногу на ногу, ухмыльнулся. Его ухмылочка означала и то, что вряд ли я, по его мнению, человек не только старый, но и косный, могу оценить Омара Хайяма и что – ха-ха! потешная ситуация! – Ромео и Джульетта карасинской педагогики вдруг не сошлись мнениями.
А Надежда Алексеевна захлебнулась от отчаяния:
– Николай Степанович! Вы же знаете, что Евгений Сергеевич только то и делает, что вытаскивает на уроки бессмертных! То Омар, то сонеты Шекспира…
– Так вы бы должны за столь широкий охват объявить мне благодарность в приказе, – подсказал Леденев.
– Но на экзаменах-то у ваших учеников будут спрашивать не веселые, извините, все-таки с долей алкоголя стихи, не творчество новомодной поэтессы!..
– Вы хотите, чтоб я нацелил их только на экзаменационную отметку и не дозволил молодым людям оглядываться по сторонам? Вы требуете, чтоб я запрещал им видеть многообразный мир человеческой культуры?..
– Но что, если ваши ученики угрохают время на алкогольные и безалкогольные произведения и не сдадут выпускных экзаменов?.. Вы им жизнь ломаете, Евгений Сергеевич! Жизнь! Элементарнейшая человеческая честность должна будить в вас чувство ответственности!
И наконец-то Леденев взвился со стула.
– Ах честность… Вот вы о чем заговорили! Честность по принципу «чего изволите»! Честность по директиве! Честность, которую можно сменить при случае, как поношенную рубаху, если придет иное указание. Чем эта принципиальная честность отличается от трусливой беспринципности?!
Сегодня у меня нет никакого желания закрывать своей грудью Надежду Алексеевну. Я прошел в кабинет директора, бросив ее на растерзание Леденева. А Леденев за моей спиной гремел о казенной добросовестности и добросовестной казенщине, о бесстыдном лицемерии и стыдливой самостоятельности – художественно неистовствовал.
Кабинет директора свободен почти всегда. Наш директор непоседлив. Он свято верит, что у него в школе опытный педагогический коллектив, на который можно полностью положиться, а потому утонул целиком в хозяйственных делах. Летом наша школа первой в городе закончит ремонт, все ученики необеспеченных родителей будут устроены в пионерлагеря, многие учителя во время отпусков получат путевки на курорт… И все это директор проворачивает не из своего кабинета.
Я уселся за директорский стол, открыл портфель, достал пачку проверенных сочинений – Иван Грозный против родовитых бояр…
18
Сочинение Зыбковец: «Такой человек не мог желать людям лучшего… Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга». Жирная двойка – не наших взглядов…
А что наше и что чужое?
Странный вопрос, родственный детскому:
Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
– Что такое
хорошо
и что такое
плохо?
В дни моей молодости, где-то в конце двадцатых годов, любой царь осуждался с ненавистью – глава господ, верховный угнетатель, кровопийца народа номер один. Любой царь, в том числе и далекий Иван Грозный. Тогда бы я не сказал Зое: «Не наших взглядов».
Теперь никто не удивляется, когда превозносят кибернетику, а давно ли – буржуазная лженаука, никак не наша.
А каким враждебно ненашим был когда-то монах Мендель! Теперь он полностью наш, в почете и славе.
Был не нашим и Иван Семенович Граубе, поживи дольше, наверняка стал бы нашим.
Что наше, что чужое? «Что такое хорошо и что такое плохо?» Могу ли я быть судьей?
И вообще кто я такой, на что я способен?
Вдруг как-то устрашающе полез мне в глаза знакомый кабинет. От фронтовиков приходилось не раз слышать: в минуты смертельной опасности начинаешь видеть то, что в обычном состоянии невозможно заметить. Один уверял меня: незадолго до своей контузии он разглядел на лице сидящего рядом товарища нечто – его конец. Две минуты спустя этот товарищ был убит наповал осколком разорвавшегося снаряда, а мой знакомый сильно контужен. Он узрел будущее.
И сейчас я не обычным зрением, а каким-то особым проницанием воспринял лицо кабинета. Я увидел не просто широкий полированный стол, телефон на нем, мягкие кресла по углам, я узрел не наглядные, грубо материальные вещи, а скорей то, как эти вещи связаны между собой. Увидел связи, а не предметы, не лицо окружающего мира, а его освобожденное внутреннее выражение – душу сущего.
Стол, за которым я сидел, стоял парадно, столу было отведено тронное место, но сидеть за ним было неудобно, свет из окна косо падал на правую руку, бросал тень на бумагу. А кресла засунуты глубоко в углы, стоят симметрично, но посетителю и в голову не придет ими воспользоваться. Хозяин, оснащавший кабинет, честолюбиво гордящийся мягкой полированной мебелью, повторял лишь то, что обычно без раздумья делают и другие. В таком кабинете, наверное, никогда не родятся дерзкие идеи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































