Текст книги "Ночь после выпуска (сборник)"
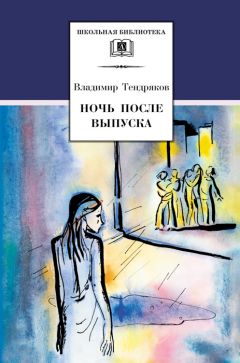
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Вдруг в распахнутой форточке метнулась тень, комната заполнилась упругим фырчащим шумом трепещущих крыльев. Полупрозрачный сгусток кипящего воздуха – от серого потолка к Колькиной голове, от одной стены к другой. Мелкая птица, нежданная гостья. Она, должно быть, поняла, как грубо ошиблась, ворвавшись в этот тесный, душный, угрожающе-молчаливый угол мира. Совершив пляску, она ринулась обратно на простор, к синему, напоенному солнцем, обмытому дождем небу, навстречу тополиному запаху. И налетела на стекло с такой силой, что упала, оглушенная, на подоконник. Колька кинулся к ней…
Ясно-желтая грудка, пепельная спинка, в перышках крыла голубой торжествующий отлив, глаз мертвенно задернут, но сквозь мягкий пух пальцы уловили суматошное биение крохотного сердца. Над ухом раздалось тяжелое дыхание. Колька обернулся – растерзанный отец стоял над ним, на его помятом лице непривычная робость и на губах виноватая мученическая улыбка.
– Князек заскочил, гляди-ко, – сказал он.
– Живой.
– Небось оклемается… Князек в городе, надо ж!..
– Я ему гнездо устрою.
Отец несмело улыбался, под набрякшими веками, под жесткими светлыми ресницами влажные болеющие глаза.
– Он чего ест?.. Ой, ожил!
У князька открылся бисерный блестящий глаз, Колькина ладошка сжалась.
– Не тискай, задавишь еще… Слышь, Колька, отпусти его. Князек – птица лесная, вольная, взаперти сдохнет. – И мученическая улыбка, и голос непривычно просящий. – Я тебе канарейку с клеткой куплю, петь будет.
Кольке почему-то вдруг стало жаль, хоть плач, только неизвестно кого – птичку, попавшую в беду, или похмельного, встрепанного, мучающегося отца. Он даже не решился накормить гостью. Отец помог ему вскарабкаться на подоконник, он дотянулся до открытой форточки и разжал руку. Князек мелькнул ясно-желтой грудкой и мгновенно растаял в синеве, обнявшей лежащий внизу город.
В тот вечер отец пришел чистый, трезвый, тая в глазах весеннюю голубизну, а в губах ухмылочку. Он поставил на стол легкий объемистый пакет, завернутый в серую шершавую бумагу. Осторожно, стараясь, чтоб не шуршала, отец снял бумагу, и под ней оказалась круглая проволочная клетка с деревянным низом, выдвигающимся ящиком. Внутри на палочке сидела ржавенькая птичка, чуть побольше князька, быть может, не столь красивая, однако с широким бордовым галстуком.
Кенар ел конопляное семя, запрокидывая смешно голову, пил воду из блюдечка. Он очень скоро прижился и стал петь – дробно, с россыпью, с прищелкиванием, с нежным присвистом. Отец радовался не меньше Кольки, считал коленца… А у матери с лица не сходило испуганное удивление.
Неделю, а может и больше, отец приходил по вечерам рано, и чай пить садились теперь не на кухне, а в большой комнате за круглым столом, накрывали его глаженой скатертью. Кенар пел, и каждый вечер походил на праздник…
Сначала отец пришел лишь чуть подвыпивший, веселый, добрый, разговорчивый. И мать сразу увяла, сжавшись, молчала весь вечер. Но чай был, и кенар пел…
На другой день отец толкнул мать на шкаф, клетка с кенаром, накрытая от света платком, свалилась со шкафа на пол. Нет, кенар не разбился, остался жив, только после этого совсем перестал петь, сидел нахохлившись, ничего не ел. И лишь по вечерам, когда пьяный отец начинал громко ругаться, швырять стулья, на кенара стало находить сумасшествие, он метался в клетке, бился грудью о прутья…

Он скоро сдох, и Колька похоронил его в углу двора, за трансформаторной будкой, положил сверху два кирпича – вместо памятника и еще чтоб не выкопали и не сожрали кошки. Никогда уже больше не пили чай за круглым столом, покрытым белой скатертью…
Отец любил собак и птиц. На рыбалке однажды чайка схватила наживленного на перемет пескаря, сама попалась на крючок. У этой чайки были жесткие крылья, столь белые, что Колькины загорелые руки казались черными, как у негра. И голова чайки – маленькая, злая, с ненавидящим острым глазом. Отец и тогда приказал выпустить чайку.
Отец… О нем можно думать. Его даже можно любить.
Не надо только додумывать до конца. Не надо!
* * *
Скупо отмеренный день поздней осени угас. Он был тусклый и мокрый, похожий на вчерашний и позавчерашний. Как всегда, многочисленные проходные комбинатов, заводов, фабрик – гигантских, всесоюзно прославленных и неприметно-мелких, местного значения – выпустили рабочих, закрылись до утра, до нового рабочего дня. Но закрылись далеко не все, многие пропустили через себя ночные смены. Город лишь замирал, но не переставал жить уже не наружной, не суетливо-шумной, а потаенной жизнью. Какие-то станки не остановились, раздутые печи не погасли, дежурные краны продолжали ворочаться, крутились роторы электростанций, гнали по проводам электричество, совершалось ежесуточное чудодейство – грязная руда превращалась в чистый металл, мертвый металл в живые машины, сырье становилось продукцией, а время овеществлялось даже тогда, когда большинство жителей засыпало, забывая о неумолимости времени.
Кончился день, для всего города очередной, в общем, самый обычный. В этом тесном людском скоплении, где течение бытия мощно завихряется, всегда выплескивается наружу что-то гнилостное, оскверняющее существование. Где кипение, там и пена.
Кончился день, сам город ничем особым не отличил его от других дней. И только у какого-нибудь десятка людей сегодня круто перевернулась судьба.
Часть вторая1
С утра Сулимов решил свозить Колю Корякина на экспертизу. Без медицинской экспертизы в таком деле обойтись нельзя. Сулимов мог бы перепоручить эту процедуру и другим, но вдруг да потребуется что-то уточнить, пояснить, дополнить – уж лучше сам.
Больница, куда он вместе с Колей и сопровождающим милиционером подкатил на спецмашине, когда-то стояла за городом. Теперь город со всех сторон обошел ее – несколько потемневших кирпичных корпусов, окруженных худосочным парком. Еще в конце прошлого века эту больницу основал известный в России психиатр, теперь она носила его имя, но в просторечии издавна звалась непочтительно кошатником или дурдомом.
Уже не столь известный по стране психиатр, однако все же нынешняя местная знаменитость, доктор медицинских наук, заведующий отделением, к чьим услугам следственные органы осмеливались прибегать только в особо важных случаях, оторвался от своих больных, от организационных забот, от конфликтов вверенного ему медперсонала, уединился с Сулимовым в кабинете, полистал бумаги, задал несколько незначительных вопросов, произнес:
– Что ж, давайте сюда вашего соловья-разбойничка.
«Соловей-разбойничек» выглядел жалко – синюшное, до хрупкости исхудавшее лицо, затравленные светлые глаза со вздрагивающими зрачками, тонкая, напряженно тянущаяся из просторного воротника шея…
Местная знаменитость, лысый, с лепным черепом, массивный мужчина, державшийся с Сулимовым грубовато-добродушно, при появлении Корякина изменился мгновенно и разительно – не только физиономия, но и все его плотно сбитое тело стало выражать приветливое участие. Он посадил Колю так, что острые Колины коленки упирались в его тугие, полные колени, начал расспрашивать заботливо и не напористо – хочешь отвечай, хочешь не отвечай, твоя воля: занимался ли спортом, страдал ли головными болями, хорошо ли спал по ночам, какие книги больше нравилось читать… Прерывал вопросы, просил перекинуть ногу на ногу, обстукивал молоточком, заставлял следить за толстым пальцем, нацеленным в потолок, снова и снова спрашивал бархатно стелющимся голосом, втягивал в необязательную беседу. Коля отвечал коротко и ясно, не спуская беспокойного взгляда с врача. Беспокойного, но вовсе не недоверчивого.
– Ну иди, дружочек, – наконец ласково отпустил доктор к сопровождающему милиционеру, ждавшему за дверью. И когда Коля вышел, местная знаменитость ворчливо заметил: – Как пациент он не представляет для меня ни малейшего интереса.
– Нормален? – спросил Сулимов.
– Нормальных людей на свете нет!
Психиатр плотно уселся за свой стол и с профессиональной быстротой врача, которого ждут многочисленные больные, приходится дорожить каждой минутой, написал следующее заключение: «Николай Рафаилович Корякин душевным заболеванием не страдает. Обнаруживает признаки эмоциональной неустойчивости. В период, предшествующий инкриминируемому деянию, он находился в состоянии естественной подавленности, связанной с длительной психогенно-травматизирующей ситуацией, но не носившей болезненно-психотического характера. В момент, относящийся к совершению правонарушения, признаков какого-либо временного болезненного расстройства душевной деятельности не обнаруживал. Как видно из материалов дела и настоящего психиатрического обследования, у него в тот момент отмечалось состояние эмоциональной напряженности, связанной все с той же ситуацией, не сопровождающейся психотической симптоматикой (бредом, галлюцинациям, искаженным восприятием окружающего). Поэтому в отношении инкриминируемого деяния Н. Р. Корякина следует считать вменяемым».
Сулимов пробежал бумагу, спрятал ее.
– Еще один вопрос, доктор… Так сложилось, что мы сейчас вынуждены держать его одного. Не преподнесет ли он нам какой-нибудь сюрприз?
– И долго ли вы его собираетесь изолировать?
– Вот это-то и хотелось бы нам от вас услышать – сколько суток выдержит безболезненно?
– Не могу поручиться, что такой субъект не завтра, так послезавтра не выдаст неожиданный симптом. Правда, ничего такого не случится, чтоб мы потом вынуждены были изменить заключение, посчитать невменяемым.
Но, уже выпроваживая Сулимова из кабинета, доктор на прощание все же бросил:
– Все-таки я бы на вашем месте постарался его не травмировать – крайне неустойчив, не защищен толстой шкурой…
И Сулимов понял: этот видавший виды человек, изо дня в день влезающий в чужие несчастья, со всех сторон окруженный изломанными людьми, бесхитростно, по-бабьи жалеет паренька. Почему-то вдруг Сулимов ощутил за собой неясную вину, словно что-то не сделал, не выполнил какого-то важного обещания. Но ничего никому он не обещал и честно делает все что может, сам жалеет непутевого преступничка, чист совестью. Чист, а поди ж ты, вина не проходила…
Он и раньше намеревался прямо из больницы завезти его к себе – собственно, допрашивать уже не о чем, во всем признался, надо лишь подписать протокол допроса. Подпись Коли Корякина нужна была сейчас для двух операций. Во-первых, вчера, расставаясь с его матерью, Сулимов обещал ей устроить свидание. И это можно провернуть сразу же, как только он предъявит оформленный протокол. Ну а во-вторых, есть основание рассчитывать, что и вовсе мальчишку отпустят на поруки.
Теперь Сулимову захотелось еще как-то поддержать парня: да, сорвался, да, натворил – самому и другим жутко, только не считай, такой-сякой, что жизнь твоя уже совсем кончена, искупить вину никогда не поздно, а мир не без добрых людей – и поймут и помогут, встанешь на ноги.
Однако когда Коля Корякин опустился на стул в кабинете – судорожно сведенные челюсти, прозрачные, опустошенные тоской глаза направлены куда-то мимо, сквозь стену, в беспросветную даль, – самого Сулимова охватила безнадежность, и произносить тут слова с бодренькими интонациями стало просто невозможно. Да и в протоколе, который он подготовил для подписи, ничего обнадеживающего не содержалось – не мог же он не внести туда признания о заранее заряженном ружье. Посочувствуешь и подсунешь – подпишись, убийство-то совершил не случайное, а преднамеренное!
Подавленный Сулимов предложил Коле внимательно перечитать написанное.
– Возрази, если не согласен, готов любое учесть.
Но Коля с явным нежеланием, насилуя себя, проглядел, нетвердой рукой вывел фамилию. Сообщение о свидании с матерью он выслушал равнодушно, казалось даже, пропустил мимо ушей, а вот обещание – попытаемся выпустить тебя на поруки – вызвало волнение:
– А куда денусь?.. Дома жить, где кровь про лил, – нет!.. И от людей же прятаться придется – убийца… Не надо!
Это рассердило Сулимова:
– Нам лучше знать, что надо, а что не надо. Дер жим под арестом тех, кто опасен или собирается скрыться. Тебе верим – ничего больше не натворишь и в бега не сорвешься. А где жить?.. Приютили же твою мать люди и тебе место найдут.
Все-таки вроде бы ободрил. Но Коля замкнулся – сцепленные челюсти и взгляд в далекое.
На том у них все и кончилось – вызвал милиционера, попросил увести.
Надо было доложить обо всем начальству, связаться с прокуратурой, побывать на месте работы покойного Рафаила Корякина – дел невпроворот, – а он сидел над раскрытой папкой и не мог заставить себя подняться.
Нельзя сказать, что Сулимов жил бездумно, работа такая, что постоянно ставит запутанные задачи – шевели мозгами! И шевелил, но всегда применительно к чему-то конкретному, к практическому. А отвлеченные рассуждения с душевными переливами – нет, и характер не тот, да и делу помеха. Должен быть собран, решителен, всегда ясно представлять, что к чему, не колебаться, не путаться и не раскисать в сомнениях.
Сейчас же вдруг набежало… Не то чтобы засомневался, а мысли улетали черт-те куда – к незнакомой деревеньке начала тридцатых годов, к Ваньке Клевому, кулацкому сынку, соблазнившему девку-батрачку, к ребенку, который еще не успел родиться, но уже получил прозвище «подкулачник». Должно быть, злое по тем временам прозвище…
Вон она где еще завязалась, крутая веревочка! Через голодные годы, через барачный поселок первой пятилетки, через войну потянулась она на улицу Менделеева, к прошлой ночи.
Телефонный звонок заставил его очнуться. Звонили из проходной.
– Тут сразу двое к вам просятся. Близкие знакомые убитого Корякина. Хотят что-то сообщить, говорят – важное.
– Откуда они?
– Работали вместе с Корякиным.
– Есть ли среди них Пухов?
– Никак нет. Рабинович и Клоповин их фамилии.
2
Они появились перед ним. Впереди низенький, с петушиной осаночкой, прыгающими глазами и наигранной бравадой явно робеющего, но решившегося на подвижничество человека. За ним, шаг отступя, громоздко-длинный, связанно шевелящийся тип, неподвижная физиономия которого выражала лишь извечную сонливость. Не нужно было быть особенно проницательным, чтоб понять: этот из тех, для кого все желания сводятся к одному неутоляемому – к водке. Такие обычно старательно обходят далеко стороной любые официальные учреждения, избегают наблюдающих за порядком. И то, что они вдруг решились по своему желанию проникнуть сквозь дверь, охраняемую дежурным милиционером, вызвано, должно быть, какими-то исключительными мотивами. Но еще неизвестно, по своему ли желанию здесь, не по чужой ли воле. В любом случае они достойны пристального внимания.
– Чем могу служить? – с подчеркнутой вежливостью, намеренно холодно, стараясь показать, что ничуть не удивлен и не очень заинтересован, спросил Сулимов.
Первый, с петушиной осаночкой, доблестно преодолел свою робость, ответил почти вызывающе:
– Спросите нас, кто мы такие, и вам станет понятно, что мы имеем кой-что сообщить товарищу начальнику.
– И кто же вы?
Посетитель с петушиной осаночкой еще сильней выпятил узкую грудь, повел носом в сторону своего до древесности равнодушного приятеля и воодушевленно объявил:
– Мы близкие друзья безвременно погибшего Рафаила Корякина!
– Для полного знакомства неплохо, чтоб вы еще и назвали себя.
– Ах, вас интересуют наши незначительные персоны!.. Соломон… И учтите – это мое настоящее имя… Соломон Борисович, увы, Рабинович. Да, еврей. Да, с двадцать пятого года рождения. И нет, нет! Под судом и следствием Соломон Рабинович никогда не был!
– Ну а вы? – Сулимов обратился ко второму.
– Клоповин я, Данила Васильевич, – объявил тот угрюмо.
– Достойнейший человек! – горячо воскликнул Соломон.
– То есть тоже не был под судом и следствием?
– Был, – с суровой простотой признался Клоповин.
– Даня, объясни! Даня, у товарища начальника может создаться нехорошее о тебе мнение!
– А что – был… В деревне из-под молотилки шапку зерна унес… С голодухи… Под указ попал, пять лет дали.
– И все! И все! Разве вы посчитаете это виной? – волновался Соломон.
Сулимов смотрел на этих людей и решал – выслушать их по одному или же не следует разбивать парочку? Если они явились с какими-то откровениями, то очень важно, чтоб не чувствовали себя связанными. Явно долго сговаривались, поодиночке навряд ли решились бы прийти сюда, разъедини – утратят чувство плеча, вместе с ним и запал. Соломон, может, что-то еще и выдаст, а из его дружка тогда слова не выдавишь. И, кроме того, они пока не свидетели, которых статья 158 Уголовно-процессуального кодекса обязывает допрашивать порознь, от предстоящего разговора зависит, станут ли ими. Нет, нельзя разбивать парочку, лучше потолковать в компании.
– Садитесь, – пригласил Сулимов. – Итак, вы оба были друзьями Рафаила Корякина?
– Первейшими! – отозвался Соломон.
– То есть собутыльниками? Вы такую дружбу имеете в виду?
Соломон скорбно вздохнул:
– Если хотите – да! Иных друзей покойный Рафа, скажу вам, не признавал. Но мы с Даней и сейчас, когда он ушел от нас навсегда, храним ему верность. Хотя Рафочка имел несдержанный характер и часто был груб с нами, мы с Даней ему все прощаем. Правда, Даня?
Даня выдавил из себя: «О чем звук!» – утробным баском.
– Так что же вы хотели мне сообщить?
Соломон набрал в грудь воздуху, на минуту замер, поводя выкаченными глазами.
– Вы, конечно, себе думаете, – заговорил он, – что, если б несчастный мальчик не убил своего папу, папа был жив. Так мы с Даней вам скажем: мальчик поспешил, папу и без него бы убили.
– Это догадки или у вас есть факты?
– Факт тот, что вы видите перед собой подручных… Да, как ни прискорбно, подручных убийцы! – возвестил Соломон. – Но, учтите, невольных, только сейчас понявших свою ужасную роль…
– Заявление, прямо сказать, оглушающее, – произнес Сулимов.
– А легко ли нам его сделать? Нет! Отнюдь! Но мы желаем остаться честными людьми. Правда, Даня?..
– Давайте по порядку.
– Два года назад нас с Даней наняли в покрасочный цех. Почему? Ни я, ни Даня в жизни никогда не правили и не красили машины. Но мы… мы, каемся, пристрастны к зелью! Да! К «зеленому змию». Сами скорбим, но… пьем! Вот за это-то нас и оформили…
– За пьянство?
– Именно! Чтоб были всегда под рукой у Рафаила Корякина! До нас возле него держали тоже двоих – Пашку Козла и Веньку Кривого, один не выдержал тяжелых обязанностей и отвалил, а другой доблестно сгорел на боевом посту. Нам так и было сказано: «Возьмете зверя на себя». Напрямую, товарищ начальник, напрямую!
– Пухов?
– Ах, вам уже известна эта фамилия? Тем лучше, тем лучше!.. Кому еще выгодно, чтоб Рафа Корякин не переставал пить! Если он завяжет, не станет брать в рот ни капли, то, скажите на милость, зачем ему тогда вкалывать и тянуть длинный рубль? Он не был сребролюбцем, наш покойный Рафочка. Но он любил больше нас с Даней трижды проклятое и трижды прекрасное состояние подогретости. Каждый из нас за него готов продать душу! За наши души, мою и Дани, ничего не дают. Зато душа Рафы – ой!.. Душа мастера, скажу вам, кое-чего стоит!
– Вы, кажется, забыли, что начали с того, что Пухову не выгодно, если Корякин бросит пить, – напомнил Сулимов.
– Хе! Да ясно же – Рафа тогда освободится от Пухова, Пухов лишится курочки, несущей золотые яички. Даня! Разве я не прав?
Даня нечленораздельно буркнул в знак согласия.
– Так что же, Пухов хотел убить курочку, несущую золотые яички? Не вяжется, Соломон!
– А что вы называете убийством? – подпрыгнул на стуле Соломон. – Кровососание, по-вашему, не убийство?
– Но желал Пухов смерти Корякина или не желал?
– Не желал! – с широким жестом возвестил Соломон. – Но понимал, что убивает!
– Он что, заставлял пить Корякина?
– Он? Сам? Ах, что вы, не надо нас смешить! Заставлять – фи… Нет, надо умно организовать, надо создать все условия, чтоб Рафа не просыхал, но только в свободное время. Если Рафочка выполняет срочный заказ (а несрочных у Рафочки не было) – все закрыто! Над ним строгий контроль, нас, изнемогающих, теснят в сторону: не время, когда освободится… Освободится! Вот свободы-то он и не получал – прыгай сразу в угар. Нет денег – бери в долг. Нужны добрые застольные друзья – пожалуйста. Они специально для этого и наняты. Им строго наказывается – не набирайтесь, сукины дети, на стороне, берегите себя для Рафочки! И если даже они заняты на работе – освободить их… Все условия, чтоб Рафочка не мог даже чуть-чуть задуматься. О-о! Даже о семье Рафиной за Рафочку думает сам Пухов, чтоб большой нужды не знала. Ни о чем не тревожься, дорогой Рафа, прожигай деньги, чтоб их заработать, зарабатывай, чтоб сразу прожигать, не смей застопорить, не то Пухову перестанет капать. Системка… И как она вам нравится, товарищ начальник?
– Вы оба эту систему понимали, а Корякин – нет? Уж настолько он был глуп? – спросил Сулимов.
И снова привел в трепетное состояние Соломона:
– Наоборот! Как раз наоборот! Он понимал, а мы с Даней не допирали. Он как доходил до накала, то на чем свет стоит ругательски клял Пухова. И что же? Шел к Пухову, чтобы снова добыть денег и про жечь их!
– Когда же вам открылось все?
Соломон в волнении вспорхнул со стула.
– Чувствовали давно – да! Но всю глубину не осознавали – тоже да! Но с глаз спала пелена, как только услышали от него же, от Пухова, что мальчик – папу… Кто мы? Помощники! По слепоте, по глупости, по слабости характеров, но помощники!..
– Сты-ыд! – прохрипел друг Даня.
– Именно! Именно! Мы с Даней почувствовали стыд! Все можно залить водкой – смерть родной мамы, любое горе, – но стыд… Один стыд не заливается этим снадобьем. От водки, скажу вам, он еще сильней разгорается… Мы вчера чуть-чуть прикоснулись за помин души Рафы Корякина. И как мы расстроились, как расстроились!.. Даня, сказал я, мы проклянем себя, если не откроем правду! Даня, говорил я, мы на час, на один только час должны стать мессией! Вы знаете, что такое мессия, товарищ начальник?
– Знаю! – обрезал Сулимов. – Не знаю одного – чем вы чище Пухова, на которого все взваливаете? Он корякинскими деньгами корыстовался, вы – водкой! Два сапога – пара.
Обвисшие щечки Соломона дрогнули, нос одеревенел.
– Да-ня-а! – с неподдельной горестью. – Мы с тобой по-благородному, мы очиститься, а нас припечатывают!.. К кому?!
– Хватит скоморошничать, Соломон! Объясните лучше разницу между вами и Пуховым.
Перекосившийся, с вознесенным носом Соломон напоминал в эту минуту умирающую экзотическую птицу.
– Объясню. Только попрошу – вглядитесь в нас…
– Да уж вижу.
– Некрасивы?.. Вы правы, вы правы – мы с Даней, да, безобразны! Но не спешите презирать нас. Мы – санитары. Если Пуховы извергают навоз, то мы им питаемся. Ой, что было бы, если б Рафа Корякин гулял без нас, со случайными! Один Бог это знает, что было бы!.. Ах, как он мог обижать, когда напивался, – пересказать нельзя, это надо видеть и слышать! Какими гнусными словами он нас обзывал, а особенно меня. Пьяный Рафочка всегда вспоминал, что я еврей. И он не только нас обзывал очень нехорошими словами, он еще бил нас. Смею вас уверить – у Рафочки были ой тяжелые кулаки. Кто бы стерпел это, кроме нас с Даней?.. Бедная жена Рафочки еще не знает, что ее немножечко спасали… Да, да, мы с Даней. Не мы бы, она имела совсем, совсем не то, что получала. Чуточку больше! Ха! Конечно же Рафочка был богатой натурой, после нас у него оставалось и на жену, и на несчастного сына… И Пухова мы тоже спасали, хотя он нас и презирал, но с этой целью – да, да – держал возле Рафочки. Поэтому прошу, очень прошу, не путайте нас с Пуховым. От него – грязь, после нас – крошечка чистоты. Конечно, навозные жуки плохо пахнут. От нас воротят нос, Даня! Скажи, Клоп, что мы к этому привыкли…
– Так какого же лешего вы стонете о Рафочке, сдается, не только жалеете, а даже готовы его любить?
Друг Даня издал горлом сложную руладу, а Соломон весь сморщился, отвел в сторону затравленные рыжие глаза.
– Вы счастливый человек, – сказал он. – Вас любили папа и мама, когда вы еще лежали в коляске. И вы не сможете понять нас с Даней, которых ни кто никогда не любил, а все отворачивались и говорили: пфе! Так вот что я вам скажу, счастливый человек: нас любил он! Да, он, этот злой, этот страшный Рафа, которого все боялись. И сам Пухов тоже его боялся… Да, Рафочка издевался над нами, оскорблял нас и бил даже… Но он не брезговал нами, мы были ему нужны… Ему! Да! А скажите мне: кому еще на свете нужен Соломон Рабинович, сорок девять лет назад нечаянно родившийся в местечке Выгода под Одессой? А кому нужен Даня Клоп, спившийся мужик из деревни Шишиха? Ужаснитесь, пожалуйста, за нас. Не можете?.. Я так и знал. А мы с Даней не можем забыть, что кому-то были нужны. И мы с Даней плачем, что снова – никому, никому…
Беспокойные, затравленные глаза Соломона и тяжелый взгляд Дани Клопа. Сулимов сидел перед ними, навалившись на стол.
– Вот оно как, – наконец выдавил он, – даже Рафаила Корякина кто-то оплакивает.
– Чистыми слезами! Учтите – чистыми! – тенористо воскликнул Соломон.
3
В природе приспособиться – значит выжить. Но человек никогда не удовлетворялся лишь одной возможностью выжить, сохранить себя и потомство. Наскальный рисунок первобытного художника не сулил выживания, тем не менее он тратил на него время и силы, отрывая их от добывания пищи насущной. И современные астрономы, изучая умопомрачительно далекие квазары, меньше всего думают, какое жизненно практическое применение найдут их открытия.
Человек ли тот, кто замкнулся на самосохранении – выжить и больше ничего? Да и возможно ли жить, отгородившись от того безбрежного, что окружает? Жизнь безжалостна к несведущим.
Василий Петрович Потехин (не хочу ничего знать, кроме своего!) – сейчас выписывает наряды на ремонт кухонных плиток, а недавно руководил большим газовым хозяйством – идет ко дну, намерен тащить за собой дочь.
Такие вот Василии Потехины чем пришибленнее, тем усерднее готовы вершить суровый суд: ты ошибаешься, а я теперь – нет. Что верно, то верно: Василий Петрович ошибок совершать уже больше не будет потому только, что не будет совершать и каких-либо поступков. И глядящим со стороны он станет казаться всегда правым.
Случилось убийство. Как хочется от него отодвинуться подальше и как это в общем-то просто сделать. Достаточно не признаться себе – совершил ошибку, тем более что она так смутна, так неощутима. Кто посмеет тебя подозревать, кому придет в голову тебя обвинить?..
И появится на свете еще один Василий Петрович Потехин – замкнут на себя, всегда и во всем правый, медленно опускающийся, лишенный уважения к себе и другим.
Нет! Нет! Ищи ошибку, уличай себя!
Жизнь безжалостна к несведущим… Но что знает любой из учеников о той большой жизни, с которой он сразу столкнется, как только выйдет из школы? Аркадий Кириллович преподавал литературу, да, фокусированно отражающую жизнь. Но какую жизнь? Чаще всего далекую от сегодняшней – жизнь графа Безухова и князя Мышкина, Ваньки Жукова и Алеши Пешкова. Даже жизнь более близких по времени Григория Мелехова и Василия Теркина разительно не похожа на нынешнюю.
Аркадий Кириллович вместе с другими учителями старался оберечь своих учеников от скверны мира. Пьянство, поножовщина, мошенничество, корыстолюбие – нет этого, есть трудовые подвиги, растущая сознательность, благородные поступки, праведные отношения. Хотя ученики не были слепы и глухи, некоторые росли в крайне неблагополучных семьях, знали улицу с изнанки, видели пьяных, сталкивались с хулиганством, бесстыдной корыстью, унижающей несправедливостью, но школа старалась сделать все, чтоб они забыли об этом. Из любви к ученику!
Нетребовательная любовь, любовь неразумная, ревниво оберегающая от всего дурного, питающая стерильной житейской кашицей, вместо того чтоб приучить к грубой подножной пище, – сколько матерей испортили ею своих детей, вырастив из них анемичных уродцев или махровых эгоистов-захребетников, не приспособленных к общежитию, отравляющих себе и другим существование. Что непростительно любящим матерям, должно ли прощаться любвеобильным педагогам?
Нередко можно услышать беспечное: зачем, собственно, учить жизни, она, жизнь, сама здорово учит. Учит – да! Но чему? Она может научить не только стойкости и благородству, но и отвечать на жестокость жестокостью, на оскорбление оскорблением, на подлость подлостью. Жизнь – стихия, и крайне неразумно надеяться, что слепая стихия способна подменить собой педагога.
Коля Корякин еще до выхода из школы применил в жизни науку любящего Аркадия Кирилловича…
А эту науку не менее старательно усваивали и другие.
Урок Аркадия Кирилловича в девятом «А» классе по расписанию был третьим…
4
До Коли не сразу дошло – он увидит мать!.. Осознал это, когда уже вышел от Сулимова. Нет, он не забывал о ее существовании, но она оставалась для него там, в прошлом, далеком и утерянном. Мать и отец – трудно представить более разных людей, но Коля также не мог представить себе их и поодиночке. Отца теперь нет, а мать скоро явится к нему. Умом понимал – странного тут ничего нет: мать жива, мать должна искать с ним встречи; но видеть ее и мириться, что нет отца, – противоестественно!
Всю миновавшую ночь он страдал за отца, любил его. Да, любил! Чем еще оправдать ему себя, как не любовью? Мать тут присутствовала где-то рядом, на нее уже не хватало у Коли ни страдания, ни любви. Наверное, в глубине души, в темном осадке, который он боялся потревожить – захлебнешься мутью! – даже пряталась досада на мать: из-за нее же он схватился за ружье.
Из-за нее… Но думать открыто он об этом не смел. Мать и ружье?.. Если кто и страшился ружья, то только она. И уж благодарить сына за то, что случилось, мать не станет, представить немыслимо. А вот упрекать – да! А как раз это-то и нужно сейчас – не оправдание, а упрек! Любящий упрек! Никто на свете на такое не способен, только она, мама!
Конечно, она и простит, можно не сомневаться. Но простит она не только его – отца тоже. Как ей не простить, когда отец так страшно наказан. Как ей тоже не чувствовать сейчас себя виновной перед отцом, как не жалеть ей его. Мама! Мама! Какое счастье, что ты есть на свете! Мама, одинаково с ним думающая, одинаково чувствующая, все понимающая гораздо лучше, чем он. Скоро увидятся! Они будут плакать вместе. Вместе – не один, значит, не так уж все страшно, значит, можно даже жить. Мама! Мама!..
Детский крик о помощи. Мама! – звук, с которого у человека начинаются самые первые отношения с родом людским. Мама! – извечное прибежище бессильных в несчастье. Изначальное для каждого существо, жизнь подарившая – мама!..
Еще не встретившись с матерью, Коля Корякин ощутил уже себя и не потерянным и не одиноким.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































