Текст книги "Ночь после выпуска (сборник)"
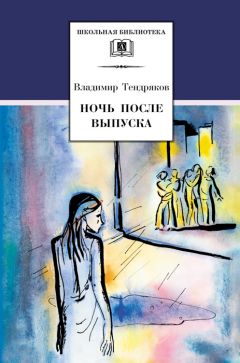
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Я вяло брел по улице, по обочине нефтянисто-черной реки, под мокро-пыльным светом фонарей. Освещенные окна домов глядели поверх моей шляпы равнодушно и неприветливо. Люди ревниво попрятались от заблудившегося прохожего вместе со своим нехитрым счастьем. Светят наглухо закрытые окна, задернуты занавески, арочные въезды во дворы заполнены вязким мраком, пустынна улица. Только где-то сзади побухивали чьи-то шаги в такт моим, с ленью, без спешки. Похоже, такой же заблудившийся…
Средневековье… Исповедь… Я вспомнил Веру.
Вот кто может меня выслушать. «Бог есть любовь!» Не покажет на порог, будет внимание, наверное, даже дочерние слезы будут. У меня к тому же есть вступительный взнос: «Вера, твой сын останется с тобой». Вступительный взнос живой душой – пусть останется с пьяницей отцом, с матерью-святошей…
«Кому повем печаль мою?»
Шаги за моей спиной, заблудшие, ленивые, под стать моим. Но что-то в них настойчивое, неотступное.
И я оглянулся.
Запыленная жидким светом фонарей улица упиралась в ночь. Под глухой стеной черной ночи, на окраине света, у прибрежия нефтянисто-черной асфальтовой реки – одинокая фигура. Она споткнулась оттого, что я обернулся. Человек ощутил направленный на него взгляд.
Кепчонка, ватник, руки заняты чем-то… И, еще не разглядев толком, я узнал – он! Тот водопроводчик, что подсел ко мне в автобусе. Всю дорогу он дремал, всю дорогу он не обращал на меня внимания, вспомнились его сомкнутые серые веки. Они слишком добросовестно были сомкнуты! Вспомнились и губы в окружении щетины – болевой изгиб… Я еще тогда завидовал ему…
Улица упиралась в ночь, и мутной влагой засеян воздух.
Он только споткнулся под моим взглядом, но не остановился, не метнулся, чтобы спрятаться. Он продолжал идти на меня.
Ночь в конце улицы, ночь, поглотившая дома и фонари. И шаги по мокрому асфальту: туп-туп, туп-туп!..
Шаг за шагом, ближе, ближе… Туп-туп! Туп-туп!..
И Леденев, Вера, жена, Зыбковец, Лева Бочаров, Лена Шорохова, Антон Елькин, старая церковь, Таня Граубе – вавилонская башня, нараставшая в течение дня, рухнула и рассыпалась. Ничего нет, только: туп-туп, туп-туп!.. Сейчас встретимся с глазу на глаз.
И я вдруг хлебнул воздух, бросился бежать…
Нет прошлого, нет будущего, есть минута, отделяющая его от меня. Жизнью не дорожил, смерти не боялся, страшней смерти ты сам, твоя взбунтовавшаяся совесть…
И нет совести, есть минута, одна неполная минута в какой-нибудь десяток-другой шагов.
Туп-туп-туп!.. Он бежит за мной, он старается проглотить спасительную минуту. Туп-туп-туп – стук рабочих ботинок по асфальту. Он моложе, он выносливей, мой бывший ученик… Только бы не сдало сердце, только бы хватило воздуха!..
Впереди вокзальная площадь. Там люди, много людей…
Туп-туп-туп!.. Он моложе.
Только бы хватило воздуха. К людям! К людям! В гущу людей! Живых, не спрятавшихся за стены, отзывчивых.
Туп-туп-туп!.. Ближе! Спасительная минута… Нет! Он моложе…
Ты храбрился – он не страшен, страшусь суда совести!.. Ты еще не знал, что такое страх. Страх травоядного перед хищником. Туп-туп-туп!
Рвется сердце, не хватает воздуха.
И уже молочный свет люминесцентных фонарей впереди. Уже площадь на виду, и тени прохожих, и машины…
34
Вырвался. Круто завернул за угол.
Шарахнулась от меня какая-то женщина…
Еще немного, еще подальше… Но сил уже нет, и сердце молотит где-то под горлом, и не могу дышать, не хватает воздуха.
Я припал к первому же столбу с раскрытым ртом, с дергающимися коленками, непослушными пальцами суетливо искал, за что бы зацепиться.
Тишина, хотя сердце набатно бьется на всю площадь. Тишина, хотя вижу, как разворачивается автобус, слышу звук его мотора. Тишина и голоса людей, идущих мимо. Тишина, не слышу – туп-туп-туп!
Оглядываюсь на угол дома, из-за которого я только что выскочил. Угол, а за ним сразу темная сырая улица с редкими фонарями, с мрачными арками, без прохожих. Он там притаился, он должен сейчас показаться.
Закричать? Созвать людей?.. Но воздуха не хватает, чтоб дышать, а уж кричать-то и подавно. И ноги не держат, любое лишнее усилие сбросит на землю, к подножию столба.
И к чему кричать, когда его нет. Тишина, весь мир заглушен моим подержанным сердцем. Но и сквозь набат своего сердца «туп-туп» я услышал бы. Тишина.
Я провел рукой по лбу, вытирая пот. Шляпы нет – потерял…
В черном небе раскаленная надпись над крышей вокзала: «КАРАСИНО» – вывеска моего родного города.
Напротив ярко освещенное кафе, оно без окон, просто застеклена вся стена, от мостовой до второго этажа. Там, за стеклом, в медовом свете сидели люди и всенародно, напоказ закусывали.
Мимо прошагал военный, по лаковому козырьку его фуражки рубиновой змейкой скользнула вокзальная надпись. Военный покосился на меня с превосходством и сочувственно: «Ну и нагрузился же ты, папаша!»
Лицо женщины, сменившее лицо военного. Женщине не до меня, углублена, озабочена, как бы скорей добраться до дому…
И где-то за сверкающей огнями широкой грудью вокзального здания, горделиво несущего вывеску моего города, успокоенно покрикивал маневровый паровозик.
Сердце перестало оглушать весь мир, из горла оно опустилось в грудь, колотилось уже в ребра. Я стал ощущать отрезвляюще сырой воздух, но все еще дрожали колени.
Вместе с отрезвляющим воздухом вернулись и трезвые мысли: «Герой. Целый день храбрился, шатался по улицам, в милицию не пошел, а тут откуда такая прыть?..» Даже трудно разобрать, стыд это или укор себе за неосмотрительность. Нет, все-таки стыд, но какой-то ватный, как мое обмякшее, огрузневшее тело. Выходя из дома Леденева, я думал, что у меня отнято все, больше ничего отнять нельзя, только постылую жизнь. Жизнь цела, но что-то все-таки отнято…
Гордость!
Гордился собой, что пренебрегаю смертью, что истина дороже жизни. Хотел даже встречи с ним, надеялся, что не дрогну. И рванул затравленным зайцем… Шляпу потерял… «Ну и нагрузился же ты, папаша…» Отнято, наверное, самое, самое последнее, а жизнь осталась.
– Здравствуйте, Николай Степанович, – тихий голос за спиной.
Я даже не вздрогнул, я, кажется, ждал этот голос. Я медленно, медленно обернулся.
Прижимая локтем брезентовую сумку, стоял он. Брюки с пузырями на коленях, мокрый ватник коробом, потасканное круглое лицо в знакомой щетине, красный, невпечатляющий нос – не страшен. Под сплющенной кепчонкой смутный и далекий блеск глаз. И я завороженно загляделся в эти глаза.
– Вы шляпу обронили, возьмите.
– Спасибо. – Я взял шляпу, стал чистить ее рукавом.
Помолчали.
– А вы, оказывается, отчаянный человек. Думал, как сурок, будете в своей норе прятаться. Нет, целый день свежим воздухом дышите, даже в скверике отдыхали.
– Что же не подошли? О вас думал.
– Вспомнить хотели, кто я такой?
– Не сумел.
– И то, каждого не запомнишь, да и лет прошло изрядно.
– Почему только сейчас объявились? Сколько удобных минут было… Хотя бы в сквере, а того лучше в подъезде…
– А вы думаете, мне удобно в затылочек? Не кошелек собираюсь отнять. Я судья вам, дорогой Николай Степанович, судья! Хочу глядеть вам в глаза, хочу услышать ваши оправдания. Оправдывайтесь! Если пожелаете, конечно…
– Пожелаю, отчего же…
– Вот и хорошо. Безнадежным дураком никогда вас не считал. Если не возражаете, то в том кафе… с удобствами и при свете.
Я все еще не мог оторвать плечо от столба.
– Ну что ж вы? Заело?
– Обождите, дайте отдышаться. Я же не молоденький – такие кроссы устраивать.
35
Кафе называлось «Березка». В городе недавно появилось несколько таких кафе – пластиковая роскошь, шедевры горпитовской лирики: «Березка», «Ласточка», «Ромашка». Они сменили дощато-фанерные безымянные «пиво-воды», как пятиэтажные дома сменили покосившиеся бараки.
Здесь было много света и много воздуха и, судя по тому, что полно свободных столиков, мало выпивки.
Перед тем как пересечь дорогу к кафе, мой опекун произнес:
– Смотрите, не вздумайте… Шаг вправо, шаг влево, как когда-то наставляли меня…
Мы заняли столик, вовсе не укромный, не у стены, в стороне, и не в углу, а на самой середине, напротив стеклянной стены. Мы заняли столик и сразу же попали в витрину кафе, в число показательно закусывающих.
По одну сторону за соседним столиком уныло ел яичницу человек командированно-периферийного вида, с тусклым галстучком на несвежей сорочке. По другую – нешумная компания молодежи, спиной ко мне девица, одетая в кричаще канареечный свитер, волосы рассыпаны по канареечным плечам.
Много света, и со всех сторон глаза, даже с улицы. Как не походило это место на те места, где, по моим представлениям, должны происходить убийства. Да и сам убийца не производил впечатления. Без своей кепки он оказался совершенно лыс, глазки мелкие, водянисто-серые, нос воробьино задорный, простуженно красный после гуляния под дождем. На вид ему можно дать сорок, а то и все пятьдесят. Нет, не могу узнать, безнадежно. Сколько прошло людей мимо, класс за классом…
Мой убийца деловито прислонил к столу спинки свободных стульев.
– Будет занято.
Столь же деловито вынул из сумки какой-то пакет из толстой серой бумаги (в такие пакеты в булочных отвешивают сушки и ванильные сухари). Пакет лег на стол тяжело и как-то неплотно.
– Так вот, – водянистые глазки в упор, – назначаю вас своим собственным адвокатом.
И я вдруг понял, что наконец-то нашел того, кто выслушает меня со вниманием, – можно исповедоваться до конца.
– На суде обычно первое слово дается обвинению.
– Можно начать и с обвинения. Вижу, вы меня так и не узнаете?
Я с настойчивой пытливостью вглядывался в него – плоская лысина, нос стручком, что-то есть в складке губ зыбко знакомое… На эту горькую складочку я обратил внимание еще в автобусе.
– Не вспомню, – со вздохом признался я.
– Моя фамилия Кропотов. Сергей Кропотов, – произнес он сухо.
– Обождите, обождите… Тот самый, у которого отец?..
– Да, тот самый.
– Сережа Кропотов, такой тихий и милый мальчик… Трудно поверить.
Он равнодушно вздохнул.
– Двадцать лет спустя, роман с продолжением…
Я вглядывался в него и всеми силами старался увидеть под одутловатой, тяжело-свинцовой физиономией девичьи-акварельное лицо с зачесом русых волос, паренька в выгоревшей байковой куртке с молнией. Кажется, я уловил сходство, смутное, как шум морского прибоя в раковине, поднесенной к уху.
Он был самым обычным из моих учеников: вполне прилично учился, недурно рисовал, оформлял общешкольную стенгазету, выбирался в разные комиссии и комитеты. К нему я не испытывал никогда ни большой любви, ни сильной антипатии. Однажды я спас его от исключения из школы.
– Да, пожалуй… Сережа Кропотов. Но как вы изменились!
Он промолчал с выражением суровой торжественности на небритой физиономии.
– За что же вы меня?.. Право, теряюсь в догадках.
– Вы слишком спешите, Николай Степанович, – с победной небрежностью усмехнулся он и пошевелил громоздкий пакет на столе.
Похоже, он давно готовился к своей праведной роли и сейчас играл ее слишком усердно, потому переигрывал.
Мать его, помнится, служила то ли делопроизводителем, то ли инкассатором. Он был единственным сыном, всегда отутюженный, заштопанный, умытый – эдакий наглядный экспонат материнского усердия: «Мы не хуже других». Впрочем, в те годы «не хуже других» стать было не трудно, только-только прошла война, все еще жили впроголодь, одевались не форсисто.
Отец его еще в сорок первом пропал без вести. Таких – не живых и не убитых – в те годы было немало. Редко кто из них возвращался, чаще в военкомате переносили их фамилии в списки погибших, чтоб семья могла получать законную пенсию.
Но вдруг полтора года спустя после окончания войны отец Кропотова объявился в Карасино. Он спрятался в доме и не показывался на улице, но досужая молва расписывала его портрет: «Зачервивел, в коросте весь… Стариком выглядит… Из-под Воркуты прибыл, защитничек родины».
Уже не помню, на каком школьном собрании и кто первый выразил недоверие Сергею Кропотову: «Скрывает, что отец его изменник родины, был полицаем у немцев…» Обычно тихий Сергей тут раскричался со слезами на глазах – отец его не изменник, к немцам он попал раненым, он, Сергей Кропотов, гордится своим отцом…
Наш директор школы, монументально-величавый старик, занимавший когда-то высокие должности, был по природе человеком очень добрым, умудренно-покладистым, однако весьма осторожным, любил повторять: «В наше горячее время каждый должен быть немного пожарником».
Сначала он сделал вид, что не замечает разгоревшегося сыр-бора вокруг Кропотова-сына, авось пожар сам по себе погаснет. Но к нему в кабинет явилась делегация из ребят-активистов. Они поставили вопрос ребром: Сергей Кропотов защищает своего отца – изменника родины, если Кропотова не исключат из школы, они через голову директора вынуждены будут обратиться в более высокие инстанции.
Директор их выслушал, похвалил за бдительность, пообещал принять меры, выпроводил и вызвал меня.
– Как по-вашему, следует исключать Кропотова из школы? – спросил он.
– Нет.
– Ну и прекрасно. Постарайтесь спасти его.
– Каким путем?
– Это уж ваше дело. Только боже вас упаси выглядеть защитником отца Кропотова. Кажется, он и на самом деле в поддавки с немцами играл.
Я не стал действовать вслепую, решил навести справки. Оказалось, что дело Кропотова-старшего чрезвычайно запутано: при отступлении наших войск он был взят в плен немцами, установлено – выпущен ими на поселение, а значит, имел перед ними какие-то заслуги или, того хуже, давал им какие-то обещания; но в то же время есть сведения – был связан с нашим партизанским отрядом, оказывал крупную помощь. Неизвестно кому, немцам или партизанам, служил он не за страх, а за совесть. По недостаточности улик его освободили из заключения, но не от подозрений – выслан по месту жительства, запрещено выезжать, обязан отмечаться…
Я оставил после уроков Сергея Кропотова… Нет, я сейчас, конечно, не помню, что именно ему говорил. Много мне на веку приходилось вести таких вот душеспасительных бесед – это одна из будничных обязанностей любого педагога. Дословно не помню, но в общих-то чертах нетрудно догадаться о чем… Нет, мол, оснований утверждать, что его отца судили несправедливо, не следует кричать и возмущаться, противопоставлять себя коллективу и т. д. и т. п. Осторожно втолковывал, осторожно урезонивал…
Мне искренне хотелось спасти Сережу Кропотова. И кажется, я преуспел в этом – он благополучно окончил школу.
36
К нам подошла официантка.
– Я вас слушаю.
Уставилась поверх наших голов, нацелив заточенный карандашик в блокнот.
– Бутылку минеральной и… яичницу, – поспешно ответил Кропотов.
– А мне чего-нибудь покрепче, – попросил я.
У меня сильно зашибал отец, зато я всю жизнь был примерным трезвенником, выпивал по большим праздникам. Сейчас меня тоже начинало охватывать ощущение если не праздничности, то, во всяком случае, исключительности минуты.
– Водки не держим. Коньяк «Пять звездочек», – сообщила официантка.
«Пять звездочек», наверно, дорого, хватит ли денег? – подумал я и тут же про себя усмехнулся: – А придется ли еще расплачиваться-то?»
Передо мной сияло кафе – травянисто-зеленый пластик пола, белые стены, крапленные черным под бересту, желтые спинки стульев, маслянисто-темная стеклянная стена, кое-где матово отпотевшая. Здесь?! Здесь скоро начнется паника, девица в канареечном свитере, что сидит ко мне спиной, истерично закричит, а сельскому командировочному, вернувшись домой, будет что порассказать. Я почувствовал медный привкус во рту.
– Так берете или нет коньяк? Второй раз спрашиваю.
– Не берет, – вдруг решительно сказал за меня Кропотов. – Сегодня мы, красавица, пьем минеральную. Еще бутылочку боржоми и яичницу.
Я не стал спорить, и официантка, устало покачивая бедрами, удалилась.
– Не рассчитывайте споить меня. Не выйдет! – заносчиво произнес Кропотов.
– А ежели я собирался пожить напоследок?.. – усмехнулся я. – Вам, наверное, безразлично какого?..
– Нет, не безразлично! Не хочу иметь дело с невменяемым. Еще раз напоминаю – здесь суд! Суд беспристрастный и праведный!.. – запальчиво и с пафосом.
– Ладно, не будем ссориться по мелочам, к делу! Начинайте свою обвинительную речь. – Я уселся поудобнее и уставился на Кропотова.
Он снова пошевелил пакет на столе, скользнул по мне тусклыми, словно оцинкованными глазами, заговорил:
– Начну с того, что вам, наверное, необязательно даже знать. Мой отец… Он и в самом деле месяц служил полицаем.
Я пожал плечами. К чему мне теперь эта чужая новость двадцатилетней давности.
– И все это время он был связан со своим партизанским отрядом. Командир отряда жив, недавно вы ступил в печати, упомянул добрым словом моего отца. Да! Налицо документ! Вот эта газета!.. – Кропотов картинным, отработанным жестом полез во внутренний карман своего замусоленного пиджака.
Я остановил его:
– Верю, что невиновен. Дальше.
Кропотов взвился:
– Невиновен! Ишь как легко! Вы бы тогда так вот пели.
– Ни тогда, ни теперь не брал и не беру на себя судейских полномочий.
– Вот именно, на себя не брали, а меня заставили осудить.
– Не заставлял, скорей, советовал.
– А что такое совет учителя? Не осудишь – погибнешь, осудишь – будешь благоденствовать. Что это, как не своеобразное духовное насилие опытного и искушенного над неопытным?!
И меня взорвало:
– Послушайте, вы! Бывший Сережа Кропотов! Уж если вы взялись судить, то судите, а не занимайтесь художественной подтасовкой. Я насильник? Как же! Я ведь тогда действовал из желания навредить вам, а не принести пользу.
Его глаза вдруг заблестели, щеки затряслись, он захлюпал влажным смешком.
– Хе-хе! Вам не стыдно говорить о пользе? Хе-хе!.. – И выпятил грудь. – Взгляните на меня! Взгляните внимательней! Не отводите взгляда!.. Видите, я в славе, я в почестях, я в богатстве! Мне по шла на пользу ваша высокая и бескорыстная забота! Вы меня облагодетельствовали!..
Мне начинал действовать на нервы этот краснобай.
Я спросил:
– Хотите взвалить ответственность на меня за свои неудачи? Вы бы и без меня стали тем, кто есть.
Кропотов, бывший мой ученик, будущий мой убийца, минуту пробыл в задумчивости, наконец сказал важно и миролюбиво:
– Вот это-то мы и должны выяснить – стал бы я без вас… Итак, вы уговаривали меня отмежеваться от отца… А знаете ли вы, кто вам помогал в этом?
– Знаю – ваша мать.
– И не только! Мой отец тоже! Мой отец был величайшей души человек! Он считал: жизнь его безнадежно изломана войной, ему уже не прибудет и не убудет, самое страшное, если покалечат еще жизнь сыну… Словом, он был ваш верный, ваш горячий союзник!..
– Значит, вы с таким же успехом можете повесить свое обвинение на отца, как и на меня, – заметил я.
И он вдруг бурно восторжествовал:
– Ага! Я этого ждал! Я ждал этого!.. Прячетесь!..
– Прячусь? От кого?
– От своей совести. Ишь как, с моим отцом одинаков!.. – Кропотов подавился смешком и расправил плечи, холодно взглянул на меня оцинкованными глазами. – Вы помните то собрание?
– О каком вы говорите?
– Да о том самом, где сын публично каялся за родного отца. Какая была тишина! Какое захватывающее зрелище!.. Я выполнял ваш благой совет, осуждал…
– А без меня вы бы этого не сделали?
– Нет! – ответил Кропотов и повторил с жаром: – Нет, нет! Отец, мать требовали… Я бы их не послушался, я бы не принял жертвы отца… Но вот стал убеждать человек посторонний, авторитетный, умный, бескорыстный… Да, да! Ваше бескорыстие сыграло свою злую роль!.. Я перестал верить своей совести, поверил вам! Какая была тишина, когда я говорил: осуждаю!.. Глядите на меня, глядите!.. Именно с этих слов началось мое «позабыт, позаброшен». После этих слов я стал сиротеть. Стремительно! Сиротеть и портиться!..
– Обычные жалобы неудачника: меня, хорошего, дурной мир обидел, – произнес я сердито.
Казалось, он не слышал меня, повторял, глядя в сторону:
– С этих слов… С них!.. Я произнес их, а при шел-то домой, к отцу. Я жил рядом с отцом и стыдился смотреть ему в глаза. Я знал, что этим его обижаю, но ничего не мог поделать. Мучительно быть рядом с человеком, о котором недавно принародно говорил ужасные слова. Для отца же единственной наградой за этот позор могла быть лишь моя сыновья близость. А тут еще мать… Она хотела задобрить отца, старалась говорить c ним заискивающе-ласково, со мной грубо: «Лешенька, ты таблеточки свои принял?.. Ты, идол, чего стоишь столбом? Беги, принеси отцу водички!» Отца это коробило, а меня, молодого дурака, оскорбляло: я же не хотел, они оба сами меня уламывали, сами же теперь презирают меня. Я первый начал срываться – кричал на мать. Мать ударялась в слезы, вопила, что она из себя жилы тянет ради нас. Отец молчал и смотрел волком…

Кропотов не расправлял плеч, не вздергивал подбородка, на этот раз не играл в судью, а рассказывал. Его одутловатое лицо покрылось легкой красочкой, глаза беспомощно блуждали по столу, а руки беспокойно сжимались и разжимались – черствые руки рабочего. На минуту он поднял покрасневшее лицо, размягченные, почти жалобные глаза, подождал вопрошающе – не возражу ли?.. Я не возражал, мне нечего было сказать. И тогда он снова опустил голову и заговорил. Он, наверное, как и я, давно искал человека, который бы его со вниманием выслушал. Со вниманием, заинтересованно… Он не ошибся, я его слушал затаив дыхание.
– Помните у Чехова в «Трех сестрах»… Помните, там твердили: «В Москву! В Москву!..» У нас в семье появился такой же припев: «Уехать! В Череповец, к Соне!..» Сестра отца, Соня, нас не знала и в нас не нуждалась, но нам казалось, что во всем виновато Карасино, стоит только вырваться из этого гноища, как все станет по-прежнему, мы будем любить друг друга, жертвовать друг для друга собою. Мы уехали, правда, не к тете Соне в Череповец… Э-э, зачем вам подробности?.. Я тогда уже крупно не ладил с матерью, по примеру отца тоже начал пить, впутался в уголовную историю, попал под суд. Какая цепь! Какое гнусное ожерелье! Одно тянуло за собой другое… А началось со слов, которые я произнес на собрании…
Кропотов пригнулся к столу, сжал лысину руками, замолчал.
А за соседним столиком расшумелась молодежь, перестреливалась тугими научно-техническими терминами и громкими именами: «Инвариантность!.. Неэвклидов континуум!.. Де Бройль! Дирак!..»
Звенело у меня в ушах от молодых голосов и рябило в глазах от волос девицы, рассыпанных по канареечным плечам.
Да, так оно и было, я виновен, но, право же, невольно. Сегодня весь день я занимался раскопками, пласт за пластом вскрывал свою совесть, подымал наружу окаменевших уродцев. Знал бы Кропотов, что среди этих уродцев открылись мне куда более неприглядные, чем тот, которым он сейчас тычет мне в нос.
Как, однако, люди зависят друг от друга. Двадцать лет назад я имел несчастье неудачно посоветовать. Я хотел спасти человека этим советом! И вот он передо мной: «Я алкоголик… Представитель человеческих отбросов… Вас убить!» Живой укор, грозное обвинение!
Я спросил его:
– Вы все-таки не отрицаете, что я хотел тогда вам помочь?
Он пошевелился, отнял руки от лысины, ответил устало и вызывающе:
– Не отрицаю. И что из этого?
– Из этого следует новый вопрос: можно ли судить человека за то, что он хотел помочь другому? По-мочь!
И он снова вскинулся: небритый, помятый, негодующий, смешной и грозный.
– Да! – выдохнул он. – Да! Помощь Иуды… Скажите, что она неподсудна!
– Помилуйте, какой я Иуда. Я не собирался продавать вас за тридцать сребреников, наоборот…
– Николай Степанович! – торжественно провозгласил мой помятый, простуженно-красноносый судья. – Вы не прохвост! Нет! Будь вы обычным прохвостом, я бы и не подумал покушаться на вашу жизнь. Черт с вами, одним прохвостом больше, одним меньше – так ли уж страшно.
– Неужели искренний, пусть заблуждающийся человек страшней беспринципного прохвоста?
– Заблуждающийся – да! Заблуждающийся страшней!
Глаза его потускнели и потяжелели, спина распрямилась, плечи раздвинулись, в голосе послышались прежние нотки судейского превосходства. Кажется, я затронул нужную струну. По всей вероятности, у него давно уже разработано соло на тему заблуждений и преступности, наверное, он много лет исполнял его за кружкой пива. «Заблуждающийся страшней!» – победность в голосе. Похоже, я сейчас услышу философское обоснование приговора: «Убить Вас!»
– Обычный прохвост делает гнусности, скажем, клевещет, но в глубине-то души понимает, что по ступает плохо. Он всего-навсего нарушает правила. А тот, кто искренне убежден, что клевета под каким-то соусом или другое что-то в этом роде необходимо человечеству, этот, извините, уже не просто нарушает правила, он возводит подлость в правило! Вы, Ечевин, не подлец, вы вредная людям идея!
Он глядел мне в переносицу холодными матовыми глазами. Одутловатые щетинистые щеки, птичий нос и… горделиво-алчное выражение непримиримости.
Врачу – исцелися сам! Он тоже не человек, а идея, не простой убийца, а жрец, очищающий мир от скверны. Что станется с этим миром, если житейские заблуждения начнут наказываться смертью? Что такое хорошо? Что такое плохо? Кто знает это точно? Кто из нас не заблуждался в жизни, не сбрасывал с себя своих заблуждений, чтоб принять новые? Не сметь заблуждаться – смерть! Страшней духовной диктатуры не придумаешь. Матовые глаза, щетинистые щеки, птичий нос – судья суровый и праведный, судья, защищающий мир, не меньше!
Нетрудно опровергнуть этого доморощенного судью вместе с его подозрительной праведностью. Нетрудно кому-то беспристрастному, но только не ему самому. Наверняка не год и не два, а много лет сочинял свое философское кредо, как ни зыбко оно и ни уязвимо, но помогало ему сносить и оскорбительные несчастья, и презрение окружающих – значительным-де занимаюсь, лелею спасение человечества. А спасал-то он сам себя – от самонеуважения. Мне нынче это так понятно. И вину я перед ним все-таки чувствую. Безнадежно опровергать – не услышит, не воспримет, ничего не получится, кроме скандальной склоки. Ну не-ет, не унижусь до нее, даже если суждено погибнуть, постараюсь быть выше своего судьи. Пусть почувствует, на кого замахивается.
– Итак, – спросил я, – вы меня приговорили за заблуждения?
– Не за случайные и не за малые!
– На основании одного лишь события… двадцатилетней давности?
Судья, охраняющий человечество от меня, надулся от важности.
– Нет, Николай Степанович, не пройдет! Тот двадцатилетний случай только толчок, я давно уже слежу за вами, собираю на вас материал, давно взвешиваю, имеете ли вы право жить на белом свете.
– И что же вы собрали?
– Кое-какие сведения о некоторых ваших учениках.
– Например?
– Например, Щапов, ныне директор областного сельхозинститута. Ваш ученик?
– Мой, ну и что?
– Вы помните, на чем он вылез?
– Откуда мне знать, я не слежу за его научными работами.
– А их у него, собственно научных, нет. Он вылез на том, что был одним из экзекуторов профессора Долгова, презренного менделиста-морганиста. После смерти Долгов оправдан и прославлен, имя его присвоено институту, а директором этого института сейчас… Щапов.
– Даже если он, Вася Щапов, и злодей, при чем тут я, его школьный учитель? Он мог стать им и без меня.
– А вспомните, что писал Щапов недавно, во время вашего юбилея: «Наставник, которому я благодарен буду до конца своих дней…» Вы плодите щаповых, щаповы плодят себе подобных – расползается по миру зловещая гниль. И вас славят за это!
– Почему вы выбрали из моих учеников Щапова? Наверное, знаете Женю Макарова – довольно известный вирусолог, его-то научные труды вне подозрений. Он тоже откликнулся на юбилей – благодарен… Пусть это пустая вежливость, пусть не я помог стать Жене ученым, но и не испортил же его! А вот Гриша Бухалов… Да, да, на моем счету есть и такие…
– А на вашем ли? Неужели вы считаете себя на столько могущественным, что способны вытравить в любом и каждом все то, что вложили природа и общество? Не заноситесь!
Бесстрастность на небритой физиономии, морозом скованные глаза – мессия! Убийством восстанавливать справедливость! Могу ручаться, что Щапов, которым он возмущается, ни разу в жизни не помышлял о таком. Глядя прямо в его мелкие зрачки, я заговорил:
– Я выучил Гришу Бухалова не только азбуке и таблице умножения. Я первый ему рассказал, что такое Родина, за которую он погиб. Вы можете отнять у меня жизнь, но отнять таких, как Гриша Бухалов, для вас непосильно.
И мой суровый судья отвел глаза, с минуту молчал, потом произнес, как мне показалось, уважительно:
– Знал, что вы будете защищать себя умело. Но… – судья тряхнул лысой головой, – попробуйте развить вашу защиту дальше, скажите, что Щапову вы рассказывали о Родине не то, что Бухалову.
– Бухалов Гриша был мне почти сыном, много ближе Щапова! Значит, и получил от меня больше. Так по кому же мерять мое?
– Быть к вам ближе, получить от вас больше… Да вспомните дочь, Ечевин, родную дочь.
И я поспешно оборвал его:
– Не трогайте этого! Ради бога! Прошу!
Он замолчал, разглядывая меня в упор, кажется, в его глазах сквозь холодную оцинкованность проступило сочувствие.
Выходит, он еще и добросовестный судья – осведомлен не только о школьных, но и о моих семейных делах. Впрочем, неудивительно – весь город говорит о моей беде с Верой.
– Не буду трогать, – согласился он. – Но тогда и вы уж защищайтесь поосторожнее.
Появилась официантка, поставила перед нами бутылки с боржоми и тарелки с яичницей-глазуньей.
– А так ли уж нужно мне защищать себя перед вами? – спросил я, когда официантка удалилась.
– То есть?.. – насторожился Кропотов.
– У меня есть забота поважней.
– А именно?
– Защищаться перед своей совестью.
Кропотов криво усмехнулся:
– Дешевка. Не купите. Не выйдет!
– Как вы думаете, прочитав ваше письмо, должен был я оглянуться на себя, порыться в прошлом – за что же, собственно, меня так? А?..
– Н-ну, положим.
– А как вы думаете, вспомнил я о вас?..
– Вроде нет.
– То-то и оно, Кропотов. Я увидел у себя грехи покрупнее, попронзительнее. Почему только ваша история достойна мучений совести, а не те, что мне вспомнились первыми?.. Право, мне теперь не до вас.
– Хотите растрогать меня кротостью? Не клюну!
– Хотел… Совсем недавно мечтал с вами увидеться, кротчайше заявить: вы можете меня убить, но помните, что убьете другого человека. Я изболелся! Я прозрел. Я переродился. Между мной и моим однофамильцем из вчерашнего дня нет ничего общего. Убейте меня, но это будет убийство без необходимости.
– И вы рассчитывали, что я раскисну, расчувствуюсь, облобызаю вас в медовые уста.
– Я верил – переродился! – и рассчитывал заразить вас своей верой.
– А сейчас?
– Нет.
– Чего так?
– Я недавно понял, что не могу по-иному, по-новому поступать. Не могу, скажем, написать иную характеристику своей ученице! Стать иным рад бы, но нет… Не выношу себя и не могу измениться. Вы понимаете меня, Кропотов?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































