Текст книги "Турдейская Манон Леско"
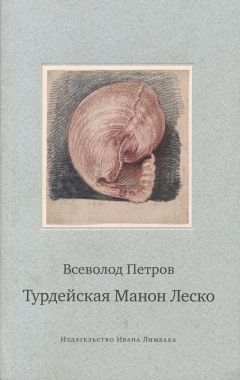
Автор книги: Всеволод Петров
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
XV
Наутро мы приехали в О*** и снова встали на запасный путь, в тупике, среди одинаковых, ровных верениц эшелонов. Кругом не было ни деревца, ни кустика, как будто все было сожжено; ни одной деревни не виднелось вокруг.
«Все становится отвлеченным, если действие совершается без фона», – подумал я.
– На редкость унылое, безотрадное место, – сказала Нина Алексеевна, – даже не хочется идти гулять.
– Я пойду посмотреть, нет ли здесь телеграфа, – сказал я.
– Пошлите для меня телеграмму, – попросила Вера и подала мне листочек. Там было написано: «Подождите меня у вокзала. Я приду через десять минут».
Асламазян и Нина Алексеевна усмехнулись. Левит и капитанша крякнули. Галопова как-то пискнула.
– С удовольствием пошлю, – серьезно сказал я Вере.
Сразу за разрушенной станцией шло пустое бескрайнее снежное поле. Какие-то черные точки, не то люди, не то птицы, кое-где терялись в нем. Когда мы отошли, станция тоже скрылась за снежными буграми. Сквозь поле вела витая затейливая тропинка.
– Вы как-то изменились, Верочка, – сказал я, – вы теперь не такая живая, как были раньше.
– Это потому, что я с вами, – ответила Вера.
– Мне совершенно не нужно, чтобы вы скучали под нарами, – сказал я, – помните, как вы раньше первая выскакивали из вагона и куда-то пропадали? А теперь вы не ходите даже на танцы.
– Вы сами станете плохо обо мне думать, если я буду уходить, – сказала Вера.
– Нет, не стану, – сказал я. – Мне мило все, что вы делаете. – «Я все равно вас буду любить», – хотел сказать я, но вспомнил, что нельзя говорить о любви. – Вы должны делать все, что вам свойственно, – сказал я.
– Вы, наверно, думаете, что мне свойственны всякие гадости, – ответила Вера, – а знаете, куда я убегала? Помните, как я раз приехала на паровозе? Я тогда увидела в поле избушку, такую беленькую, и мне захотелось до нее дойти. Оборачиваюсь, а поезд ушел. Я все-таки туда дошла. У меня всегда так бывает: выйду и пойду, сама не знаю куда, или вдруг пойду и расплачусь, и тоже сама не знаю чему, а больше ничего у меня нет, – сказала Вера так искренне, что, должно быть, сама себе верила, и на глазах у нее показались слезы.
– Значит, вы сами не понимаете своих желаний, вы о чем-то мечтаете, сами, может быть, не зная о чем, – сказал я.
– Я хочу всегда быть с вами, – ответила Вера.
Я крепче взял ее за руку и молчал, потому что нельзя было говорить о любви.
– Я сама не знаю, что со мной, – сказала Вера. – Мне сначала смешно было, как вы мне говорили и задыхались как-то. Но только я всегда хотела быть с вами. Я чувствую, что-то должно быть, а что – не могу понять. Я хочу, чтобы вы опять смотрели на меня, как раньше, и говорили бы, что любите меня.
– Я буду говорить, а вы станете отмалчиваться, Верочка? – сказал я. – А потом опять убежите с Розаем? – тихонько сказал я и на секунду обнял ее плечи.
– Я никогда, никогда не сделаю вам больно, – сказала Вера и сама обняла меня.
Я высвободился.
– Знаете, Верочка, вы не станете для меня хуже, что бы вы ни сделали, – сказал я.
– Нет, я хочу, чтобы вы меня любили, – сказала Вера и стремительно поцеловала меня в губы.
«Верочка, разве можно любить больше», – чуть не сказал я, но заметил, что к нам идут, и выпрямился.
– Извините, мы, кажется, вам помешали, – сказала Нина Алексеевна, подходя к нам вместе с Асламазяном, – но там объявили, что эшелон сейчас уйдет, и нам пришлось вас разыскивать.
– Как вы можете помешать? – сказал я. – Мы просто гуляем. По-моему, это поле совсем не так безотрадно, как вам показалось сначала.
– Голое, пустое поле, совершенно неинтересное. Снег и больше ничего, – ответила Нина Алексеевна.
– Настоящий шекспировский пейзаж, как будто из «Короля Лира», – с увлечением сказал я.
– А что такое Манон Леско? – неожиданно спросила Вера.
– Женщина, созданная для любви, – ответила Нина Алексеевна.
– Девушки мне сказали, что это самое обидное название для женщины, «Манон Леско», – сказала Вера, – и что будто вы меня так называете, – сказала она мне тихонько.
– А вы как считаете насчет Манон Леско? – спросила Нина Алексеевна у Асламазяна.
– Я не знаю, – сказал Асламазян.
– А я думаю, что Манон Леско – самая прелестная, самая трогательная из всех героинь и нельзя не любить ее, – сказал я с увлечением.
В этих разговорах мы дошли до теплушки. Асламазян галантно подсадил сначала Нину Алексеевну, потом Веру. Мы с ним постояли у двери, уступая друг другу подножку, как Чичиков и Манилов, и эшелон снова пошел.
XVI
Поезд остановился так неожиданно, как будто спереди его хлопнули по паровозному носу; он даже отпрянул назад; наша теплушка задергалась, котелки посыпались на пол, печка зашипела, облитая супом. Все бросились открывать вагонную дверь. Перед нами были высокие снежные холмы, где-то виднелась роща, в стороне стояла деревня. Все столпились у двери. Вера подошла ко мне и тихонько сказала:
– Вы мой милый. Теперь вы знаете, что я вас люблю.
– Наконец-то, – сказал я ей на ухо.
– Я тоже подумала «наконец-то», когда мне захотелось вам это сказать; как хорошо, что мы подумали одинаково, – сказала Вера.
Все смотрели в пустое поле. Было непонятно, почему мы стоим. Асламазян пошел узнавать.
– Мы на разъезде; может быть, сейчас пойдем, а может быть, простоим долго, – сообщил он.
– Я думаю, можно все-таки погулять на этом холме, – сказал я, направляясь к двери.
В это время в наш вагон вошел Розай. Со дня похищения Веры он у нас не появлялся. Он и Веру, должно быть, с тех пор не видел. Мне показалось, что он осунулся и пожелтел. Глаза у него были живые, быстрые, похожие на Верины. Он мне нравился, несмотря ни на что. Он сел на дрова, и девушки сразу его окружили. Я посмотрел на Веру. Она стояла спиной ко мне и спиной к Розаю, тоненькая, вытянутая, как будто готовая сорваться с места. Мне слишком тяжело было видеть новую сцену между ней и Розаем. А сцена была неизбежна. Я отвернулся и вышел.
Я с остановившимся сердцем подымался на холмик и увязал в снегу. Я не видел, как Вера метнулась за мной из вагона. Она подбежала ко мне запыхавшись и сказала мне:
– Милый, милый.
– Верочка, мне не нужно никаких жертв, – сказал я и сразу понял, что было жестоко говорить ей так.
Мы перебежали через холмик. Вагон от нас скрылся. Вера прижалась ко мне и заплакала.
– Вера, – сказал я, чувствуя, что слезы и у меня подступают к горлу, – Верочка, можно ли любить больше, чем я вас люблю.
Когда мы вернулись, Розая давно уже не было в нашем вагоне, и мы не хотели о нем вспоминать. На нарах уже укладывались на ночь. Нам трудно было расстаться. Я погасил фонарь; мы сели рядом у печки и долго сидели вдвоем. Я по-старому не мог оторвать глаз от Веры. Она положила голову мне на плечо так доверчиво и так нежно, что сердце у меня сжалось.
– Как по-французски «теплый ветер»? – спросила меня Вера.
Я сказал.
– Когда мне захочется сказать вам «мой милый», я при всех, на весь вагон буду говорить вам «vent chaud».
XVII
У разъезда было французское, какое-то бретонское название: Турдей, а на соседнем холме стояла разоренная вражеским нашествием русская деревня Каменка. Деревенские собаки, на низких лапах, похожие на лис, подбегали к вагонам подбирать объедки, выкинутые в снег. Мы встали на этом разъезде так прочно, что колеса вагонов покрылись толстой снежной корочкой. Солнце стало светить каждый день, как будто уже начиналась весна; снег на полях оседал. Из-под снега торчали сухие травинки, цветочки, какие-то веточки. Вера их собирала. С этими букетами мы возвращались с наших прогулок.
Метаморфоза произошла незаметно. У меня начались удивительные дни. Словно я уехал куда-то от себя самого и стал жить какой-то безымянной жизнью, без надежд и без воспоминаний, одной любовью; словно все, что случалось со мной, было совсем не со мной и наступил особенный, от всего отдельный, ну, что ли, отрывок судьбы; и сам я не знал, где я настоящий – на весенних ли полях, влюбленный в девочку, или я, почти не существуя физически, живу в остановившемся времени, разучиваясь видеть мир вокруг себя.
Вера всегда была трезвее меня. Она становилась нежней и доверчивей; у нее возникала привычка, привязанность ко мне. Но жизнь у нее не оборвалась, как моя; все продолжалось, не утрачивая связи с прошлым; она могла говорить и думать о том, что будет с нами дальше, а я разучился мечтать.
Мы бродили вдвоем целый день и возвращались усталые, счастливые и все-таки снова хотели быть вместе. Вера выбегала из вагона, я шел за ней, и она меня спрашивала:
– Вы никогда, никогда меня не разлюбите?
Добрый Асламазян открывал и закрывал за нами тяжелую вагонную дверь.
– У вас когда-нибудь бывали романы? – ядовито спрашивала меня Нина Алексеевна. – Вы хоть бы минутку подождали, а то все видят, что вы бежите следом за Верой. Она, по-моему, опытнее вас и гораздо лучше притворяется.
Я в самом деле ничего не умел скрывать, хотя тревожился об общем мнении все-таки больше, вернее – иначе, чем Вера. Ей часто хотелось похвастать перед подругами, лишний раз «утвердить себя», как говорила Нина Алексеевна. А мне было важно одно: чтобы никто не смел говорить мне в глаза, потому что это меня отвлекло бы. А за спиной могли говорить и делать все, что угодно: я ничего не видел, никто не существовал для меня – не фигурально, а в самом буквальном и точном смысле.
Все злоречие, не умея меня задеть, обрушивалось на Нину Алексеевну.
– Они почему-то думают, что я заинтересована в ваших делах, – говорила мне Нина Алексеевна, – они стараются раскрыть мне глаза на ваше поведение. Постоянно с улыбочками говорят, что Вера смотрит на меня наглыми глазами. Впрочем, я и сама иногда это вижу. А ведь я всегда ее выручаю. А когда в тот раз был Розай и вы с Верой ушли, вы прямо не поверите, какое здесь началось обсуждение. Все наперебой ему рассказывали про вас.
– И сам Розай участвовал в обсуждении?
– Нет, он молчал. У него страдающее лицо было в это время. Он чем-то похож на Веру. Потом так неожиданно ушел. Я довольно резко сказала, что не хочу слушать сплетни. И можете себе представить, когда я ушла на нары, Галопова громко так сказала: «дура» – на весь вагон. И все хохотали.
– А Розай страдает, вы говорите?
– Да. По-моему, он теперь еще больше влюблен, из-за вас.
– Я тоже так думаю, – сказал я.
– Вы находите, что все должны влюбляться в вашу Веру. Впрочем, это, должно быть, правда, – сказала Нина Алексеевна.
– А какая стремительность в ее жизни! Ей ведь всего двадцать лет, а у нее уже целая биография, – сказал я.
– Сплошь состоящая из романов, – ответила Нина Алексеевна.
– Да, ведь это все вздор насчет театральных способностей, славы и прочего. Она сама не очень настаивает. Все это только средства обольщения. Настоящее призвание Веры – любовь. Тут метампсихоза. Это живая Манон Леско, – сказал я.
– Только сама она этого не понимает. А вы мне говорите такие вещи, которые должны были бы сказать ей, да боитесь, что она не поймет. Вы и тут продолжаете обращаться к ней, – сказала Нина Алексеевна.
– Что вы, это совсем не так, – ответил я.
– Конечно, – сказала Нина Алексеевна, – вот я вам хотела рассказать о себе, а вы даже слушать не стали, все спрашивали, что Розай да что Вера. Знаете, Асламазян сказал мне, что если бы захотел, так моментально расшвырял бы в стороны эту пару, то есть Веру и вас.
– Ну что же, может быть, и так, – ответил я.
XVIII
Девический романтизм Веры, пристрастие к неожиданному и странному, к большим темам – не меньше любви и смерти, – о которых она, по счастью, ничего не умела сказать, – все это находило выход в особенной какой-то привязанности к плохому искусству, в котором она, может быть, умела различать и подлинность, и большие чувства. В ее сундучке, среди вороха набросанных платьев и юбок, было множество сувениров, мелких ненужных вещиц, очевидно связанных с ее жизнью, с ее романами – не такими, каковы они были в действительности, а расцвеченными памятью и желанием применить к себе прочитанные, слышанные, с другими случившиеся – красивые, как она думала, – переживания. Впрочем, она не мечтала над своими сувенирами; так, только искорка пробегала, наверное, в ее памяти, когда она их перебирала – не больше секунды на каждое воспоминанье. Она показала мне открытку с ужасным бёклинским «Автопортретом со смертью».
– Разве вы находите это красивым, Верочка? – спросил я.
– Нет, вы посмотрите на обороте, – сказала Вера.
Там стояла дата и было написано: «Предчувствие близкой смерти тревожит меня». Может быть, весь романтизм и заключается в том, чтобы не бояться пошлости и дурного вкуса, даже не знать, что они существуют, и сразу браться за такие темы, которые – с точки зрения людей формы – по плечу только Шекспиру и Данту.
Дневников у нее не было – для этого слишком стремительно шла ее жизнь, да ей и не суметь бы их написать, – но часто ей хотелось остановить, задержать какую-то минутку, ощущение, которым она любовалась. Она брала мою записную книжку, ставила дату и писала: «Вот ваша Вера. Вагон. Путешествие. Ваша Вера». В другой раз она написала мне: «Я сегодня вас ужасно, невероятно люблю. Милый мой и любимый. Люблю, люблю. Как я бы хотела всю жизнь быть с вами. Но чувствую, что-то должно случиться, а что – не могу сейчас понять».
В тот день, когда Вера написала мне этот листок, мы были в полях, далеко от вагонов, так что кругом ничего не было видно, кроме пустого поля и снега, покрытого корочкой, затвердевшей под ветром и солнцем. Мы шли без дороги, по целине. Я обнял Веру; она поскользнулась; я не успел поддержать ее и упал вместе с ней. У меня сразу стало сухо в горле; я стал целовать Веру не помня себя. Не мне, а ей бы следовало испугаться; но Вера мне отвечала, как всегда. Борьба была между мной и мной же самим. Я сжал в руке ледяной комочек и заставил себя встать. Вера сидела в снегу растрепанная, раскрасневшаяся и улыбающаяся.
Ночью я проснулся от приступа неистовой ревности. Голос Розая слышался рядом с нашим вагоном. Я бросился в дверь, готовый на все. Я даже Веру не помнил и рванулся к черной фигуре, которая шла мне навстречу. Это был часовой. Он остановился и вытянулся.
– Что такое тут происходит? – резко спросил я.
– Капитан Розай уезжает, команда пошла его провожать, – доложил часовой.
– Куда уезжает?
– Совсем от нас переводится, – сказал часовой, – разве вы не слыхали?
– Да, да, – сказал я и вернулся в вагон, задыхаясь от волнения. Верина шинель висела на гвоздике. Вера спала у себя под нарами. Если бы Вера сбежала с Розаем, я был бы безмерно несчастлив, но, может быть, счел бы это удивительным ходом и любил бы ее еще больше. Кажется, мне почти было жаль, что так не случилось.
Я сел один у огня и до утра просидел с какой-то тоскливой грустью по своему одиночеству, по себе самому. Я вспомнил о своих удушьях; они не повторялись у меня больше. Что-то и в них показалось мне милым, уютным и навсегда утраченным.
XIX
Я сидел в избушке, построенной вместо вокзала, в пустой и теплой комнате, куда только мимоходом заходили железнодорожники с разъезда. Я ждал Веру, почитывал Гёте, курил, смотрел в окно, как тают сосульки под крышей, и прислушивался ко всем шагам.
Утром, еще на нарах, у меня был разговор с Ниной Алексеевной.
– Не знаю, за что так ненавидят вас в этой теплушке, – сказала Нина Алексеевна.
– Неужели ненавидят? Я тоже не знаю за что, – сказал я безо всякого интереса.
– Вы, наверное, и не замечаете, – сказала Нина Алексеевна.
– В самом деле не замечаю, – сказал я.
– Вы их не видите, вас целыми днями нет в вагоне. А когда вы исчезаете вместе с Верой, Левит изображает все то, что вы, по его мнению, с ней там делаете. Вы не знаете, как они гогочут. Они вас называют юродивым. А Галопова выступает с рассказами. Она подсматривает за вами, – сказала Нина Алексеевна.
– Боже мой, да и пусть их говорят, – ответил я.
– А я не могу этого выносить. Они в каком-то сладострастном возбуждении следят за вами. Я в жизни моей не слыхала такого количества гнусностей. И главное, вся их ненависть обрушивается на меня, потому что я вмешиваюсь и прекращаю эти представления, – сказала Нина Алексеевна.
– Мой друг, я в отчаянии, что вы подвергаетесь таким неприятностям из-за меня, – сказал я.
– И ваша Вера тоже хороша, когда за вас заступается. С ней ведь не стесняются. Ей сказали, что вы юродивый, а она отвечает: «Нет, это такой хороший, милый человек», как будто вы земский врач или учитель, – сказала Нина Алексеевна с досадой.
– Она говорит как умеет, я думаю, – сказал я.
– Не сердитесь на меня, но я больше не могу оставаться в этом вагоне. Мне обещали место в другом, и я сегодня туда перейду, – сказала Нина Алексеевна.
– Мне бесконечно грустно лишиться вашего общества, но я не смею возражать, если вам так неприятно здесь, – ответил я.
– Да я совершенно уверена, что вы ни разу не зайдете навестить меня, – сказала Нина Алексеевна.
Может быть, вагонные сплетни действительно дошли до неприличия, но что мне было делать? Я ничего не умел придумать и только сказал Вере, что буду выходить за час до нее, чтобы наши совместные исчезновения не были так демонстративны. Потому-то я и сидел на вокзале. Но Вера пришла, не дождавшись условленного времени.
– Вы знаете, Верочка, что Нина Алексеевна от нас уходит? – спросил я.
– Ах, я очень рада, – сказала Вера.
– Почему вы так рады? Нина Алексеевна – мой друг. И к вам она прекрасно относится, – сказал я.
– Может быть, вам она друг, а мне совсем не друг, – ответила Вера. – Мне всегда обидно смотреть, как вы с ней разговариваете. Мне вы только твердите про любовь, а все интересные разговоры у вас с ней. Я слишком глупа для вас.
– Верочка, – сказал я, – что бы я там с ней ни говорил, люблю-то я все-таки вас, а не ее.
В полях было ветрено и солнечно. В стороне стояла рощица.
– Мы ни разу там не были, – сказала Вера.
В рощице и в узком овраге, куда она продолжалась, было совсем тихо. Снег огромными толстыми хлопьями лежал на ветках, и низкие молодые елочки стояли как белые пирамиды. А солнце насквозь просвечивало каждую веточку.
– Из этой рощи нельзя уйти, – сказал я.
– Нельзя, – сказала Вера, как эхо.
Я к ней повернулся. Она улыбнулась и заплакала и сказала мне:
– Милый, как я люблю вас.
Я сжал ее так сильно, что сам задохнулся. Я был так потрясен, как будто весь мир вокруг меня рушился. А Вера была мила и согласна – вот и все.
– Я знала, что сегодня особенный день. Я знала, что сегодня так будет, – сказала Вера. – А ты знал?
– Вера, я только и знаю в мире что тебя. Ты, ты, ты, – сказал я.
Вера собрала сухой букетик на талом снегу, чтобы приобщить его к своим сувенирам – на память о самой счастливой и сквозной роще. Мы снова ходили по солнечным и снежным полям, проваливаясь на весеннем насте. Я подумал, что в этом возвращении к природе, во всех этих рощах, полях и в весне есть какие-то черты того же восемнадцатого века, какого-то руссоизма, наивного и оправдывающего любую жизнь.
Вера пошла вперед; я снова остался на час на вокзале. Я просидел там, почти не двигаясь. В темной, тесной комнатке не было ни души. Стало совсем темно, когда я подошел к вагону. Я встал было на подножку и остановился. Внутри пели. С улицы не слышно было ни согласного вскрикивания, ни фальши. Голоса показались мне стройными, девические – звенящими, мужские – нежными. Пели, против обычая, не куплеты из кинокартин, а русскую песню, которая потом навсегда связалась для меня с Верой:
Средь полей широких
Я, как мак, цвела,
Жизнь моя отрадная,
Как река, текла.
В хороводах и кружках,
Всюду милый мой
Не сводил с меня очей,
Любовался мной.
Все подруги с завистью
На меня глядят.
«Что за чудо-парочка», —
Старики твердят.
А теперь любимый мой
Стал совсем другой,
Все те ласки прежние
Отдает другой.
Чем она красавица,
Чем лучше меня?
Отбирает милого
Друга от меня.
Помоги, родная мать,
Соперницу сгубить
Или сердцу бедному
Запрети любить.
«Ах, родная моя дочь,
Чем тебе помочь?
Как сумела полюбить,
Так сумей забыть».
XX
В этот вечер все почему-то легли спать очень рано. Вера первая скрылась под нары. Фонарь горел. По углам еще бормотали. Я вынул книжку и пристроился к фонарю.
Меня всего подкинуло. Фонарь закачался ровно и быстро, как метроном, и длинное пламя высунулось, облизало стекло и оставило на нем черные жирные полосы копоти. Ударил разрыв, какой-то негромкий, глуховатый, смешанный с треском разламываемого дерева. Началась бомбардировка разъезда. Летчик летал невысоко и метал зажигательные бомбы прямо в наш эшелон.
Мы не сразу опомнились и поняли, что происходит. Асламазян первый крикнул: «Бомбардировка!» Капитанша с воплем бросилась в дверь. Все тоже ринулись. Двери не поддавались. Левит бежал по людям с выражением такого отчаяния, что у меня задрожали колени. На ходу он шапкой спихнул фонарь. Вера метнулась в темноте, как будто ветром ее сдуло, схватила меня за руку и кинулась к выходу. Асламазян возился с дверью. Она наконец открылась. Левит выпрыгнул первым и бежал по снегу через холмик в лощину. Вокруг него бежали люди со всех вагонов. Было тихо, все молчали, проваливаясь в снег. Вагон опустел. Асламазян взял маленькую Лариску, которая крепко спала, и пошел искать капитаншу. Я остался один.
Я был в отвратительном, самом животном страхе и с трудом заставил себя не бежать за другими. Я надел шинель и сел к печке, которая еле горела. Разрывов не было больше, но гул мотора еще раздавался с воющим треском. Потом послышался пулемет. Я сжался, стиснул колени, вдавил в себя локти, как будто это могло меня спасти. Это был настоящий, жестокий страх смерти. Там, в моих удушьях, была какая-то мысль. Здесь ее не было. Я боялся стен, которые могли обрушиться и раздавить меня.
Стало тихо, но страх от этого только натягивался, как струна. Я вздрогнул, когда дверь вагона раскрылась. Вера бросилась ко мне.
– Ты боишься, Верочка? – спросил я.
Вера сначала не могла отвечать, потом лихорадочно быстро заговорила, упрашивая меня сейчас же уйти отсюда и на ночь спрятаться с ней в деревне.
Звук мотора снова послышался и затих. «Заход», – подумал я.
– Что ты, Верочка, кто же нам разрешит уйти? – сказал я.
Потом раздался неистовый треск, а Вера исчезла так внезапно, что я с удивлением огляделся. Бомба попала наконец в один из вагонов, шагов за сорок от нас; но это была уж последняя. Вскоре все понемногу начали собираться в вагоне. Я вышел искать Веру. Она стояла такая измученная, что ноги ей не повиновались. Она снова стала просить меня уйти с ней в деревню.
– Верочка, все уже кончилось, и притом это смешно так спасаться, – сказал я.
Вера горько расплакалась.
– Ты просто не хочешь со мной идти, ты меня стыдишься, – сказала Вера.
– Вздор, – ответил я и повел ее в теплушку. Там стояло страшное возбуждение. В соседних вагонах были убитые. Никто не решался лечь. Поминутно выбегали слушать, не гудит ли снова мотор.
– Нина Алексеевна цела? – спросил я Асламазяна, появившегося последним.
– Жива-здорова, – сказал он и объявил приказ начальства: всем людям немедленно покинуть вагоны и до особого распоряжения расселиться в деревне Каменке.
Вера вся вскинулась. Усталость ее сразу исчезла. Она принялась лихорадочно собираться.
– Ты идешь со мной, – сказала она.
– Конечно, с тобой, Верочка, – ответил я.
Мы ушли после всех. Была уже темная ночь. Меня лихорадило, под холодным ветром я чувствовал себя совсем больным. Вера меня вела. Мы постучались в избушку с продавленной соломенной крышей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































