Текст книги "Турдейская Манон Леско"
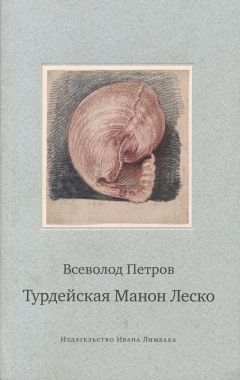
Автор книги: Всеволод Петров
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
XXI
Маленькая, с румяным лицом, вечно в платке, вечно перетаптывающаяся с места на место, похожая на корявое дерево, наша хозяйка Анна. Крошечная комнатка в два окна, некрашеный стол, две лавки, рундук, печь и хоры и земляной, в ухабах и колдобинах, пол, в углу икона – вот наша изба. Мы с Верочкой жили на нарах, называемых здесь почему-то хорами, возле печки, на постели, устроенной из наших шинелей, пледа и полевой сумки с книгами, которая служила подушкой. Вера устроила наше ложе и так любовалась им, как будто видела в нем свой портрет. В той же комнатке вместе с нами жила хозяйка с маленьким шестилетним сыном Сашей, который пел целыми днями, тоненько, как комарик, перевирая все слова, но никогда не фальшивя в мелодии. Вера учила его песенкам. Из окон мы видели скаты холмов и в солнечные дни смотрели, как бегут по ним тонкие струйки потоков. Эшелон стоял за холмами.
На столе появилось походное зеркальце из моего несессера и Верины коробочки, пудреницы и флаконы. Моя фотография тоже выехала на свет и была прислонена к зеркалу. Я сидел за столом как хозяин. Вера кружилась по комнатке, всю ее заполняя собой, расставляла, раскладывала и всякую минуту подбегала ко мне. Потом одевалась как можно наряднее, делала себе высокую прическу и садилась рядом со мной. Я брал ее за плечи; она клала голову мне на грудь.
– Тебе нравится, как я все устроила? – спрашивала Вера.
– Ты мне нравишься, ты больше всего на свете, – отвечал я.
Вера этим удовлетворялась.
– А тебе не скучно так жить? – спросил я.
– Ты меня только люби, тогда не будет скучно, – сказала Вера, но неожиданно прибавила: – Пусти меня покататься верхом.
– Как это – покататься верхом? – спросил я со страшным удивлением.
– Меня приглашает один казак.
– Да откуда же ты его взяла? – спросил я.
– Мы познакомились на станции.
– Когда же?
– Во время бомбардировки. Мы вместе спасались.
– Ну, тогда, разумеется, поезжай, – сказал я.
– Мне очень хочется, – сказала Вера и быстро поцеловала меня в губы.
– Поезжай, – ответил я.
– Только ты не думай ничего дурного, – сказала Вера и снова меня поцеловала.
– Можешь ехать, – ответил я.
– Если тебе неприятно, я не поеду, – сказала Вера.
– Я не принимаю никаких жертв, – ответил я.
– А я все придумала, милый, никакого казака нет, я хочу, чтобы только ты был со мной, – сказала Вера и крепко прижалась ко мне.
Вечерами мы зажигали светец. Приходил Асламазян. Мы усаживались к столу. Вера одной рукой играла в карты с Асламазяном, а другой рукой обнимала меня. Мальчик пел, как сверчок. Аннушка пряла. В глухой избе, и рядом со мной, была живая Манон Леско, в красном шелковом платье, с высокой прической, придававшей ей сходство с Марией-Антуанеттой.
У меня был издавна какой-то смутный образ Марии-Антуанетты, не то придуманный, не то прочитанный или где-то увиденный: Мария-Антуанетта стоит у окна, спиной к залу, и с безмерным напряжением смотрит, как бесится народ перед дворцом. Потом она резко поворачивается – ее лицо все мокро от пота. Существо от пламени, вне формы, все страсти с ясностью отпечатываются на изменчивом, подвижном лице.
Значит, есть и в восемнадцатом веке – таком совершенном и обреченном смерти – черты юности и несовершенства, которые тянутся в будущее и разрешаются в романтизме.
XXII
Светец гасили рано. Мальчик и Аннушка неслышно засыпали на печке. В избе было жарко. Мы задыхались на хорах. Соломинки прокалывали плед и приклеивались к телу. Вера становилась какой-то другой; я думал, что тут она по-настоящему мне открывается. Что-то растворялось в этой темноте, в горячем и влажном воздухе. Тоненькая девочка исчезала. Мне казалось, что Вера становится большой и строгой. Кровь у меня приливала к вискам и начинала больно стучать. Удушье подступало ко мне; сердце колотилось так, что я рукой был должен держать его.
В середине ночи мы начинали говорить.
– Я все хочу знать о тебе, – говорил я.
Вера сама о себе мало знала. У нее были только отрывки, осколочки, которых она не умела собрать. Они стремительно сменялись и смешивались. Какой-то остренький кончик застревал в каждом рассказе. Я прикасался к юности. Дешевые кинематографы, где стоя дожидаются начала сеансов. Подруги, с которыми как-то не выходило никакого веселья. Лестницы с тусклым электричеством, где потихоньку красили губы. Томление, не разрешающееся ничем. Бедные пирушки, которые кончались почти оргиями, тоже бедными. Записочки, мальчики, коридоры на театральных курсах. Мальчик Лева в коротеньком старом пальто, который вдруг преобразился в новом костюме и поцеловал Веру. Потом сразу замужество с пожилым соседом, капризы, обиды и что-то даже совсем нехорошее: муж был со странностями.
– Он меня почему-то щипал, – рассказала мне Вера.
Начало войны и вереница молниеносных романов, начинающихся всегда с любопытства.
– Разве ты никого из них не любила? – спросил я.
– Любила, – сказала Вера, – только теперь я думаю, что не любила. С тобой у меня совсем не то. И никогда я не была так счастлива, как с тобой.
– А твоего второго мужа, такого красивого, Алешу, разве ты не любишь?
– И Коку?
– Ах да, ведь их было двое.
Я подумал, что оба могли быть веселыми товарищами Вере и напрасно стали любовниками. Я не спросил Веру, как она расставалась со своими возлюбленными. Наверное, ее грубо бросали. А может быть, она сама ускользала без объяснений.
– Я только тебя одного любила и люблю на всю жизнь, – сказала Вера.
Я задохнулся. Волосы Веры приклеивались к моим губам. Она опять показалась мне большой и строгой.
– Расскажи мне про свою семью, – спросил я.
Теперь я думаю, что в этом рассказе Вера лучше видна, чем в собственных своих осколочках и отрывках. Понемногу, в несколько ночей, она рассказала мне так.
Бабушка Веры – крестьянская девушка где-то в ярославской деревне. Когда ей было четырнадцать лет, ее изнасиловал в лесу неизвестный офицер. Она родила Верину мать.
С незаконным ребенком в деревне нельзя было жить. Бабушка (ее звали Катей) уехала в Петербург, а девочку оставила тетке, ярославской бабе-торговке, злой и жадной. Девочка была несчастлива. А сама Катя стала, насколько я понял, чем-то вроде шантанной певицы и, как видно, пошла по рукам. Судьба русской гризетки известна. Сорока лет с небольшим, уже на памяти Веры, она умерла от чахотки в больнице, брошенная своим последним любовником, каким-то мальчиком-студентом. Перед смертью пела на всю палату молодым и звонким голосом. Вера запомнила ее капоты с большими разрезами на рукавах. Когда бабушка лежала, закинув руки, рукава раскрывались, как крылья.
Судьба матери проще. После скучного и бедного детства с теткой-торговкой она каким-то способом попала в город, где-то училась (это было в первые годы революции), работала на табачной фабрике, потом стала телефонной барышней. Артистизма в ней, может быть, не было, но другие черты гризетки налицо, в особенности – слабое сердце. Мимоходом появляется здесь ее первый муж – Верин отец. Он, видимо, как-то прошел стороной, мимо жизни своей жены и дочери, не устроил семьи, не оставил ни в чем отпечатка. Вообще для Веры отец как-то нехарактерен; ее родословная строится только по женской линии, в династии русских гризеток, которую Вера завершает и возводит на новую ступень. Отец – Алексей Иванович Исаев, бывший унтер-офицер времен германской войны, по профессии ювелир, представляется мне сильным, немолодым и молчаливым, несколько даже мрачным мужчиной, способным на большие чувства. Он был несчастлив. Вера ничего не умела о нем рассказать. Помнила только, что, когда мать стала гулять, отец начал пить, несколько раз бросался в бешенстве на жену, но никогда не бил. Он умер как-то неожиданно, словно для того, чтобы уступить место другим. Его собственная роль оказалась второстепенной и очень короткой.
За ним последовали другие. Вера из дочернего пиетета их не перечисляла. Только ради экзотики упомянула о негре из какого-то джаз-банда. Мать писала дневник, а Вера потихоньку его читала.
Второй муж, совсем еще юноша, какой-то счетовод, усыновил Веру. Мать была теперь с ним в разводе.
– Знаешь, – сказала Вера, – он такой молодой. Для меня будет ужас, если он в меня влюбится.
К утру изба выстывала. Светало скупо и медленно. Вера снова становилась тоненькой девочкой и засыпала у меня на плече. Выражение стремительности даже во сне не исчезало с ее лица.
XXIII
Днем я не помнил ночных разговоров. Они как-то сами собой исчезали вместе со всем, что я знал и помнил раньше. Мне казалось, что только то и возможно в мире, что было вокруг меня, – любовь, изба под соломенной крышей и снежные турдейские холмы, где-то там сливающиеся с небом.
Я вставал раньше всех. Мальчик и Аннушка тихо лежали на печке. Вера еще спала. Я вышел к околице. Утро было холодным и мглистым. Серебряные трубочки заиндевелой соломы лежали на крыше. Все травинки, кустики и дальние деревья стояли белые, покрытые инеем.
Было тихо и пусто. Я боялся глубоко вздохнуть, чтобы не нарушить этой тишины. Незаметно – впервые без Веры – я зашел куда-то в поля. Одиночество стало мне непривычным. Поля показались мне новыми – широкими и светлыми, как будто раньше я их не видел. Я сам не заметил, как ушел далеко в сторону от деревни, к той самой роще, где Вера собрала свой последний букет.
Что-то вроде приступа как будто долго сдерживаемой и наконец нахлынувшей тоски началось у меня. «Неужели я совсем потерял себя, – подумал я, – и никогда не увижу себя прежним, не смогу больше соединять и связывать в себе кусочки мира так, чтобы возникал особенный, мой собственный мир, с которым я повсюду и по-всякому сумею жить». Я вспомнил свои прежние мысли о счастье: раньше оно представлялось мне каким-то гётевским, ровным и бесконечным, каким-то итогом знания, творчества и свободы. Все это исчезало рядом с Верой.
«В романтизме другое счастье, – подумал я. – Романтизм разрывает форму, и с него начинается распад стиля. Тут юность и бунтарство. А бунтуют – мещане. Великий и совершенный Гёте с пренебрежением относился к романтикам, потому что видел в них мещан. Во всякой юности есть романтизм. И счастье здесь быстрое, преходящее, ни с чем как будто не связанное; не знаешь, как удержать его. В романтизме нет тоски, потому что он не обращается к прошлому; у него и нет прошлого. Вместо тоски в нем томление: предчувствие или ожидание того, что будет».
Я все утро ходил по полям. Когда я вернулся в избу, Вера не встала и не бросилась мне навстречу, как она делала всегда. Все мои мысли куда-то исчезли. Я с тревогой вошел в комнату.
– Ты, кажется, плакала, Верочка? – спросил я.
– Нет, – сказала Вера.
– Что-нибудь случилось плохое? – спросил я.
– Ничего не случилось, – ответила Вера, отворачиваясь, так что я поцеловал ее в затылок вместо щеки. – За тобой заходил Асламазян.
– Зачем?
– Не знаю. Вызывают в эшелон.
– Должно быть, поедем отсюда, – сказал я. – А что же, Асламазян зайдет еще раз или мне самому нужно куда-нибудь идти?
– Зайдет, – сказала Вера и расплакалась.
– Вера, что-то произошло у тебя с Асламазяном, – сказал я.
– Нет, – ответила Вера сквозь слезы.
Я встал и отошел к окну.
– Вера, я тебя очень прошу: перестань плакать и расскажи мне все, что тут было без меня, – сказал я.
– Зачем ты меня оставляешь одну? – сказала Вера.
– Господи, да не из-за этого же ты плачешь! Ты спала; я уходил совсем ненадолго, – сказал я с раздражением.
– Я знаю, почему ты ушел, и знаю, где ты был, – сказала Вера.
– Тут и знать нечего, – сказал я.
– Тебе безразлично, что я одна, – сказала Вера и неожиданно стала смеяться.
– Да ты совсем не одна была; сама же говоришь, что приходил Асламазян, – ответил я.
– А ты не воображай, что Асламазян тебе такой друг. Он хотел меня поцеловать, – сказала Вера.
– Я в этом не сомневался. И кроме того, я вполне уверен, что ты сама его целовала, – сказал я с видом полного равнодушия.
Вера только что смеялась, а тут она зарыдала так отчаянно, что я сейчас же лишился своего равнодушного тона.
– Ну не надо, Верочка, не плачь, ничего ведь не произошло, – сказал я. – Почему ты так отчаиваешься? Может быть, что-нибудь еще было?
– Нет, но мне обидно, что ты так обо мне думаешь, и что ты меня больше не любишь, и тебе не грустно, что мы уезжаем отсюда, и что ты уходил к той, – проговорила Вера.
Под «той» она подразумевала Нину Алексеевну.
– Верочка, я и не думал. Я был в нашей роще и думал только о тебе, – сказал я.
– Зачем же ты оставил меня одну? Ты совсем переменился, – сказала Вера. – Все у нас переменилось: я теперь гораздо больше люблю тебя, а ты любишь меньше. Помнишь, какие были вечера в вагоне? Вот там ты действительно меня любил.
Я подумал, что Вере, должно быть, и невесело, и трудно со мной.
Асламазян вошел в это время, чтобы идти со мной в эшелон. Я успел еще сказать на ухо Вере:
– Неправда! Я теперь еще сильнее люблю тебя, разве ты этого не видишь?
Но я и сам не знал еще тогда, в какой степени все это было правдой.
XXIV
В тот же вечер мы уехали из Турдея. О нас, как видно, вспомнили: назначение было получено, нас больше не держали на запасных путях. Триста верст мы проехали в одну ночь. Вагонный быт не восстанавливался. Все сидели нахохленные, берегли свои мешки. Разговоры были вялые; размышляли о будущем житье; песен вовсе не пели. Даже ссоры проходили не по-прежнему: вежливей и враждебнее.
Мы с Верой сидели рядом и, кажется, за всю дорогу ни слова не сказали друг другу. Я держал ее за руку. Совместное путешествие наше кончалось. Нам предстояла разлука. Вера думала о ней. Я не мог даже думать.
Понемногу все заснули в вагоне. Вера тоже задремала, прижавшись ко мне. Печка еле горела. Больше она не соединяла людей, не была живой и горящей точкой; просто кое-как отапливала вагон. Что-то настороженное было в этом спящем вагоне, в неуверенном храпе, в бормотанье. Я тихонько выбрался к печке, чтобы в последний раз посидеть одному. Какая-то обреченность почудилась мне в этом. «Кончается; пришли сроки», – подумал я. А что кончается и чему пришли сроки, я сам не знал.
Нас выгрузили на станции Е*** и тотчас же, опасаясь бомбардировки, посадили в огромные грузовики, чтобы везти за сорок верст, в назначенную нам деревню. Я уступил кому-то свое «офицерское» место в кабине, чтобы быть вместе с Верой. Мы поместились на вершине громадного воза, груженного матрацами. Дорога шла по голой степи, через овраги. Снег почти всюду протаял. Стояла ужасная весенняя грязь. Машины еле шли. Мокрый ветер и крупный холодный дождь легко проползали под матрацы, которыми мы укрылись. Как только стемнело, весь караван встал. Мы не отъехали и пятнадцати верст. И тотчас же началась бомбардировка станции. Взрывы подбрасывали целые здания. Это было слышно всю ночь. Дождь и ветер не прекращались. Мы устроили глубокую пещеру в матрацах и лежали там, крепко обнявшись. Кругом был настоящий пейзаж из «Короля Лира». Я не знаю, спали мы в эту ночь или нет. Одно и то же было во сне и наяву: огромное черное поле, полное ветром и холодом, далекие вспышки и глухие разрывы.
XXV
Только на следующий день, уже к вечеру, мы приехали наконец в назначенное нам село. В сумерках мы разгружались на площади. Кругом в беспорядке стояли приземистые кирпичные домики, совершенно темные: здесь тоже боялись бомбардировок. Везде была весенняя распутица. На площадь стекала какая-то жидкая грязь, кое-где еще смешанная со снегом. Потоки журчали со всех сторон, и пронзительный ветер не переставал дуть; от него нельзя было спрятаться. Я шагнул было нерешительно в сторону одного домика, потом в сторону другого; повсюду были непроходимые рвы, овраги, полные мутной, глинистой быстрой водой.
Вера как-то неожиданно явилась рядом со мной. Она уверенно шагала по скользким и топким тропинкам.
– Я уже нашла нам квартиру, – сказала мне Вера.
После двухдневного странствия по степи, под дождем и ветром, когда уже даже теплушка вспоминалась как уютное, милое место, настоящая комната, теплая, с лампой и самоваром, показалась мне раем. Вера втащила перину. Мы расстелили ее на полу. Где-то в темноте, за перегородкой, бормотали хозяева. Мы с Верой снова были вместе, вдвоем. Лампадка горела в избе. Ветер отчаянно свистел и бился; солома на крыше шумела. Нам было тепло. Мы тонули в огромной хозяйской перине, пышной и свадебной.
– Село какое-то рассыпанное, ни улиц, ни порядка, все куда-то катится с горки на горку, – сказал я.
– Нам только три дня здесь жить вместе, – ответила Вера.
– Знаешь, Верочка, после нашей турдейской жизни я как-то ни разу еще не опомнился. Путешествие, степь, ветер – все это как будто остановка, как будто время остановилось перед каким-то событием, – сказал я.
– Это событие – твой отъезд, – ответила Вера.
– Вовсе нет. Мы ведь не на век расстаемся. Я буду недалеко и, наверное, смогу приезжать, – сказал я.
– Мне будет плохо без тебя. Меня будут преследовать, – сказала Вера.
– Нет. Я все сделаю, чтобы без меня тебе сносно было здесь жить, – ответил я.
– Что же ты сделаешь?
– Я буду говорить о тебе.
– С кем?
– С Ниной Алексеевной. Она много может для тебя сделать.
– Может, но не захочет, – сказала Вера.
– А я уверен, что сделает, – ответил я.
– Ради чего же? – спросила Вера.
Я подумал, что в самом деле, если я люблю Веру, это еще не значит, что все другие тоже должны любить ее. Но мне никак не понять было, как можно ее не любить.
– Верочка, тебя нельзя не любить, – сказал я.
– Зачем же ты уезжаешь? – сказала Вера. – Тебе со мной скучно. Ты никогда не говоришь со мной ни о чем.
Я подумал, что все дни после Турдея я был рядом с Верой, почти неотлучно. Я вспомнил, что я все время смотрел на нее. Но, кажется, мы в самом деле не говорили – разве что именно «ни о чем».
– Вера, ты так близка мне, что я не могу с тобой говорить. Это все равно что я бы стал вслух сам с собой разговаривать, – сказал я.
– Только сумасшедшие сами с собой разговаривают, – сказала Вера.
– Ну вот видишь, я просто тебя люблю; я чувствую, что ты тут, что ты существуешь, а что же еще я скажу тебе? Я и не знаю ничего, и не вижу. Ничего нет, кроме тебя. Только ты существуешь, – сказал я.
– Так зачем же ты уезжаешь? – спросила Вера.
– Ты знаешь, Верочка, что мне нельзя не ехать. Но это вздор. У нас еще три дня, и я думаю, что они никогда не кончатся, – сказал я.
– Как никогда не кончатся? – сказала Вера.
– Ну, просто не кончатся, будут вечно. Время остановится. Я уже чувствую, как оно останавливается, – сказал я.
– По-моему, ты говоришь какие-то глупости, – ответила Вера.
XXVI
Перед отъездом я пошел прощаться к Нине Алексеевне.
– Я не надеялась, что вы придете, – сказала Нина Алексеевна. – Я вас не видела, кажется, с того времени, как перешла в другой вагон. То есть видела, конечно, потому что мы ехали вместе, но это не в счет. Я бы даже хотела не видеть некоторых вещей, например, как вы красовались на возу матрацев. А по-настоящему не видала, вы не показывались.
– Я не решался… – сказал я.
– Просто вы не хотели. Вам было не до того. Вы не думайте, что я как-нибудь обижена и говорю с упреком. Только я считала, что вам теперь не до дружбы, – сказала Нина Алексеевна.
– А я пришел именно в надежде на вашу дружбу, – сказал я.
– Вы хотите о чем-нибудь меня попросить? Да я угадываю вашу просьбу, – сказала Нина Алексеевна.
– Вы, наверное, правильно угадываете. Я хочу поручить вам Веру. То есть не поручить, а просить вас помочь ей, если придется. Ее здесь не любят; и раньше ей доставалось, а теперь из-за меня еще больше стали не любить. К тому же я прекрасно знаю, что она очень плохая сестра, безалаберная, ветреная, невнимательная. Но ей, по-моему, стоит помочь, потому что у нее есть какая-то другая, особенная сила и значительность, – сказал я.
– Хорошо, я возьму на себя вашу Манон Леско, – сказала Нина Алексеевна, – а вы расскажите мне, как ваши дела с ней.
– Я не знаю, что мне вам рассказывать, – сказал я.
– Мне, конечно, не надо никаких ваших тайн, – ответила Нина Алексеевна.
– Никаких тайн и нет, – сказал я. – Вы знаете, что я против откровенностей в таких делах. Но все равно ведь всем все известно. Поэтому я скажу вам правду.
– Вы один раз уже говорили мне правду, – ответила Нина Алексеевна.
– Это тогда еще, в самом начале? Ну, тогда я действительно выдумывал и оправдывался, – сказал я. – Теперь я скажу иначе. Я люблю Веру. Но тут есть особенность. У меня с ней как-то не движется время. Я не знаю, понятно ли это. С ней возможно только то, что есть сейчас. Я хотел бы, чтобы так было всегда. Но я совершенно не умею представить себе для нас какого-то будущего, ни хорошего, ни дурного. Как будто тут не может быть никакого «дальше». Это меня пугает.
– Почему пугает?
– Это мне тоже не очень легко объяснить. Мне кажется, что нас ждет катастрофа. Все как-то мгновенно должно разрешиться и кончиться. Ну, мы оба умрем или что-нибудь в этом роде. Существуют законы жизни, очень похожие на законы искусства. То есть это, в сущности, должны быть одни и те же законы. Искусство отличается от жизни только степенью напряжения. А любовь – это такое напряжение, в котором сама жизнь становится искусством. Поэтому мне так страшно за себя и за Веру. Я надеюсь только, что у судьбы есть в запасе какой-нибудь непредвиденный ход.
– Вы придумали какие-то сложности, но я понимаю, почему вы так говорите, – ответила Нина Алексеевна. – Скажите теперь про Веру. Вера любит вас?
– Вы все время задаете мне трудные вопросы. Она ко мне очень привязана. Она очень плачет по поводу моего отъезда. Я думаю, что она бывает счастлива со мной. Нет, я знаю, что она меня любит, – сказал я.
– А вы губите Веру, – сказала Нина Алексеевна.
– Почему гублю? – спросил я со страхом.
– Так выходит из ваших же слов. Вы вскружили ей голову своим поклонением. Вы – как бы это сказать? – ее возводите на какую-то высоту. Теперь у этой девочки есть судьба. Вы сами считаете судьбу неотвратимой. А вы подумайте, ей, может быть, совсем другое предназначалось, что-нибудь обыкновенное, мирное, – сказала Нина Алексеевна.
– Нет, вы ошибаетесь, – ответил я. – У нее всегда была все та же судьба, и не я ей дал значительность и силу. Я сам подчинен ее судьбе. Мне нечего возводить ее на высоту, она родилась там. Я во всем второстепенное лицо.
– А я считаю, что вы придумали Верину жизнь и заставили ее пережить эту жизнь, из простой девочки сделали героиню, – сказала Нина Алексеевна.
– Вы знаете, Нина Алексеевна, у нас вышел какой-то такой литературный разговор, как будто в самом деле речь идет о Манон Леско и кавалере де Грие, – сказал я.
– Мне ведь не нравится де Грие. При всем своем благородстве он какой-то жалкий и маленький, – ответила Нина Алексеевна. – Но мы действительно страшно занеслись.
– Вот видите, а ведь я пришел просить вас о самом простом и житейском деле. Не давайте в обиду Верочку, – сказал я.
– Вы просто до невозможности любите Веру, – сказала Нина Алексеевна.
– Ну что же мне с этим делать? – ответил я.
– Хорошо, я возьму вашу Веру к себе и посмотрю, действительно ли она героиня романа, – сказала Нина Алексеевна.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































