Текст книги "Турдейская Манон Леско"
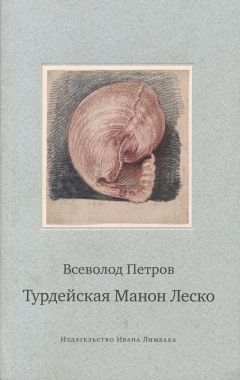
Автор книги: Всеволод Петров
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Обычно мы с Пуниным уходили из музея домой вместе. Нам было по пути, я провожал его до Фонтанного дома. Помню, как он нередко принимался читать наизусть полюбившийся ему отрывок из «Египетской марки» Мандельштама:
– «Погулял ты, человек, по Щербакову, поплевал на нехорошие…»
Пунин как-то особенно высоко тянул это металлически дребезжащее «о»:
«…нехороошие татарские мясные…
…Пожил ты, человек, – и довольно!»
Каталожная работа в секции рисунков по-прежнему нимало не занимала Пунина. Замыслов большой исследовательской работы у него тоже в эту пору не было.
Пунин писал тогда свою замечательную мемуарную книгу «Искусство и Революция». Она, как известно, осталась незаконченной.
Иногда он читал нам – «пунинской группе» – готовые главы, отрывки, отдельные страницы своей рукописи, написанной крупным размашистым почерком почти без помарок, на больших белых листах.
Я думаю, что это – лучшая книга Пунина, написанная с неослабевающим вдохновением, с «натиском восторга», как иногда говорил он сам, повторяя известное выражение Врубеля. Пунин писал ее о самом себе и о своих друзьях – и о том, что любил больше всего на свете – о революции в искусстве. Индивидуальность Пунина, может быть, нигде не воплотилась с такой гипнотизирующей реальностью, как в этой книге. С ней можно разговаривать как с живым человеком. Когда я читаю сохранившиеся главы «Искусства и Революции», мне всегда кажется, что снова слышу высокозвенящий металлический голос Николая Николаевича, с его характерными интонациями, внезапными запинками и неожиданно обрушивающейся – как будто с каких-то высот мысли – захлебывающейся скороговоркой.
‹1972›
Калиостро[10]10
Впервые: Петров В. Калиостро: Воспоминания и размышления о М. А. Кузмине / Публ. Г. Шмакова // Новый журнал. Нью-Йорк, 1986. Кн. 163.
[Закрыть]
Воспоминания и размышления о М. А. Кузмине
Надо было подняться на пятый этаж большого петербургского дома в тихой Спасской улице, которая, впрочем, давно уже называлась тогда улицей Рылеева. Надо было три раза нажать на кнопку коммунального звонка. Тогда открывалась дверь, и за ней возникала атмосфера волшебства. Там жил человек, похожий на Калиостро, – Михаил Алексеевич Кузмин.
Он был одним из жильцов захламленной и тесной коммунальной квартиры тридцатых годов. Кроме Кузмина и его близких, в ней жило многолюдное и многодетное еврейское семейство, члены которого носили две разные фамилии: одни были Шпитальники, другие – Черномордики. Иногда к телефону, висевшему в прихожей, выползала тучная пожилая еврейка, должно быть глуховатая, и громко кричала в трубку: «Говорит старуха Черномордик!» Почему-то она именно так рекомендовалась своим собеседникам, хотя было ей на вид не больше чем пятьдесят или пятьдесят пять. А однажды Кузмин услышал тихое пение за соседскими дверями. Пели дети, должно быть, вставши в круг и взявшись за руки: «Мы Шпиталь-ники, мы Шпиталь-ники!» Кузмин находил, что с их стороны это – акт самоутверждения перед лицом действительности.
Также жил там косноязычный толстый человек по фамилии Пипкин. Он почему-то просил соседей, чтобы его называли Юрием Михайловичем, хотя на самом деле имел какие-то совсем другие, еврейские, имя и отчество. Если его просьбу исполняли, то он из благодарности принимался называть Юрия Ивановича Юркуна тоже Юрием Михайловичем. Почему он так любил эти имя и отчество – из пиетета ли к Ю. М. Юрьеву[11]11
Юрий Михайлович Юрьев (1872–1948) – актер, театральный педагог.
[Закрыть] или по иным причинам – осталось невыясненным.
Иногда из соседней квартиры сюда являлись звонить по телефону грузины по фамилии Веселидзе. О них я не сохранил воспоминаний.
Управдом из бывших прапорщиков, излюбленный персонаж рисунков Ю. И. Юркуна, относился с почтением к писательской профессии. Он говорил, что когда-нибудь будет на доме мраморная доска с надписью: «Здесь жили Кузмин и Юркун, и управдом их не притеснял». Как видно, он рассчитывал и на свою долю посмертной славы.
Наискосок, на бывшей Надеждинской, находилась когда-то квартира Бриков, друзей Кузмина. И уже была доска: «В этом доме жил Маяковский».
Кузмин уверял, что любит коммунальные квартиры: в них не так скучно. Однако при всей уживчивости и общительности нрава, при всей своей приветливой легкости, он все же, я думаю, должен был страдать от тесноты и недостатка покоя в этой нескучной квартире.
Кузмин вместе с Ю. И. Юркуном занимал две комнаты с окнами во двор. Одна из них была проходной – та самая, где работал Михаил Алексеевич и где главным образом шла жизнь. Хозяева там писали, рисовали, музицировали.
Там принимали гостей. Шпитальники, Пипкин, Веселидзе и Черномордики иногда проходили мимо них на кухню. Во второй комнате скрывалась старушка Вероника Карловна, мать Юркуна. Гости туда не допускались.
В комнате Кузмина стоял белый рояль, нарочно слегка расстроенный, чтобы он звучал как клавесин. Стоял между окнами маленький письменный стол, покрытый толстым стеклом; над ним шла книжная полка с полным собранием сочинений Д’Аннунцио, которого Михаил Алексеевич любил, несколько стыдясь этого пристрастия. Над книгами висела старинная икона cв. Георгия. Была кушетка, стояли несколько стульев и огромный стенной шкаф, беспорядочно набитый книгами и папками, в которых хранились рисунки и всевозможные коллекции Ю. И. Юркуна.
На круглый обеденный стол ставили самовар. Жизнь шла открыто. Каждый день от пяти до семи приходили гости. Они являлись без приглашения и могли приводить с собой своих знакомых. Михаил Алексеевич сидел за самоваром и разливал чай.
Он говорил иногда, что его самовар станет когда-нибудь историко-литературной реликвией и попадет в музей. Этого не случилось. После ареста Ю. И. Юркуна все вещи Михаила Алексеевича исчезли бесследно. Сохранилась только любительская фотография, изображающая Кузмина за самоваром.
После чая Михаил Алексеевич садился к роялю и играл, чаще всего Моцарта или Дебюсси, а изредка что-нибудь пел вполголоса. При этом от гостей не требовалось молитвенного молчания; они продолжали громко разговаривать под музыку.
Весной 1933 года меня привел в этот дом художник Константин Евтихиевич Костенко, мой сослуживец по Русскому музею. Мы пришли в приемные часы, между пятью и семью. За столом уже сидело довольно большое общество. Михаил Алексеевич был у самовара. Вместе с ним принимали гостей Юрий Иванович Юркун, моложавый и красивый, как Дориан Грей, и Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина, жена Юркуна. С ними обоими я вскоре очень подружился. Среди людей, которых встретил в тот день за чайным столом у Кузмина, я помню Константина Вагинова, поэта и переводчика Бенедикта Лившица, и Бориса Сергеевича Мосолова[12]12
Борис Сергеевич Мосолов (1888–1941) – актер, литератор, участник вечеров «Бродячей собаки».
[Закрыть], друга поэтов, которого знали и любили Гумилев, Пяст, Георгий Чулков и Вячеслав Иванов.
К. Е. Костенко и я тогда же получили приглашение – раз навсегда – приходить в любой день от пяти до семи. Но Костенко, насколько я помню, больше не появлялся в кузминском доме. А я стал завсегдатаем.
Я думаю, что мне следует представить читателям человека, от лица которого пойдет дальнейший рассказ. В самом деле, кто же этот «я», рассказывающий о поэте? Двадцатилетний юноша, начинающий историк искусства, безмерно увлеченный эпохой Кузмина и ее культурой? Или же – усталый стареющий человек, который через тридцать с лишком лет вызывает в памяти события и впечатления своей юности и, волей-неволей, видит их теперь сквозь призму прожитой жизни и накопленного опыта?
Автор хотел бы, чтобы его – теперешнего – вовсе не было на этих страницах.
* * *
В начале тридцатых годов Кузмин был, мало сказать, очень известен – он был знаменит. Полоса непризнания и забвения, позднее так надолго скрывшая его поэзию, тогда еще не наступила. Она лишь приближалась. Литературные и окололитературные юноши моего поколения отлично знали книги Кузмина. Для меня он был одним из любимых поэтов. Потому я так обрадовался возможности познакомиться с ним, а войдя в дом Михаила Алексеевича, я испытал такое чувство, будто знаю его уже очень давно, чуть ли не с тех пор, когда, еще подростком, впервые читал «Александрийские песни» и «Нездешние вечера» или «Приключения Эме Лебефа» и «Комедию о Евдокии из Гелиополя». Кузмин был похож на свои книги. Живое общение с поэтом создавало тот же образ, который возникал и при чтении его стихов. Я думаю, что это – одно из свидетельств цельности его натуры и органичности дарования. Он выразил себя в искусстве с несравненной простотой, непосредственностью и естественностью.
Гораздо позднее я прочитал во «Встречах и впечатлениях» А. Я. Головина следующие строки, которые цитирую здесь с трудом и против воли: «Когда я думаю о М. А. Кузмине, мне представляется полутемная комната, заставленная старинной мебелью, таинственная и строгая: лунное сияние заливает мягким серебристым светом тусклое золото старых резных рам, янтарно-смуглое красное дерево, портреты, ковры, гобелены. ‹…› Когда я вижу прекрасные старинные вещи, затаившие в себе чью-то давнюю жизнь, впитавшие в себя радости и тревоги многих поколений ‹…›, – я вспоминаю Кузмина и его стихи»[13]13
Головин А. Я. Встречи и впечатления. Л., М. 1960. С. 102.
[Закрыть].
Так можно было бы писать о каком-нибудь эпигоне Кузмина, но не о нем самом. Люди моего поколения смотрели на Кузмина другими глазами, ценили и любили в нем совсем другое, не стилизованное и старинное, а живое и современное.
Начав когда-то с людьми «Мира искусства», Кузмин пошел дальше их, оказался тоньше и восприимчивее к веяниям самой жизни. В двадцатых и в первой половине тридцатых годов, когда идеи экспрессионизма и порожденного им сюрреализма в самом буквальном смысле слова носились в воздухе, без труда пересекая любые государственные границы, именно Кузмин подхватил и развил их с неподражаемой оригинальностью. Сборник «Форель разбивает лед», в котором так остро увиден новейший послевоенный Запад, а также многие стихотворения двадцатых годов были вполне «своими» для поэтического авангарда послереволюционной эпохи.
Что же представляет собой поэзия Кузмина, столь непохожая на то, что создавали его современники, совсем отдельная, опережающая развитие литературных течений эпохи и вместе с тем неотделимая от нее, могущественно повлиявшая на современную поэзию, от камерной лирики снобов из «Аполлона» до грандиозной и трагической «Поэмы без героя» Анны Ахматовой?
Наука о литературе еще не дала ответа на эти вопросы.
Кузмин, быть может, в большей степени, чем кто-либо из его современников, обладал тем, что можно назвать поэтическим отношением к действительности – иначе говоря, умением видеть поэзию во всех явлениях жизни, самых обыденных, будничных и непритязательных, даже в тех, которые, по представлениям его эпохи, считались «непоэтичными». К мотивам его поэзии можно было бы отнести слова о «живой жизни», сказанные в одном из романов Достоевского. «Живая жизнь, то есть не умственная и не сочиненная ‹…›, – говорит Достоевский, – это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтобы оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая»[14]14
Достоевский Ф. М. Подросток // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1972–1988. Т. 13. С. 178.
[Закрыть].
Это «простое, обыденное и ежеминутное» Кузмин умел раскрыть в образах природы и в мире обыденных предметов, наполняющих повседневное течение жизни человека, и нашел способ сделать этот мир одним из определяющих мотивов своей лирики. Пастернак называл лирические перечисления Кузмина «приемом мгновенного и мимолетного затрагивания пейзажа и задевания за него в вещах большой лирической скорости»[15]15
См.: Письмо Б. Пастернака к Ю. Юркуну / Публ. Н. А. Богомолова // Вопросы литературы. 1981. № 7. С. 225–232.
[Закрыть].
Ход поэтического мышления Кузмина в каком-то смысле противоположен мышлению символистов. Кузмин стремился неземное поднимать до звезд, а небесное и звездное осмысливать и истолковывать как живущее на земле.
Отзыв о Кузмине Головина характерен: так воспринимали Кузмина его первые ценители, люди круга «Мира искусства». Они видели в нем только то, что было в них самих. Они считали его стилизатором, эстетом и «романтиком», в самом неопределенном и несколько пошловатом смысле этого термина. В таком толковании его творчества есть немало ложного, поверхностного и даже обывательского. Поэтическое мышление Кузмина непрерывно росло, развивалось и изменялось. Он был сложнее и значительнее, чем казалось его современникам, даже близким ему людям «Мира искусства».
Кузмин вышел из их среды и сквозь всю жизнь пронес некоторые взгляды и убеждения, восходящие именно к «Миру искусства», – представление об искусстве как об истинной и бессмертной реальности, более достоверной, чем окружающая действительность, которая нередко оказывается мнимой, обманчивой и кажущейся; непоколебимое равнодушие к социальной проблематике, всегда игравшей такую важную роль в русском искусстве и культуре; наконец, некоторые капризы вкуса, любовь к Бердслею, Уайльду, Д’Аннунцио и ко всей духовной атмосфере модерна.
Я думаю, что здесь же следует искать источник слабых и уязвимых сторон творчества Кузмина, проявившихся главным образом в его прозе, особенно в больших романах, вроде «Нежного Иосифа», «Плавающих-путешествующих» и «Тихого стража», с их нелепой, порою даже безвкусной сентиментальностью и странным мистицизмом, окрашенным какой-то грязноватой эротикой и переходящим иногда в непереносимую пошлость – которая, должно быть, коренилась глубоко в самой эпохе, потому что от нее не был свободен ни одни из больших художников модерна. Сам Михаил Алексеевич не мог этого видеть: он принадлежал своей эпохе и считал, что «Тихий страж» – одна из его лучших книг.
Ничего подобного нет в его стихах. Поэзия Кузмина рождается из лирического переживания, настолько глубокого и непосредственного, и выражает такую огненную силу чувства, что в ней исчезает и сгорает дотла все нечистое: сентиментальность становится растроганной нежностью, а эротическая мистика превращается в просветленную духовность.
В отличие от людей «Мира искусства», Кузмин был философом. Его отношение к действительности и даже его эстетизм вырастали на почве цельного мировоззрения, сложившегося в итоге глубокого изучения античных мыслителей – от пифагорейцев и Платона до Плотина, александрийцев и гностиков.
По верному определению Г. Шмакова, «Крылья» – непонятый современниками философский роман (пусть даже незрелый или неудавшийся).
Стилизация Кузмина опиралась не только на широкую образованность, нередкую в его поколении, но и на острую и проницательную интуицию, которой нелегко найти аналогию в русском искусстве и литературе. П. П. Муратов писал в предисловии к «Образам Италии» об удивительно проникновенном изображении христианского Рима в «Комедии об Алексее, человеке Божьем». Вяч. И. Иванов, разбирая «Повесть о Елевсиппе» и «Подвиги Великого Александра», указывал на «превосходный исторический колорит».
Тот же Вяч. И. Иванов, сам теснейшим образом связанный с романтизмом, настойчиво подчеркивал, что Кузмин – не романтик, «поющий и неслышащий»; он – эхо (в том особенном смысле, какой вкладывал в это слово Пушкин).
В романтизме Кузмин любил одного Гофмана; вся бунтарская и хаотическая стихия романтизма с ее трагическим безумием и чрезмерной, нередко ложной патетикой оставалась чужда его гармоничной и цельной, хотелось бы сказать, – гётеанской натуре. Любовь к Гофману, впрочем, тоже не была безоговорочной. Мне кажется, что Гофман привлекал Кузмина чертами, родственными искусству XVIII века, а не романтизму.
Однажды, играя, по моей просьбе, отрывки из оперы «Ундина», написанной Гофманом, Михаил Алексеевич сказал:
– Гофман всегда уверял, что преклоняется перед Моцартом. А в своей музыке оказался гораздо ближе к Бетховену. И это очень досадно!
Я хочу еще раз вернуться к цитированным строкам Головина. Мне кажется, что комната, описанная им, могла быть у деятелей старшего поколения «Мира искусства», обеспеченных людей и утонченных коллекционеров, – у Сомова, Дягилева или Нувеля, у самого Головина, наконец. Но невозможно представить себе ничего более противоположного тому, что в действительности было у Михаила Алексеевича. Ни резных рам, ни красного дерева, ни гобеленов я у него не видел, и склонен думать, что их никогда у него и не бывало – даже не потому, что Кузмин прожил свою жизнь отнюдь не в богатстве, а доживал ее в нужде. Он просто был выше суетной страсти к вещам, выше любви к уюту. Он жил в проходной комнате с висячей лампочкой под жестяным колпаком, среди рыночной мебели, не замечая ее и не нуждаясь в декорациях, потому что владел чудесным даром превращать в поэзию все, к чему прикасался. Бедная комната с некрасивыми вещами становилась таинственной и поэтичной, потому что в ней жил поэт.
* * *
Выше я сравнил Кузмина с Калиостро. Конечно, это не относится к его внешности. Михаил Алексеевич нимало не напоминал тучного и суетливого итальянца, так замечательно изображенного в «Новом Плутархе». Но, подобно своему герою, Кузмин обладал магической силой и зачаровывал людей. Облик Кузмина запечатлен во множестве портретов и не раз описан мемуаристами. Мне остается только рассказать, как выглядел поэт в последние годы жизни.
Если бы удалось хоть на минуту отвлечься от очарования, которое так непобедимо действовало на всех, кто знал Михаила Алексеевича, то, пожалуй, можно было бы сказать, что он выглядит старше своих лет. Его матово-смуглое лицо казалось пожелтевшим и высохшим. Седые волосы, зачесанные на лоб, не закрывали лысины. Огромные глаза под седыми бровями тонули в глубокой сетке морщин.
Таким изображают его почти все фотографии и некоторые поздние, натуралистические, впрочем, совершенно непохожие портреты; я имею в виду известную литографию Верейского и менее известный, но где-то воспроизводившийся рисунок П. И. Кржижановского. Если сравнивать с ранними портретами – хотя бы головинским или сомовским – становится заметно, что весь облик Кузмина с годами сделался строже и четче, графичнее, если можно так выразиться.
А если довериться сохранившимся любительским фотографиям, то может создаться впечатление, что Кузмин – это маленький худенький старичок с большими глазами и крупным горбатым носом.
Но это впечатление ложно. Фотографии ошибаются – даже не потому, что объектив видит не так, как глаз человека, а потому, что аппарат не поддается очарованию. А здесь все решалось именно силой очарования. Слова «старик» или «старичок» так несовместимы с обликом Кузмина, что, наверное, никому и не приходили в голову. Михаил Алексеевич был настолько не похож на других людей, что не подпадал под типовые определения.
Почти то же можно сказать о его поэзии. Она не поддается классификации.
Обычно, за неимением другого ярлыка, Кузмина причисляют к символистам. Сами символисты не считали его своим. Блок по поводу выступления Кузмина в групповом журнале «Труды и дни» с раздражением писал Андрею Белому, что «Кузмин на наших пирах не бывал»[16]16
Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М., Л. 1963. Т. 8. С. 386. Письмо Андрею Белому от 16 апреля 1912 г.
[Закрыть]. Правда, это не мешало символистам, в первую очередь именно Блоку, а также Бальмонту и Вячеславу Иванову понимать и очень высоко ценить поэзию Кузмина. В 1908 году Блок писал: «Милый Михаил Алексеевич, ‹…› читаю Вашу книгу вслух и про себя ‹…›. Господи, какой Вы поэт и какая это книга! Я во все влюблен, каждую строку и каждую букву понимаю и долго жму Ваши руки и крепко, милый, милый. Спасибо»[17]17
Там же. С. 241.
[Закрыть].
Были попытки непосредственно связать поэзию Кузмина с акмеизмом, но они едва ли убедительны. Некоторых критиков и историков литературы сбивала с толку статья Кузмина «О прекрасной ясности», напечатанная в «Аполлоне» почти одновременно с программными антисимволистскими статьями Гумилева и Городецкого. Однако в воззрениях Кузмина, и тем более в его творчестве, очень мало общего с акмеистической или какой бы то ни было групповой программой.
Мне вспоминается, как однажды кто-то из молодых гостей Кузмина стал хвалить стихи Гумилева и восхищаться гумилевской ясностью.
Михаил Алексеевич вмешался в разговор очень решительно.
– Да, – сказал он, – такая тупая ясность!
Акмеисты не любили стихов Кузмина и тоже не считали его своим. Лучше сказать, что они не всегда любили поэзию Кузмина и отзывались о ней иногда восторженно, а чаще – с холодностью и равнодушием. В 1916 году О. Э. Мандельштам писал: «Кузмин пришел от волжских берегов, с раскольничьими песнями, итальянской комедией родного, домашнего Рима и всей старой европейской культурой, поскольку она стала музыкой, – от „Концерта“ в Palazzo Pitti Джорджоне до последних поэм Дебюсси»[18]18
Мандельштам О. Письмо о русской поэзии // Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 265.
[Закрыть]. В более поздней статье (1922) он писал: «Пленителен классицизм Кузмина. Сладостно читать живущего среди нас классического поэта, чувствовать гётевское слияние „формы“ и „содержания“, убеждаться, что душа наша не субстанция, сделанная из метафизической ваты, а легкая и нежная Психея. Стихи Кузмина не только запоминаются отлично, но как бы припоминаются (впечатление припоминания при первом же чтении), выплывая из забвения (классицизм)»[19]19
Мандельштам О. О современной поэзии. К выходу «Альманаха Муз» // Там же. С. 259.
[Закрыть].
В устах Мандельштама – это особенно большая похвала. Он был убежден, что настоящие стихи следует именно припоминать уже при первом чтении, «выверяя каждое слово на своем опыте или соизмеряя его со своей основной идеей, той самой, что делает человека личностью»[20]20
Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1999. С. 274.
[Закрыть]. Но в последних строках статьи уже чувствуется холодок осуждения: «Однако кларизм Кузмина имеет свою опасную сторону. Кажется, что такой хорошей погоды, какая случается особенно в его последних стихах, и вообще не бывает»[21]21
Мандельштам О. О современной поэзии. С. 259.
[Закрыть].
В великолепно написанной статье «Буря и натиск» (1923) Мандельштам в следующих выражениях говорит о Кузмине и Ходасевиче: «Это типичные младшие поэты со всей свойственной младшим поэтам чистотой и прелестью звука». В контексте статьи Мандельштама «младшие» значит – второстепенные. Продолжаю цитату: «Для Кузмина старшая линия мировой литературы как будто вообще не существует. Он весь замешан на пристрастии к ней и на канонизации младшей линии, не выше комедии Гольдони и любовных песенок Сумарокова. В своих стихах он довольно удачно культивировал сознательную небрежность и мешковатость речи, испещренной галлицизмами и полонизмами. Зажигаясь от младшей поэзии Запада, хотя бы Мюссе, – новый „Ролла“, – он дает читателю иллюзию совершенно искусственной и преждевременной дряхлости русской поэтической речи. Поэзия Кузмина – преждевременная старческая улыбка русской лирики»[22]22
Мандельштам О. Буря и натиск // Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 287.
[Закрыть].
Гумилев в рецензии на «Осенние озера» пошел еще дальше в отрицании Кузмина, назвав его поэзию «салонной». Правда, этот убийственный эпитет сопровождается множеством вежливых оговорок, но они не меняют сути дела.
Впоследствии я слышал от А. А. Ахматовой, что, по ее убеждению, рецензия Гумилева навсегда оттолкнула Кузмина от всей группы акмеистов.
Я думаю, впрочем, что не следует с чрезмерной категоричностью отрывать Кузмина от той художественной проблематики, которая занимала акмеистов в пору создания «Цеха» и продолжала в дальнейшем влиять на творчество больших поэтов, входивших в состав группы. Почти одновременные выступления Кузмина и Гумилева с теоретическими статьями в «Аполлоне» свидетельствуют о том, что оба поэта делали общее дело, преодолевая наивную и прямолинейную метафизику символизма.
В те годы Мандельштам писал в статье «О природе слова»: «Русские символисты открыли такую же прозу: изначальную, образную природу слова. Они запечатлели все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно – ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. ‹…› Все преходящее есть только подобие. Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Для символиста ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза – подобие солнца, солнце – подобие розы ‹…›. Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс „соответствий“, кивающих друг на друга. ‹…› Никто не хочет быть самим собой»[23]23
Мандельштам О. О природе слова // Там же. С. 182–183.
[Закрыть].
Впрочем, литературные разногласия не всегда переносились на личные взаимоотношения поэтов. Гумилев сердечно любил Кузмина как человека и, мне кажется, разглядел в нем нечто очень существенное и характерное. У Гумилева была теория, согласно которой у каждого человека есть свой истинный возраст, независимо от паспортного и не изменяющийся с годами. Про себя Гумилев говорил, что ему вечно тринадцать лет. А Мишеньке (то есть Кузмину) – три.
– Я помню, – рассказывал Гумилев, – как вдумчиво и серьезно рассуждал Кузмин с моими тетками про малиновое варенье. Большие мальчики или тем более взрослые так уже не могут разговаривать о сладком – с такой непосредственностью и всепоглощающим увлечением.
В самом деле, в стареющем, поразительно умном и необыкновенно широко образованном Кузмине иногда проскальзывали черты детского чистосердечия, ясности и непосредственности, какие могут быть свойственны разве только трехлетнему ребенку. (Рассказ Гумилева я записываю со слов О. Н. Гильдебрандт.)
* * *
Часто бывая на дневных чаепитиях у Михаила Алексеевича, я познакомился, вероятно, почти со всеми людьми, окружавшими его в последние годы жизни.
Самыми близкими друзьями Кузмина были в ту пору Радловы. Кузмин очень любил Анну Дмитриевну Радлову, называл ее «поэтом с большим полетом и горизонтами» и восхищался ее внешностью, в которой находил черты сходства с Линой Кавальери[24]24
Лина Кавальери (1874–1944) – итальянская оперная дива, актриса кино, фотомодель.
[Закрыть], но вместе с тем и что-то лошадиное: «Помесь лошади с Линой Кавальери». Дружба распространялась на все семейство Радловых, то есть на Сергея Эрнестовича, известного режиссера, а также на его брата Николая Эрнестовича, очень образованного и остроумного человека, превосходного критика, но неважного художника.
Впрочем, ирония Михаила Алексеевича не щадила и друзей. Про Анну Дмитриевну ему случалось говорить, что она «генеральша бестолковая», а на Николая Эрнестовича он досадовал за портрет, написанный в двадцатых годах, а позднее находившийся в Пушкинском Доме. Кузмин изображен там держащим в руках свою книгу «Нездешние вечера».
Мне, по службе в Русском музее, пришлось однажды взять этот портрет из Пушкинского Дома на какую-то выставку. Автомобиля мне, естественно, не полагалось, и я шел с Васильевского острова пешком с портретом в руках. Когда я рассказал об этом Кузмину, он посмеялся, а потом проговорил полушутя, полувсерьез, и как-то совсем по-детски:
– А я-то думал, что вы мне друг. Только подумать, вы несли в руках эту гадость, шли с ней через мост и не выбросили в Неву!
– Почему вы считаете портрет таким плохим? – спросил я.
– Вы же его видели. Что уж тут комментировать! – ответил Михаил Алексеевич. – К тому же что за нелепая мысль изображать меня с моей собственной книгой! Я никогда не читаю моих книг. Я в них вижу одни только недостатки.
И, помолчав, прибавил:
– Впрочем, если бы эти стихи написал кто-нибудь другой, они мне, может быть, нравились бы.
Знакомые Радловых становились знакомыми и посетителями Кузмина. Это были артисты, люди театра, художники. Кузмин часто говорил, что всю свою жизнь прожил среди художников. В молодости он был близок с Сомовым и со всем кругом старшего поколения «Мира искусства», позже – с Судейкиным и особенно с Сапуновым. Все они так или иначе отразились в поэзии Кузмина, а иные имели на нее немалое влияние.
В сборнике «Форель разбивает лед» есть стихотворение под заглавием «Мечты пристыжают действительность», где появляются тени исчезнувших друзей:
В том же сборнике, во «Втором вступлении»:
Непрошеные гости
Сошлись ко мне на чай.
Тут хочешь иль не хочешь,
С улыбкою встречай.
…
Художник утонувший
Топочет каблучком, (Сапунов)
За ним гусарский мальчик (поэт Всеволод Князев)
С простреленным виском…
Более раннее стихотворение – «Сапунову», написанное после гибели художника, невольным виновником которой был Михаил Алексеевич:
Не знал, другая цель нужна ли,
Как ярче сделать завиток,
Но за тебя другие знали,
Как скромный жребий твой высок.
…
Всегда готов, под мышки ящик,
Дворец раскрасить иль подвал,
Пока иной, без слов, заказчик
От нас тебя не отозвал.
…
Сказал: «Я не умею плавать», —
И вот отплыл плохой пловец,
Туда, где уж сплетала слава
Тебе лазоревый венец.
В последние годы жизни Кузмин продолжал дружить с художниками. Постоянно бывал у него последний обломок «Мира искусства», учтивый и чинный петербуржец, скромнейший человек и пленительный художник Дмитрий Исидорович Митрохин. Почти так же часто появлялся петербуржец совсем иного типа, близкий к кубизму живописец и график Владимир Васильевич Лебедев, которого Кузмин считал несравненным мастером, но несколько холодным и слишком рассудочным художником. Наездом из Москвы нередко появлялись у Кузмина В. А. Миклашевский, Т. В. Маврина, Н. В. Кузьмин, а также А. А. Осьмеркин и А. Г. Тышлер, которые, в отличие от большинства художников, любили и понимали стихи.
Изобразительное искусство вошло и в самый дом Кузмина вместе с О. Н. Гильдебрандт-Арбениной, женой Юркуна, бывшей актрисой, покинувшей театр ради живописи. Художником стал и Ю. И. Юркун, к некоторому неудовольствию Михаила Алексеевича: он чрезвычайно высоко ставил писательское дарование Юркуна и считал, что тот должен заниматься литературой, а не рисунками.
К Юркуну часто приходили молодые художники. Среди них Михаил Алексеевич особенно выделял Павла Ивановича Басманова, с большой проницательностью угадав в нем оригинальный и сильный талант.
Он подарил Басманову очень хороший и, несомненно, подлинный рисунок Сурикова и сказал при этом:
– Вы любите Сурикова, а мне вот больше нравятся ваши акварели.
Иногда, очень редко, в кузминском доме появлялась компания веселой молодежи, не художественной, не литературной и даже не окололитературной. Ее приводил талантливый музыкант и весьма светский молодой человек кн. Петр Андреевич Гагарин: с ним приходили его прелестная жена и два или три приятеля. Михаил Алексеевич любил молодые лица и радовался их появлению.
* * *
Однако большинство посетителей кузминского дома все-таки составляли поэты. Очень разные, непохожие друг на друга, и по большой части далекие от той поэтической культуры, носителем которой был сам Кузьмин, они все тянулись к нему, потому что высоко ценили его мнение, свойственную ему тонкость понимания стихов, точность и молниеносную быстроту его реакций и умение дать верный совет.
Я не застал того времени, когда Кузмин дружил с Хлебниковым или, позже, с Пастернаком. Но я перевидал у него немало поэтов – кажется, из всех живших тогда поколений.
Выше я уже назвал Бенедикта Лившица и Анну Радлову. За чайным столом у Михаила Алексеевича я встречал Сергея Спасского, Рюрика Ивнева, Виссариона Саянова и Сергея Нельдихена.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































