Текст книги "Турдейская Манон Леско"
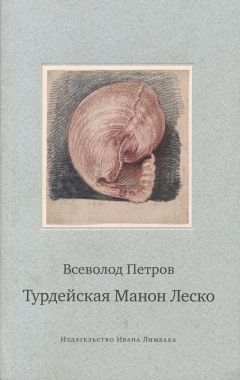
Автор книги: Всеволод Петров
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
XXVII
После отъезда я долго не мог по-настоящему прийти в себя, не умел найти себя самого и опомниться. К одиночеству трудно было вернуться. Я продолжал чувствовать Веру рядом, как будто не расставался с ней. Все, что я видел и думал, полно было Верой; она стала мне еще ближе. Я, кажется, стал ее больше любить, потому что теперь мне ничто не мешало; даже сама Вера мне не мешала. Я по-прежнему жил в остановившемся времени; не было никакого «дальше».
Я с трудом заставлял себя думать словами о Вере; даже лицо ее было настолько подробно знакомо мне, что я не мог его вспомнить – потому что близких знаешь не зрением, а особенным внутренним чувством: увидишь и даже как будто не узнаёшь, а что-то уколет в сердце. Только отрывки зрительных воспоминаний продолжались у меня в памяти, особенно самый последний: Вера вместе с Ниной Алексеевной провожали меня, когда я садился в автомобиль; я видел, как они обнялись и обе махали мне вслед – одна левой, а другая правой рукой.
Я заставлял себя думать о том, что будет со мной и с Верой. Но твердо знал я только одно, хоть об этом старался не вспоминать: Вера меня не то что забыла сразу, когда я уехал, а как-то отодвинула, так же как ради меня отодвинула прежних своих возлюбленных. Для нее не существовало прошлого, даже самого близкого.
Я представлял себе, что больше никогда не увижу Веру – просто не поеду к ней, буду думать о другом, отвыкну, может быть, совсем уеду, и Вера для меня вернется в небытие, как Левит, Галопова, капитанша: останется только смутная память, как о чем-то чужом.
Так не могло быть.
Я представлял себе иначе: Вера изменит мне, может, еще раньше, чем я приеду. Мне скажут об этом. У нас не будет никаких объяснений. Пусть она не лжет. Я с ней прощусь, как будто ничего не произошло. Больше мы не увидимся. Понемногу я отвыкну от нее и забуду. Когда я так думал, у меня скребло на душе. Конечно, так будет, и нечего дальше придумывать. Мне было так больно, как будто все уже вправду случилось.
А если Вера мне не сразу изменит? Я приеду, и Вера будет со мной по-прежнему, а потом не сможет не изменить. И почему? Из любопытства, от жадности к жизни. Или просто так, по привычке. Будет все то же, только не сразу кончится остановившееся время. А потом оно кончится, и мне останется понемногу отвыкать и понемногу забывать.
Я хотел представить себе, что всегда буду с Верой. Но этого я не мог себе представить. Вера была совсем от меня отдельной. Мы ни в чем не совпадали. Может быть, она хотела и не умела стать на меня похожей. Я вспомнил, как еще в вагоне, где меня называли юродивым, Вера мне с торжеством рассказала: «Знаешь, девчонки говорят, что я с тобой тоже стала юродивой». Она не стала юродивой. А я, должно быть, потому и любил ее, что она во всем была мне противоположна.
Вера меня отодвинула. Это я знал. Все, что я старался думать, было пустым и насильственным рассуждением. Я ничего не в силах был решить. От меня не зависело изменить судьбу, которая шла неотвратимо и должна была нас раздавить. Я не мог не поехать к Вере. Но судьбу я чувствовал, как ни старался заглушить в себе это чувство.
XXVIII
Первые письма от Веры пришли очень скоро. Следом за ними пришло письмо от Нины Алексеевны. Отчасти это вывело меня из духовного оцепенения, из круга все тех же неподвижных мыслей. Письма были доказательством совершившихся перемен; что-то сдвинулось с места. Я увидел себя со стороны. Вот они живут там и думают обо мне. Письма втолковали мне мое одиночество. У Веры возможна жизнь, о которой я не знаю и никогда не узнаю. Ничего, что мы мало говорили о ней, когда были вместе; все, о чем она думала, отпечатывалось на ее лице. Я умел читать лицо Веры. Читать ее письма я не умел. Она была не со мной. За письмами могло скрываться все, что я только себе представлял.
Письма были полны нежных слов и уверений в любви. Чувства меры в них не было. «Почему ты не приезжаешь? – писала Вера. – Если бы ты знал, как я каждую минуту жду тебя. Я смотрю в окно, не едешь ли ты. Я чуть в обморок не упала при виде военного в такой же шинели, как твоя. Мне подумалось, что ты за мной приехал». В другом письме было еще написано: «Я так счастлива, так счастлива и счастьем обязана тебе. Милая Нина Алексеевна такая чудесная. Я ее люблю до слез, без нее не могу шагу ступить. Я уже у нее серьезно просила прощенья – и она меня простила. Я ее полюбила так же неожиданно, как тебя, только я плакала больше, лились счастливые слезы». В каждом письме была подпись: «Твоя, твоя, только твоя Вера».
Сама Нина Алексеевна тоже написала мне письмо: «Мы с Верочкой очень любим друг друга и часто говорим о вас. У нас было много всяких приключений. Вера мне теперь стала понятней, и вы тоже. Почему-то Вера все время просит у меня прощенья, а в чем – я не знаю. Мы даже плакали вместе, неизвестно о чем, но очень искренно. Вы какое-то имели значение в этих слезах».
XXIX
К концу недели письма прекратились. Я тоже не писал и не мог бы написать письмо. Я как-то рассеялся, отвлекся – неведомо чем – и перестал думать, не замечал ничего, что было вокруг меня, кроме каких-то пустых, исчезающих мелочей. Это было похоже на отупение или, лучше сказать, на такую степень ожидания, когда перестаешь уже ждать и что-либо чувствовать, когда желание напрягается до безразличия.
Еще через неделю я с безразличием принял командировку в село, где жила Вера. Мне только стало немного страшно, что это случится сегодня. Волноваться я начал, только когда въезжал в село и увидел домик, в котором жили Вера и Нина Алексеевна.
Обе были дома. Вера бросилась и обняла меня так стремительно, что я едва успел увидеть ее. Потом она так же порывисто бросилась и обняла Нину Алексеевну. Я не узнал Веру. Она показалась мне совсем непохожей на то, что я старался вспомнить и вообразить. За нашу турдейскую жизнь я настолько к ней привык, что уже не знал, какая она. Теперь я увидел, как Вера красива; больше – ослепительна. Что-то раскрылось в ней новое или, может быть, не замеченное раньше.
– Верочка, я не узнал тебя, ты какая-то новая, – сказал я.
– Теперь я настоящая, не вагонная, – сказала мне Вера.
– Ты красавица, – сказал я. – Мне кажется, что я тебя раньше не видел.
– Ты, значит, опять в меня влюбишься, – ответила Вера.
Через минуту я подробно узнал, каких бед успела натворить Вера в госпитале, как ей доставалось и как ее спасала Нина Алексеевна.
– Эта девочка совсем не может усидеть на месте, она с каждого дежурства убегает… – сказала Нина Алексеевна и остановилась. Наверно, она хотела сказать: «убегает на свидания».
Вера немного смутилась.
– Ты не знаешь, как мы любим друг друга, мы как сестры, наша хозяйка сначала думала, что мы сестры, – быстро сказала Вера. – И про тебя она знает, мы ей говорили, что к нам приедет самый чудесный, самый милый и мой самый любимый человек.
Сама хозяйка появилась при этом в дверях, осклабилась и тотчас исчезла. Вслед за ней ушла Вера – ей нужно было хоть ненадолго показаться в госпитале. Я предложил Нине Алексеевне пойти погулять.
Село стояло в ровной степи, все дороги были похожи одна на другую, а в стороне был огромный, должно быть, помещичий сад с высокими старыми деревьями.
– Пойдемте туда, – сказал я.
– Не стоит, – ответила Нина Алексеевна, – там вечно толчется много народа, и к тому же это дорога в госпиталь; она мне надоела.
– Нам больше некуда идти, – сказал я. – В степи теперь безотрадно, и вообще степь – не место прогулок. А лучше барского сада ничего на свете не бывает. Он издали напоминает Ватто. Мне нужно его посмотреть.
– Право, там нечего смотреть, и мне не хочется идти туда, – сказала Нина Алексеевна.
Я все-таки упросил ее. Сад был почти пуст, никто не толокся в нем; только в одной аллее гуляли несколько раненых.
– Вы в самом деле любите Верочку? – спросил я.
– В самом деле очень люблю, – ответила Нина Алексеевна. – В ней какое-то непобедимое очарование. Я все делаю, что она хочет. Я теперь ее знаю, наверное, лучше, чем вы. Восемнадцатый век тут ни при чем. Вера живая, веселая, капризная. Вы не видали, как она бьет кулаками и топает, когда с ней случаются служебные неприятности, и как она хохочет потом. А с вами она становится тихой и грустной. Вы ее давите.
– Восемнадцатый век был таким же живым, как наш; ведь Вера не стилизованная пастушка, в ней по-настоящему живет Манон Леско, в ней нет ничего, кроме любви и готовности принимать любовь. А я не давлю ее, – сказал я.
В эту минуту мне показалось, что я вижу Веру в дальнем конце сада. Она шла с каким-то мужчиной; она тоже увидела нас, остановилась и вдруг исчезла. Может быть, это была не она. Вскоре навстречу нам вышел высокий голубоглазый юноша в солдатской шинели. Поравнявшись, он поздоровался – не по-военному.
– Кто это? – спросил я.
– Это Федя, наш повар, – ответила Нина Алексеевна.
– Верин кавалер? – быстро спросил я.
– Конечно нет, – со смущением сказала Нина Алексеевна.
– Я не давлю Веру, со мной она естественная, более настоящая, чем с вами, – сказал я.
– Вы всё стараетесь поднять ее выше, чем ей это свойственно; ей это кажется лестным, и она становится неестественной, – сказала Нина Алексеевна.
– Я все же думаю, что Вера меня теперь отодвинула в сторону, – сказал я.
– Как вы можете так понимать… то есть так считать? Разве она бы встретила вас так восторженно? – сказала Нина Алексеевна.
Вера догнала нас, когда мы возвращались. Весь вечер она ни на шаг не отошла от меня. Все было по-прежнему. Я не мог от нее оторваться. Я держал ее за руку и не сводил с нее глаз. Мы, как раньше, говорили с ней ни о чем. Я повернулся, чтобы прочитать ее лицо. Она была со мной. Прошлое, даже сегодняшнее – если что и было в саду, – перестало существовать для Веры. Время снова остановилось.
Мне отвели комнату в том же доме. Когда все уснули, Вера тихонько вошла ко мне; я никогда не ждал ее так мучительно, как в ту ночь. Она опять показалась мне большой и строгой. А к утру снова стала тоненькой девочкой и уснула у меня на плече.
Я встал поздно; Вера и Нина Алексеевна ушли уже в госпиталь. В тот же день я был должен уехать. С Ниной Алексеевной я простился еще вечером, а Вера обещала прийти меня проводить. Утро кончилось; в комнату вошла хозяйка. Когда я расплачивался за ночлег, она вдруг сказала мне:
– Хочу вас предупредить – опасно оставлять молодую женщину без присмотра.
– Почему? – рассеянно спросил я, не вслушиваясь и не понимая.
– Сегодня вот вы ночевали, а вчера на вашем месте другой военный ночевал, – ответила хозяйка.
– Как вы смеете рассказывать мне мерзости! – закричал я с таким бешенством, что хозяйка сейчас же исчезла.
Но слово было сказано. У меня было доказательство. Мне показалось, что я ничего другого не ждал, что я еще вчера знал об этом. Какая отвратительная слабость с моей стороны – все, что было ночью. Я вспомнил о Верином притворстве. Федя-повар был любовником Веры. В саду она предупреждала его о моем приезде – чтобы он не приходил. Я твердо знал, что это не сплетня, а правда. Известие меня не оглушило, потому что я внутренне давно к нему приготовился. И все-таки оно меня оглушило. «И раньше, еще в Турдее, был казак. И, может быть, Асламазян», – думал я.
Когда Вера пришла провожать меня, я с трудом заставил себя на нее посмотреть. Она была рассеянной; я считал, что она хочет как можно скорее меня спровадить. Я простился с ней, как было задумано, – не показывая вида, как будто ничего не произошло. Я даже поцеловал ее; но прощанье вышло еще холодней, чем я думал. Я сел в автомобиль и не обернулся, не взглянул на нее еще раз.
Мне предстояла длительная поездка по всем окрестным деревням. На ночлег я остался в поле, верстах в тридцати от села. Ночью шофер разбудил меня. Огромное зарево стояло на горизонте. До нас доносились разрывы.
– Это в селе, где госпиталь, – сказал мне шофер.
XXX
Письмо о смерти Веры, написанное смертельно подавленной и напуганной Ниной Алексеевной, догнало меня в далекой деревне. Госпитальный солдат подал мне конвертик. «Вера убита. Я не знаю, как мне писать вам. Ее не стало совсем, даже тела нет. Комната, в которой она была, разбита в куски. Я только нашла обрывок от ее платьица. Я сразу не могла вам писать и теперь не могу. Вам еще ужаснее, чем мне, а я умру от ужаса».
Я стал так медленно думать, как будто я не думал, а видел себя откуда-то сверху, сгорбленного, с трясущейся шеей. Если бы я стоял, хорошо бы было упасть и разбить голову, расколоть, как арбуз, и умереть. Солдат от меня отвернулся. Мне показалось, что я перебираюсь, как-то ползу по жердочке над пустотой. Я вздрогнул, как будто оборвался, и схватил за плечо солдата.
Он почти ничего не мог рассказать мне. Была бомбардировка, потом пожар. Много убитых и покалеченных. Целое здание разбито, бомба пробила крышу и взорвалась в комнате.
«А Веру ты знал?» – хотел я спросить солдата, но мне никак не выговорить было этих слов.
Я сейчас же поехал в село. Был уже вечер; весь день шел дождь; машина медленно ползла по скользкой глине, срывалась, останавливалась и разбрызгивала фонтаны грязи. Я сидел в кабине сгорбленный, как будто воздух давил меня своей тяжестью. Я знал за собой непоправимую вину перед Верой. Это я приговорил ее к смерти. Я ждал катастрофы и накликал на нее судьбу. Я не умел простить ей измену. Она умерла; теперь легко простить. А простит ли мертвая все дурное, что я ей сделал и что думал о ней.
Машина еле шла; наконец она встала среди дороги. Колеса вертелись на месте.
– Дальше не поедем, – сказал шофер.
Я выскочил из автомобиля и пошел пешком, сам не зная, иду ли я действительно в ту сторону, где село.
XXXI
Я шел, не разбирая дороги, по глинистой, скользкой и вязкой степи. Вокруг меня стояли пустые поля и овраги. Ночь наступала быстро. Дул ужасный, безостановочный степной ветер, и лил дождь. Я не мог не идти вперед. Я стал как-то легче, когда остался один. Все стало совсем по-иному: кончилась память, ничего не осталось от связей с людьми и вещами, со всей жизнью, устроенной и протекающей в форме; время не шло. Вокруг была жизнь – особенная, ставшая в стороне от всяких определений. Мы с Верой входили в нее без имени. Так я снова мог чувствовать Веру живой. Ночь была не темная и не светлая – скорее всего, какие-то довременные сумерки, в которых, пожалуй, было и видно, только все расплывалось; предметы становились бесформенными напоминаниями. Я шел вперед, не чувствуя движения: та же степь оставалась под ногами, тот же дождь и облака вокруг. Так, может быть, идет душа после смерти. Вера была со мной. Я знал, что иду по границе жизни и смерти и что эта граница – бессмертие.
Наверно, я долго плутал по степи, пока не вышел к реке. Ночь не темнела и не светлела. Я, кажется, падал и поднимался. Может быть, я возвращался назад. А мне казалось, что я иду прямо, как по ниточке, вытянутой в пространство. Какая-то деревня оказалась рядом с дорогой. Я вошел в чужой дом, постелил шинель на голом полу и мгновенно уснул. Меня разбудили в пятом часу. Утро было холодное, чистое и прелестное. Солнце – высшее проявление и высшее торжество формы. С высокого берега реки Сосны я видел тропинки, поля и овраги, по которым бродяжил вчера.
‹1946?›
От публикаторов
Всеволод Николаевич Петров (1912–1978) не по времени рождения, а по облику и поведению, сказывавшемуся в старомодной учтивости, манере говорить и одеваться, принадлежал, без сомнения, первому десятилетию XX века. Он происходил – и всегда помнил об этом – из старинного дворянского рода, восходившего к XV веку. По его словам, наиболее именитым представителем рода был его дед – Николай Павлович Петров (1836–1920), инженер-механик и технолог, генерал, с 1900 года член Государственного совета; он изображен на картине И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета» (1903). Его отец, Николай Николаевич Петров (1876–1964), выдающийся медик, несколько десятилетий стоял во главе кафедры хирургии Института усовершенствования врачей и был отмечен почти всеми возможными званиями и государственными наградами[1]1
См.: Серебров А. Н. Н. Петров. М., 1972.
[Закрыть].
Как искусствовед В. Н. Петров сформировался в первую очередь под влиянием крупнейшего русского теоретика искусства и художественного критика прошлого века Николая Николаевича Пунина (1888–1953). Хотя В. Н. Петров не слушал знаменитых лекционных курсов Н. Н. Пунина, однако он служил в 30-е годы под его началом в Русском музее. Д. В. Сарабьянов во вступительной статье к сборнику статей В. Н. Петрова приводит его слова о Пунине: «Он учил меня своим живым примером, в моей юности стал для меня недосягаемым образцом; стремясь приобщиться к этому образцу, я старался воспитать в себе пунинское искусствоведческое зрение – иначе говоря, умение анализировать и как бы вживаться в искусство, умение видеть живопись или пластику в их профессиональных качествах, умение отличить хорошее от дурного, умение угадывать в готовом произведении замысел»[2]2
Петров В. Очерки и исследования. Избранные статьи о русском искусстве XVIII–XX веков. М., 1978. С. 8.
[Закрыть]. Н. Н. Пунину и Русскому музею посвящены его воспоминания «Фонтанный дом» (1972). Здесь же он рассказал о том, как Пунин впервые привел его к себе и представил Анне Ахматовой. Пунинский подход, его вкусы и даже пристрастия запечатлелись в той или иной степени во всех трудах В. Н. Петрова. Еще в 1932 году, при подготовке в Русском музее знаменитой выставки к 15-й годовщине революции, Н. Н. Пунин познакомил его почти со всеми великими мастерами русского авангарда. Тогда же он сошелся и с другими художниками, близкими Пунину. Так, об общении с Тырсой он рассказал в воспоминаниях «Встречи с Н. А. Тырсой» (60-е годы). Мемориальные же выступления и памятные статьи, посвященные художникам, дружба с которыми зародилась у него в 30-е годы, до сих пор опубликованы лишь частично. Замечательному художнику В. В. Лебедеву, чье новаторство Пунин неоднократно анализировал в своих статьях и книгах, В. Н. Петров посвятил обобщающее исследование[3]3
Петров В. Владимир Васильевич Лебедев. 1891–1967. Л., 1972.
[Закрыть], признаваясь, однако, что далась ему эта книга нелегко.
В 1949 году, после газетной травли, изгнания со службы и ареста Н. Н. Пунина, В. Н. Петров, чье имя постоянно называлось в газетах рядом с именем его учителя, был вынужден уйти из Русского музея. Заступничество художников Конашевича и Пахомова не помогло. И тогда на помощь пришли давние литературные знакомства. Вместе с писателем Геннадием Гором они написали и издали в начале 50-х годов три сравнительно объемистые популярные книжки о русских художниках Федотове, Перове и Сурикове. Тогда же И. Э. Грабарь предложил ему написать главы о скульптуре XVIII–XIX веков для многотомной «Истории русского искусства». Позже эти главы разрослись в книги, и прежде всего – в первую обобщающую монографию о великом русском скульпторе М. И. Козловском[4]4
Петров В. Михаил Иванович Козловский. М., 1977.
[Закрыть]. Любопытна предыстория глав об искусстве конца XIX – начала XX века, написанных по предложению В. Н. Лазарева для десятого тома «Истории русского искусства», среди которых особо выделяется работа о «Мире искусства», вышедшая позже отдельной монографией[5]5
Петров В. «Мир искусства». М., 1975.
[Закрыть]. Поступив осенью 1932 года на службу в Русский музей, В. Н. Петров занимался разбором архивов журнала «Аполлон» и А. Н. Бенуа. Представляется, однако, что его понимание «Мира искусства» как особого художественного направления определили не столько эти занятия, сколько беседы и статьи Пунина, который был одним из ведущих художественных критиков «Аполлона» и при переходе к новым живописным формам резко полемизировал с Бенуа. Об этом написано в его воспоминаниях «Фонтанный дом»: «Я с затаенным, но пристальным вниманием всматривался в необыкновенных людей, с которыми свела меня судьба. Они казались мне живым воплощением духа той эпохи, которая совпала с годами их молодости. Эпохи поразительного, небывалого, с тех пор уже не повторявшегося взлета русской культуры. Я полюбил эту эпоху уже тогда, в моей юности, потом изучал ее в течение всей моей жизни и навсегда благодарен Ахматовой и Пунину, которые помогли мне понять их время и непосредственно к нему прикоснуться». Последней большой работой В. Н. Петрова стал, как он называл ее, «трактат о Конёнкове»[6]6
Петров В. Искусство С. Т. Конёнкова // Сергей Конёнков: Альбом. М., 1978. С. 7–37.
[Закрыть]. Важной и необычной особенностью этого трактата было то, что для истолкования работ Конёнкова привлекались положения книги А. Ф. Лосева «Диалектика мифа» (1930), в то время практически неизвестной и недоступной даже для знатоков.
Едва ли не таким же значимым, как художническая среда, становится для В. Н. Петрова круг М. А. Кузмина, где он появился в 1933 году и почти сразу стал постоянным посетителем[7]7
См.: Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011.
[Закрыть]. Воспоминания «Калиостро» поразительно достоверно передают атмосферу кузминского быта и бытия и являются одним из немногих источников, свидетельствующих о последних годах жизни поэта. Еще один мир 30-х годов был в то время таким же важным для него. Художница О. Н. Гильдебрандт (Арбенина), жена Ю. И. Юркуна, в 1938 году познакомила В. Н. Петрова с Хармсом. В своих воспоминаниях он писал: «Мне выпала судьба стать последним другом Хармса». И пояснял: последним в ряду последовательно сменявших друг друга ближайших друзей Хармса в 20–30-е годы – А. Введенского, Н. Заболоцкого, Н. Олейникова, Я. Друскина, дружба с которыми продолжалась, но без прежнего накала сердечной близости. Воспоминания о Хармсе остались недописанными, но они вполне завершены в написанной части. Мемуарную прозу В. Н. Петрова, как и его искусствоведческую, отличают несомненные художественные достоинства. Дело не только в строгом, почти ритмически выверенном стиле. Ей присуще еще одно качество, которое сам он отметил в воспоминаниях своего учителя: «Литературное дарование Н. Н. Пунина проявилось наиболее ярко в его замечательной, к сожалению, неоконченной мемуарной книге „Искусство и революция“. Он начал писать ее в 30-х годах; тогда только что вышла в свет „Охранная грамота“ Бориса Пастернака, а незадолго был напечатан „Шум времени“ О. Мандельштама. В советской литературе рождался новый жанр мемуарного повествования, пронизанного философской мыслью и наполненного живым и острым ощущением истории. Н. Н. Пунин высоко ценил обе названные книги; они служили ему как бы критерием художественности, какой он сам стремился достигнуть в своих мемуарах. Сохранившиеся главы „Искусства и революции“, нимало не напоминая по стилю ни „Охранную грамоту“, ни „Шум времени“, не уступают им по литературному качеству»[8]8
Петров В. Н. Н. Пунин и его искусствоведческие работы // Пунин Н. Русское и советское искусство. Избранные труды о русском и советском изобразительном искусстве. М., 1976. С. 11–12.
[Закрыть]. Можно думать, что того же качества В. Н. Петров сознательно добивался и достигал его в своих мемуарах. Но это же качество присуще и его большой прозе. В 30-е годы он начал писать (отчасти под влиянием Хармса и Кузмина) короткие рассказы, а сразу после войны, вернувшись с фронта (где он был с августа 1941-го по конец войны), написал повесть «Турдейская Манон Леско», которую позже изредка читал вслух друзьям и знакомым.
Повесть печатается по правленой машинописи (частное собрание), с уточнениями по автографу (ИРЛИ, ф. 809). В машинописи имеется ряд пропусков, автором не восстановленных, – от мелких фрагментов и отдельных фраз до целых абзацев (например, окончание XXI главки – «У меня был издавна какой-то смутный образ Марии-Антуанетты ‹…› и разрешаются в романтизме»): скорее всего, автор вычитывал и правил позднейшую машинописную копию, но не сверял ее с рукописью. Отсутствующие в машинописи фрагменты текста восстанавливаются по автографу.
Н. Николаев, Вл. Эрль
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































