Текст книги "Турдейская Манон Леско"
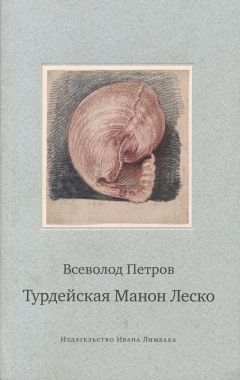
Автор книги: Всеволод Петров
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Воспоминания
Фонтанный дом[9]9
Впервые: Петров В. Фонтанный дом / Публ. Я. Чехановец // Наше наследие. 1988. № 4. Здесь и далее примеч. ред.
[Закрыть]
…Там, свидетель всего на свете,
На закате и на рассвете
Смотрит в комнату старый клен…
Поэма без героя
Николай Николаевич Пунин был похож на портрет Тютчева. Это сходство замечали окружающие. А. А. Ахматова рассказывала, что когда еще в двадцатых годах она приехала в Москву с Пуниным и они вместе появились в каком-то литературном доме, поэт Н. А. Асеев первый заметил и эффектно возвестил хозяевам их приход: «Ахматова и с ней молодой Тютчев!»
С годами это сходство становилось все более очевидным: большой покатый лоб, нервное лицо, редкие, всегда чуть всклокоченные волосы, слегка обрюзгшие щеки, очки.
Сходство, я думаю, не ограничивалось одной лишь внешностью; за ним угадывалось какое-то духовное родство.
Оба – великий поэт и замечательный критик – были романтиками.
Оба более всего на свете любили искусство, но вместе с тем стремились быть в какой-то степени политическими мыслителями. О пунинском романтизме – в первую очередь именно в сфере политики – мне еще предстоит рассказать.
В облике Пунина чувствовалось что-то женственное. Недоброжелатели говорили: «Похож на бабу». Этим тоже усиливалось сходство с Тютчевым, только Пунин был стройнее и выше ростом, и, кроме того, я полагаю, гораздо демократичнее. Ничего напоминающего маркиза или аббата XVIII столетия в нем не замечалось. О своем сходстве с великим поэтом он, конечно, знал, но, мне кажется, никогда об этом не думал и нимало не стилизовался.
Самой характерной чертой Пунина я назвал бы постоянное и сильное душевное напряжение. Можно было предположить, что в его сознании никогда не прекращается какая-то трудная и тревожная внутренняя работа. Он всегда казался взволнованным. Напряжение находило выход в нервном тике, который часто передергивал его лицо.
Пунин чуть-чуть заикался, но он владел своим заиканием и даже превратил его в ораторский прием. Начиная говорить, он как будто глотал воздух; потом, как с разбега, произносил своим металлическим звенящим голосом стремительно-быструю фразу. Это производило впечатление и заставляло его слушать. Я никогда не встречал человека, в котором бы более ярко выступало прирожденное и блистательное ораторское дарование. Импровизация была его стихией. Те, кто читал статьи и книги Пунина, знают, с каким совершенством он владел русской литературной речью. Но говорил он еще лучше, чем писал.
Я впервые увидел Пунина, кажется, в 1928 или 1929 году на открытом заседании Совета художественного отдела Русского музея. На такие заседания иногда допускали постороннюю публику; ее бывало довольно много. Шло обсуждение выставки Нико Пиросманишвили. Сначала выступали какие-то неизвестные мне грузины. Потом на кафедру быстро поднялся высокий, тогда еще молодой человек в элегантном костюме с галстуком-бабочкой. В руке он держал монокль.
Молодые люди, сидевшие вместе со мной в последнем ряду – должно быть, студенты Института истории искусств, – перешептывались: «Николай Николаевич Пунин!» В отличие от остальных выступавших, он говорил с увлечением и подъемом.
Теперь уже не помню содержание его речи и едва ли мог бы тогда ее оценить – я был шестнадцатилетним школьником. Но меня поразила и навсегда запомнилась стремительная энергия и непринужденность ораторской манеры Пунина.
Через несколько лет я с ним познакомился.
* * *
Осенью 1932 года я был экстерном III курса исторического факультета и поступил на службу в Русский музей.
Состав ведущих работников музея отличался тогда необыкновенно высоким научным уровнем, какого позже, кажется, никогда уже не удавалось достигнуть. Музейную работу возглавляли выдающиеся искусствоведы.
Нетрудно понять, какой подготовкой и вместе с тем взыскательной школой для тогдашней музейной молодежи было общение с этими замечательными людьми, которые искренне стремились поделиться своими знаниями, передать свой опыт и научить пониманию искусства.
В музее господствовала тогда особая атмосфера, тоже потом не повторившаяся: очень деловая, но свободная от педантизма. Я сказал бы – полная интеллектуального напряжения и, вероятно, именно поэтому на редкость доброжелательная и даже веселая. В создании этой атмосферы главная роль принадлежала нашим руководителям – «начальству».
В начале 1930-х годов Русский музей состоял из трех отделов: историко-бытового, этнографического и художественного. Такая структура осталась в наследство от дореволюционного «Русского Музея имени императора Александра III». Впрочем, каждый отдел жил своей собственной жизнью; связь между ними практически не осуществлялась. Недаром они впоследствии стали самостоятельными учреждениями.
Художественным отделом (впоследствии переименованным в Государственный Русский музей) заведовал Петр Иванович Нерадовский, историк русского искусства, опытный художник и несравненный знаток музейного дела.
Отдел подразделялся на отделения и секции, во главе которых стояли большие ученые.
Отделение древнерусского искусства возглавлял Николай Петрович Сычев, отделением живописи XVIII–XX веков ведал сам Нерадовский, секцией скульптуры – Григорий Макарович Преснов, секцией рисунков – Николай Николаевич Пунин (назначенный на эту должность после того, как было расформировано возглавляемое им отделение новейших художественных течений), секцией гравюр заведовал Всеволод Владимирович Воинов.
Связь между отделениями устанавливал Нерадовский – он объединял и координировал всю работу, разумеется, без мелочного вмешательства в функции руководителей отделений. Но кроме деловой связи, существовала другая, дружеская, и, если можно так выразиться, бытовая. Ежедневно в обеденный перерыв в кабинете секции гравюр накрывали чайный стол; за ним собирался почти весь состав художественного отдела. Разговоры за этим столом иногда превращались в увлекательные дискуссии на самые разнообразные темы.
Я помню, как однажды ожесточенно заспорили Сычев и Пунин.
Старинные университетские товарищи, они обращались друг к другу на «ты». Это придавало их спору оттенок какой-то азартной и озорной мальчишеской схватки.
Пунин настойчиво утверждал и доказывал, что Серов, при всей огромности своего таланта, был органически лишен подлинной оригинальности. В течение всей жизни он только и делал, что «подсаживался» к другим мастерам и пользовался их творческими изобретениями. Сначала «подсел» к Врубелю, с которым, впрочем, не смог справиться, «подсел» к Репину и превзошел его, потом к художникам «Мира искусства» и работал в их манере лучше, чем они сами, и – проживи он подольше – наверное, «подсел» бы к кубистам.
Обосновывая свою мысль, Пунин с блеском анализировал и сопоставлял серовские и врубелевские рисунки к Лермонтову, серовские и репинские портреты, «Прогулки короля» Александра Бенуа и серовского «Петра Первого».
Сычев яростно заступался за своего любимого художника, но диалектика Пунина была неотразима. Это пришлось признать и Сычеву.
Он устало махнул рукой и сказал:
– Ну тебя с твоими парадоксами. Тебя не переспоришь.
Но в заключение все-таки уязвил своего оппонента, прибавив:
– Вот ты попрекаешь Серова недостатком оригинальности. А ведь эту филиппику ты, по-моему, тоже не сам придумал. М., помнится, читал что-то похожее у Всеволода Дмитриева.
* * *
Все заведующие отделениями, кроме Пунина и Преснова, были не только искусствоведами, но и профессиональными художниками, и все без исключения носили несколько комично звучавшее ученое звание «действительных членов» музея, впоследствии совершенно вышедшее из употребления. В. В. Воинов часто изощрялся в шутках над этим титулом.
Под руководством «действительных членов» музея работали научные сотрудники первого и второго разряда. Среди них я был самым младшим по возрасту и званию. Я числился научным сотрудником второго разряда и ведал научным архивом Русского музея, сменив в этой должности семидесятилетнего старика А. А. Турыгина. Это обстоятельство также послужило предметом шуток Воинова, который находил, что столь зеленому юноше не очень подходит быть старой архивной крысой.
Упоминаю об этом, чтобы дать хоть отчасти почувствовать тогдашнюю атмосферу музея и характер взаимоотношений между «старшими» и «младшими».
Впрочем, среди «старших» тоже существовала известная дифференциация.
Нерадовский, Сычев и Пунин уже тогда были людьми, до конца определившимися и полностью раскрывшими заложенные в них творческие возможности. А у Воинова как будто еще продолжался период духовного становления и самоопределения – и лучшие достижения были еще впереди. Быть может, именно поэтому Воинов держался ближе к молодым сотрудникам, чем к своим сверстникам, а для нас, тогдашней музейной молодежи, общение с ним было не менее плодотворным, но гораздо более лестным, чем общение с другими руководителями. Из них он был самым веселым.
Однажды он сделал мне подарок – маленькую ксилографию, гравированный геральдический экслибрис.
А потом, заметив, что я ношу портсигар, он спросил:
– Это у вас единственный?
– Нет, – сказал я. – У меня есть еще два.
– Тогда я вам сделаю экспортсигарис, – сказал Всеволод Владимирович, и, присев к столу, он быстро нарисовал кистью мышонка с папиросой в зубах, зарывшегося в архивные бумаги. На левой лапке мыши он изобразил огромное кольцо, на шее галстук-бабочку и придал мышиной мордочке очень забавное сходство со мной.
К сожалению, картинка не сохранилась, а гравированный экслибрис существует, кажется, только в одном экземпляре.
* * *
В архивные бумаги я действительно зарылся с огромным увлечением.
От моего предшественника мне остался в неразобранном виде архив журнала «Аполлон», а вскоре в мое ведение поступил большой и необыкновенно интересный архив Александра Николаевича Бенуа. Знакомство с этими материалами помогло мне войти в интимную атмосферу русской художественной жизни последних предреволюционных лет.
В работе над архивом я не мог обойтись без консультаций и нередко обращался за разъяснениями к Пунину, который сам был когда-то сотрудником «Аполлона» и активным участником художественных движений дореволюционной эпохи. Пунин с интересом относился к моей работе и охотно вспоминал «аполлоновские» времена.
Вот одна из историй, рассказанных Пуниным.
Я нуждался в сведениях о замечательном русском искусствоведе Всеволоде Дмитриеве. Его критические статьи в «Аполлоне» поражали меня своей проницательностью и каким-то особым изяществом мысли.
– Да, – сказал мне Пунин, – Всеволод Александрович Дмитриев был необычайный человек и тончайший критик. Его высоко ценили в редакции «Аполлона». Я однажды еще в те времена написал ему восторженное письмо. А судьба его очень печальна и очень характерна для революционных лет. После революции Дмитриев остался без работы и хотел уехать в провинцию. Я помог ему устроиться в Наркомпрос; его послали комиссаром отдела ИЗО в Псков. А в 1919 году Псков был на несколько дней захвачен эсеровским партизанским отрядом полковника Булаховича. Началась расправа с коммунистами и комиссарами. Дмитриев был беспартийным, но там уже не стали вникать – по искусству ли он комиссар или по чему другому. Его расстреляли.
Я помню также, как Пунин рассказывал историю литературной мистификации, связанной со стихами и письмами Черубины де Габриак. Здесь я не буду останавливаться на этой истории – она подробно изложена в мемуарах Иоганнеса фон Гюнтера.
Однажды мне посчастливилось сделать находку, особенно заинтересовавшую Николая Николаевича: в одном из черновых альбомов Бенуа я обнаружил портретную зарисовку, изображающую поэта Иннокентия Анненского на редакционном совещании в «Аполлоне».
Кажется, никто из художников не делал портрета Анненского; находка представляла, таким образом, некоторый общий интерес, для Пунина – особенно большой. Он был учеником Анненского в Царскосельской гимназии и преданным поклонником поэта в течение всей своей жизни.
А. А. Ахматова тоже любила и высоко ценила Анненского.
После этой находки Николай Николаевич пригласил меня в гости, чтобы представить Ахматовой.
Вечером я не без волнения отправился к Пунину в садовый флигель старинного шереметевского дома на Фонтанке.
В XVIII столетии этот дом называли Фонтанным. Под окнами флигеля рос огромный клен, он упомянут в «Поэме без героя».
Впоследствии я бывал там очень часто. Николай Николаевич жил в этом доме до своего последнего ареста, то есть до осени 1949 года, а Анна Андреевна только в 1950-х годах переехала, вместе с дочерью Н. Н. Пунина, на новую квартиру возле Таврического сада.
Мне навсегда запомнилось первое посещение Фонтанного дома.
Анне Андреевне было тогда лет сорок пять. Высокая, стройная, очень худощавая, с черной челкой, она выглядела почти совершенно так же, как на портрете, написанном Альтманом.
Я вспомнил тогда строчки из воспоминаний графа Соллогуба о знакомстве с женой Пушкина. Соллогуб писал: «В комнату вошла молодая дама, стройная, как пальма». Так можно было бы написать и об Ахматовой.
Пунин представил меня. Я почтительно поклонился и передал Ахматовой фотографию с рисунка Бенуа.
Меня поразил голос Ахматовой, теперь уже знакомый многим по пластинкам и магнитофонным записям, – голос глубокий и низкий, прекрасно поставленный, обладающий необыкновенной чистотой и полнотой звука; голос, который нельзя забыть.
Ахматова заговорила о моих архивных поисках и находках.
– Они очень приближают вас к атмосфере той эпохи, нашей эпохи, – сказала она, взглянув на Пунина.
– Архив «Аполлона» чрезвычайно интересен, – ответил я. – Но мне бросилась в глаза одна странность. Там имеются письма Анненского, Гумилева, Кузмина и почти всех других сотрудников журнала. Но нет ни одной строчки, написанной вами. А ведь вы много раз печатались в «Аполлоне».
Ахматова улыбнулась.
– Я никогда не пишу писем, – сказала она. – В случаях самой большой крайности посылаю телеграммы.
За 25 лет моего дальнейшего знакомства с Анной Андреевной я часто с ней виделся; она не раз звонила мне по телефону, но я не получил от нее не только ни одного письма, но даже короткой записки – и только одну телеграмму с выражением сердечного и дружеского сочувствия по поводу кончины моей матери.
Но нужно вернуться к впечатлениям первого моего вечера в Фонтанном доме.
Я с затаенным, но пристальным вниманием всматривался в необыкновенных людей, с которыми свела меня судьба. Они казались мне живым воплощением духа той эпохи, которая совпала с годами их молодости. Эпохи поразительного, небывалого, с тех пор уже не повторявшегося взлета русской культуры. Я полюбил эту эпоху уже тогда, в моей юности, потом изучал ее в течение всей моей жизни, и навсегда благодарен Ахматовой и Пунину, которые помогли мне понять их время и непосредственно к нему прикоснуться.
Я пишу это в 1972 году, со своих сегодняшних позиций; тридцать с лишним лет назад я едва ли смог бы сформулировать свои чувства именно в таких выражениях. Но нечто подобное мерещилось и предчувствовалось мне и тридцать лет назад – и это не могло не накладывать известного отпечатка на мои отношения с Ахматовой и Пуниным.
Отношения были вначале не совсем простыми и, как я теперь понимаю, несколько неуютными. Сознание несоизмеримости моих собственных масштабов с масштабами таких людей, как Ахматова и Пунин, смущало меня и держало в каком-то непрестанном напряжении. Должно было пройти немало времени, пока Николай Николаевич и Анна Андреевна стали для меня привычными, милыми и близкими людьми и я смог наконец не только восхищаться ими, но и сердечно их полюбить. Впрочем, они шли мне навстречу и великодушно не замечали моего смущения.
Они были похожи и не похожи друг на друга.
Тогда, в начале тридцатых годов, они производили впечатление очень нежной влюбленной пары, почти как молодожены, хотя были вместе уже лет десять, если не больше. Пожалуй, Ахматова казалась более влюбленной, чем Пунин.
Их воззрения и вкусы совпадали если не во всем, то, во всяком случае, в главном; я никогда не слышал споров между ними. Но натуры у них были разные, может быть, даже противоположные.
Выше я назвал Пунина романтиком, и в дальнейшем вернусь к этой теме. Что касается Ахматовой, то в ней не было романтизма; в ней необыкновенно отчетливо выступал дух высокой классики, в пушкинских и гётевских масштабах. Я думаю, что самым сильным и самым характерным качеством Анны Андреевны можно назвать безошибочное чувство формы; оно проявлялось у нее во всем, начиная с творчества и кончая манерой говорить и держаться.
Не знаю, понятна ли моя мысль, и вообще возможно ли определять человеческие характеры стилевыми категориями искусств, но ведь люди, о которых я говорю, сами были явлениями искусства. Прибавлю в пояснение, что под «чувством формы» и «духом классики» я разумею сознательно предустановленную внутреннюю гармонию и такт в самом широком и точном смысле этого понятия. Классически ясному сознанию Ахматовой противостояли романтический хаос и пронзительная интуиция Пунина.
Анна Андреевна казалась царственной и величественной, как императрица – «златоустая Анна Всея Руси», по вещему слову Марины Цветаевой. Мне кажется, однако, что царственному величию Анны Андреевны недоставало простоты – может быть, только в этом ей изменяло чувство формы.
При огромном уме Ахматовой это казалось странным. Уж ей ли важничать и величаться, когда она Ахматова!
Но тут я не смею судить, потому что слишком мало и только со стороны знаю тяжелую и трудную внутреннюю жизнь Анны Андреевны. Что-то извне, из самой эпохи тридцатых годов, такой зловещей и неблагополучной, постоянно вторгалось в ее душу и разрушало предустановленную гармонию. А в тайные уголки своей души Ахматова, я думаю, не допускала никого.
Может быть, одной из причин внешнего самоутверждения, среди множества других причин, могло послужить то отчасти ложное положение, в каком оказалась Анна Андреевна по отношению к семье Пунина. Он жил в одной квартире с первой женой. Тут же жила их маленькая дочь.
Когда мы вечером пили чай, обе дамы сидели за столом вместе. Со стороны могло показаться, что они дружны между собой. Но так ли оно было на самом деле, я не знаю.
Атмосфера неблагополучия, глубоко свойственная всей эпохе, о которой я рассказываю, может быть, нигде не чувствовалась так остро, как в Фонтанном доме. Над его садовым флигелем бродили грозные тучи и несли несчастья, которые падали на голову Пунина и Ахматовой.
Жизнь привела их в конце концов к тяжелому разрыву.
Но случилось это еще не в ту пору, о которой я теперь говорю, – это случилось несколькими годами позже.
А тогда старый клен, описанный потом в «Поэме без героя», еще казался зеленым и свежим.
* * *
Какой бы увлекательной ни была для меня работа в архиве, я не мог не понимать, что нельзя назвать ее прямым искусствоведческим делом.
Пунин был того же мнения – вскоре он предложил мне перейти из архива к нему в секцию рисунков и работать под его руководством. Разумеется, я с радостью согласился.
Кабинет секции рисунков помещался тогда там же, где и теперь, – на втором этаже главного музейного здания, в огромной дворцовой комнате с тяжелыми резными дверями и двумя высокими окнами, выходящими в узенький двор. У одного из окон стоял стол Николая Николаевича, у второго окна он устроил меня.
В секции работали вместе со мной две дамы, вовсе не дружные между собой, но всегда объединявшиеся против Пунина по любому служебному поводу.
Это были: во-первых, сухощавая аристократическая старуха довольно зловещего вида по фамилии Ротштейн, вдова гвардейского полковника, когда-то писавшего дилетантские стихи (рецензию на сонеты полковника Ротштейна можно найти в «Письмах о русской поэзии» Гумилева).
Во-вторых, Анастасия Сергеевна Нотгафт, урожденная Боткина, внучка знаменитого мецената П. М. Третьякова, когда-то ее рисовал Серов.
В ту пору, когда ее знал я, она была сорокалетней дамой, но в силу своего архибуржуазного происхождения она считала полезным и даже необходимым стилизоваться под комсомолку. Она собирала с нас профсоюзные взносы, на первомайских демонстрациях появлялась в красном платочке, с подчеркнутой бодростью шла в рядах и активно участвовала в хоровом пении. Я, как приверженец Пунина, не снискал расположения дам из секции рисунков.
Меня упрекает совесть за то, что я решился рассказывать в шутливом тоне об этих несчастных женщинах.
Трагическое будущее старухи Ротштейн было написано у нее на лице. Я давно потерял ее из виду и не знаю ее судьбы, но по всем сколько-нибудь разумным предположениям она могла дожить на свободе только до 1935 года.
Что касается А. С. Нотгафт, то, как я потом слышал, она трагически погибла в блокаду. Муж ее умер от голода, а после его смерти Анастасия Сергеевна покончила жизнь самоубийством.
* * *
Работа в секции не была ни живой, ни особенно содержательной. Мы занимались составлением инвентарных описей и первичной каталогизацией. Для меня, впрочем, это был интересно; я воспользовался возможностью изучать историю русского искусства по превосходным образцам огромной музейной коллекции.
Пунина, в сущности, мало интересовала наша работа. Он и без нас хорошо знал фонды своей секции и, кроме того, не был по природе своей музейным человеком.
А научная деятельность, которая в прежние годы шла в музее весьма интенсивно, уже с самого начала 1930-х годов стала постепенно замирать в результате безраздельного и деспотического господства псевдомарксистских схем, позднее по справедливости квалифицированных как вульгарно-социологические. Они преподносились тогда как универсальный, единственно научный и непререкаемый метод истолкования искусства и последовательно внедрялись во все сферы деятельности музея, от научной работы до чисто практических экспозиционных и культурно-просветительских начинаний.
Игнорируя специфику художественной жизни, не имея понятия о закономерностях творческого процесса, вульгарные социологи с беззаботной прямолинейностью выводили всю проблематику истории искусств непосредственно из экономической и классовой структуры общества.
Среди научных сотрудников музея вульгарные социологи нашли небольшую, но довольно активную группу единомышленников, которые стали проводить по отношению к музейным руководителям если не прямо враждебную, то во всяком случае оппозиционную политику. Элементарная простота схемы чрезвычайно прельщала ленивые и неповоротливые умы. Изучение самих фактов искусства казалось им излишним и даже, пожалуй, вредным. Любая попытка проникнуть в смысл и сущность художественных явлений, так же как любая попытка проявить независимость мысли, клеймились как злонамеренный формализм.
Несостоятельность этих невежественных концепций – теперь, через тридцать лет, вполне очевидная всем – тогда, разумеется, бросалась в глаза большим ученым, стоявшим во главе музея. Им к тому же крайне претило тупое самодовольство вульгарных социологов, которые с развязной, отнюдь не детской наивностью мнили себя носителями окончательной истины.
Пунину, как и другим руководителям музея, осталось только отстраниться от научной работы, неуклонно превращавшейся в псевдонаучную.
Монотонное писание карточек в секции рисунков прервалось осенью 1932 года. В музее начали готовить большую ретроспективную выставку русского советского искусства к XV годовщине революции.
Пунин был одним из главных организаторов выставки. Многие сотрудники, и я в том числе, вошли в состав экспозиционных бригад.
Всю постоянную экспозицию сняли. Выставка размещалась в обоих этажах Михайловского дворца.
В музей свозили живопись, графику, скульптуру, мы группировали их по залам. Вместе с произведениями появлялись в музее и художники, чтобы принять участие в экспозиционной работе. Я помню среди них Филонова и Малевича, Матвеева и Петрова-Водкина и многих других.
Сначала мы бродили среди пустых стен, потом они стали постепенно заполняться, и перед нами развернулась грандиозная панорама развития русского искусства двадцатых и начала тридцатых годов – поры его последнего цветения.
С тех пор прошло сорок лет, за эти годы было устроено немало больших выставок советского искусства, в том числе и ретроспективных. Но по художественному качеству ни одну из них нельзя даже сравнить с замечательной выставкой 1932 года.
Она поражала размахом и смелостью творческого порыва, высоким уровнем профессиональной культуры, оригинальностью и силой талантов. Становилось очевидным, что перед нами – великое искусство. Как быстро оно потом сошло на нет или, может быть, исчезло из глаз и притаилось. На выставке можно было видеть, как завершаются, а иногда и достигают новых вершин могущественные художественные течения, возникшие после 1905 года, прошедшие сквозь эпоху революции и гражданской войны, проникнутые революционной патетикой и духом новаторства.
Здесь Пунин был в своей стихии, которая окрыляла его романтическое чувство.
Впервые я увидел тогда Пунина в кругу художников и понял, почему он пользуется в их среде таким влиянием и авторитетом, какой редко выпадает на долю критика.
Есть люди, обладающие абсолютным музыкальным слухом. Так называется способность определить высоту любой произвольно взятой ноты.
Считается, что эта способность не имеет прямого отношения к общей музыкальной одаренности. Известно, что абсолютным слухом не обладали многие выдающиеся композиторы и музыканты. Вместе с тем абсолютный слух нередко встречается у настройщиков, таперов и т. п. Абсолютный слух – это еще не талант.
Об «абсолютном зрении» обычно не говорят. Несомненно, однако, что существуют люди, обладающие способностью видеть цвет и форму более зорко и более детально, чем это свойственно большинству. Но это тоже не талант. Самое совершенное физиологическое устройство зрительного аппарата может и не иметь прямой связи с живописным дарованием. Я убежден, что, например, художник Лактионов, не создавший в живописи ничего, достойного внимания, обладал способностью видеть форму более стереоскопично, чем видит обычный глаз. Это не помешало ему остаться плохим художником.
С другой стороны, некоторые историки предполагают, что Эль Греко страдал каким-то специфическим расстройством зрения; это не только не помешало, но, может быть, даже помогло ему сделаться великим живописцем.
Пунин плохо видел. Из-за слабого зрения он во время Первой мировой войны был освобожден от призыва в армию. Он не расставался с очками, и нередко ему приходилось прикладывать к ним монокль.
Но Пунин обладал тем, что можно было бы назвать абсолютным искусствоведческим зрением, иначе говоря, обостренным и безошибочным чувством художественного качества, изощренной способностью видеть и воспринимать изобразительную гармонию в живописи, пластике или рисунке. А это – уже талант или, вернее, основа искусствоведческого таланта, зависящего не от физиологических особенностей зрительного восприятия, а от интеллектуальных и нравственных свойств. В даровании Пунина эти свойства были развиты, быть может, сильнее, чем у кого-либо из искусствоведов его поколения. Пунин обладал даром анализа и даром научного синтеза. Необыкновенно сильная интуиция раскрывала перед ним глубокую сущность творческого замысла, реализованного в произведении искусства.
Блистательный искусствовед Антонина Николаевна Изергина, которая была ученицей Пунина и, я думаю, любила его, впоследствии рассказывала, как он сделал в ее присутствии одно очень искреннее и верное признание. Он сказал о себе: «У меня, в сущности, есть только один дар, но настоящий дар: я умею понимать живопись и умею раскрывать ее другим».
Художников поражала молниеносная быстрота реакций Пунина, меткость его наблюдений и неопровержимая убедительность критических замечаний. Художникам казалось, что этот критик говорит об искусстве именно то, что могли бы и желали бы сказать сами, если бы только владели приемами искусствоведческого мышления и умели найти нужные слова.
На выставке ХV-летия я постоянно видел Пунина в оживленной беседе с Петровым-Водкиным, Лебедевым, Тырсой, Матвеевым; я помню, как расцвело радостью лицо угрюмого, серьезного, вечно сосредоточенного на своих мыслях Матвеева, когда, знакомя меня со скульптором, Пунин сказал:
– Здороваясь с этим человеком, я всегда думаю, что мне пожимает руку сама пластическая стихия.
Чаще всего я видел Пунина в обществе Малевича и его учеников.
Самым заметным среди них был Николай Михайлович Суетин.
Меня чрезвычайно интересовали его работы, отмеченные какой-то особой оригинальностью и одухотворенностью.
Пунин познакомил меня с Суетиным, и с этого времени начались мои дружественные отношения с художником, продолжавшиеся много лет, до самой его кончины. С его женой Анной Александровной Лепорской я и теперь сохраняю самую сердечную дружбу.
Среди работ Суетина, представленных на выставке, был белый загрунтованный холст, лишенный какого-либо предметного или беспредметного изображения.
Суетин сказал мне, что это вполне законченная вещь, к которой он уже не будет прикасаться кистью.
Он хотел выразить в ней душевное состояние художника перед началом работы. Я не мог не оценить неожиданность и интеллектуальное изящество его замысла.
В каталоге выставки эта вещь имеет название – «Белый холст, написанный, как картина».
* * *
После выставки музейная жизнь вошла в прежнюю колею. Мы в секции рисунков опять принялись за инвентари и каталоги.
Вокруг Николая Николаевича стала объединяться после выставки небольшая группа молодых сотрудников. В нее входили: Вера Николаевна Аникеева, давняя сотрудница Пунина, обладавшая крупным, уже тогда расцветавшим художественно-критическим дарованием; Юрий Николаевич Дмитриев, молодой человек с задатками серьезного ученого, византолог и специалист по древнерусскому искусству, написавший впоследствии ряд превосходных работ; третьим – и самым младшим в этой группе был я. По случайному совпадению все мы были по отчеству Николаевичами. В музее нас называли «пунинской группой».
Мы часто встречались вчетвером – то у Пунина, то у Аникеевой, то иногда у меня.
А между тем атмосфера неблагополучия, нависшая плотной завесой над всей эпохой, начала сгущаться в Русском музее.
Пунин, со свойственной ему интуицией, чувствовал это острее, чем кто бы то ни было. Он постоянно пребывал в удрученном и сердитом настроении и довольно часто с раздражением огрызался на наших сотрудниц Ротштейн и Нотгафт.
На меня он не огрызался. Однажды я спросил его – почему?
Пунин ответил:
– Во-первых, нет повода, вы умеете обходить острые углы; во-вторых, у нас с вами есть общий язык и не обязательно кричать; а в-третьих, вы вроде Анны Андреевны, всегда «в форме», на вас не рявкнешь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































