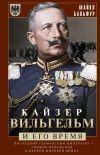Текст книги "Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера"

Автор книги: Йоахим Радкау
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Онанизм поставлял тогда массу материала для тяжелых размышлений, усиливавших напряжение. Чем больше о нем думали, тем меньше уверенности было в том, насколько он действительно опасен. Разве с физиологической точки зрения онанизм не был равен половому сношению, а это последнее разве не считалось естественным и здоровым? Одни сведения усиливали страх, другие развеивали его. В зависимости от того, что было в данный момент актуальным – желание онанировать или разочарование от него – невротик колебался в ту или иную сторону. Даже для такого человека, как Фрейд «вопрос о вреде онанизма» был неприятен, потому что здесь он и сам терял уверенность. Так, его раздражало, что «весь мир», кажется, «ничто кроме онанизма не интересует». Однажды он назвал мастурбацию «первичным пристрастием», а никотиновую зависимость – его заменой (см. примеч. 120). Однако медицина того времени оставляла и проблески надежды. Этим отчасти объясняется, что многие пациенты столь вызывающе и подробно начинали рассказывать о своих проблемах с онанизмом, хотя тема эта считалась в высшей степени «неловкой». Ее обсуждение и рефлексия, видимо, несли в себе некое освобождение, и пациент лелеял надежду узнать что-то утешительное.
Однако ответы врачей были почти всегда неоднозначны. Для литературы по неврастении типичны обходные маневры в обсуждении онанизма, причем иногда они кажутся тактически просчитанной игрой. Постоянно встречается одна и та же модель: сначала автор устраивает энергичный отпор преувеличенной панике, которую он представляет как происки нечистых духов, в заключение же более изящным способом сам высказывает тревоги и неуверенность. Пауль Фюрбрингер, автор статьи об онанизме в «Реальной энциклопедии медицинских наук» Эйленбурга (1888), пишет, что обнаружил «среди честнейших и надежнейших специалистов резко противоположные взгляды» на эту тему. Сам он пытался лавировать между «за» и «против» и петлял туда-сюда. Да, с точки зрения физического воздействия онанизм и коитус «совершенно идентичные действия». Однако онанизм склонял к излишествам и к осуществлению действия даже без эрекции, из-за чего приводил к неврастении. В заключение он со свирепым удовлетворением описывает, как «одного молодого парня, которому не помогали никакие поучения и наказания, он исцелил тем, что острыми ножницами запросто отрезал ему переднюю часть крайней плоти, а у одной молодой дамы, которую даже в обществе преследовали ее ужасающие (sic!) влечения, вызвал значительное улучшение многократным прижиганием вульвы». И в то же время он не стеснялся признавать, что в основном «на длительный срок подобные процедуры […] совершенно бездейственны» (см. примеч. 121).
Неужели все эти врачи были слепы? Вряд ли. Очевидно, думать иначе тогда было нельзя, даже будучи свободным от предрассудков. Нельзя забывать, что в вопросе о воздействии онанизма на психику существовала не одна только объективная истина – были и субъективные, и обусловленные эпохой. Медицинские учения об онанизме основывались тогда на субъективных истинах, а они формировались в процессе обмена опытом между врачом и пациентом: это просматривается во многих историях пациентов. Неврастеники, и без того склонные к эгоцентризму и робости перед противоположным полом, посредством онанизма лишь подпитывали собственную слабость – ив этом смысле были правы, воспринимая самоудовлетворение как опасное деяние.
Логика медицинской науки того времени не объясняет чудовищного страха перед онанизмом. Скорее его можно объяснить исходя из идеала соединения секса и любви, из культа эроса. Лучшим примером служит чрезвычайно популярный труд Крафт-Эбинга «Половая психопатия», в котором он рисует кошмарные последствия мастурбации в нежном возрасте. «Онанизм не дает распуститься зачаткам идеальной любви, он лишает растущий цветок его красоты и аромата и оставляет только грубое животное стремление к половому удовлетворению». В мастурбанте «погасли все искры живого чувства, в нем нет жара здорового полового влечения; он, кроме того, не верит в свои силы, ибо все мастурбанты в большей или меньшей степени отличаются малодушием и робостью»[135]135
Цит. по: Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. М., 1996. С. 290, 291.
[Закрыть](см. примеч. 122). И ввиду традиционных обвинений в адрес «шарлатанов» неожиданно оказывается, что панику перед рукоблудием, как видно, нагнетали и авторитетные ученые.
Есть немало свидетельств коллективной одержимости мыслями об онанизме. Из школ, прежде всего интернатов, кадетских корпусов и казарм, сообщалось о «массовом онанизме» и «онанизме на спор». Смущение медиков здесь понятно. Однако реакция некоторых реформ-педагогов и натуропатов граничит с истерикой. «Любое половое возбуждение чудовищно перенапрягает нервный аппарат сердца», – предупреждает фрайбургский врач в журнале «Der Naturarzt»[136]136
Натуропат (нем.).
[Закрыть] 1905 года, а еще один, доктор наук, в 1907 году пишет в «Reformblätter»: «Если бы холодные стены спален, уборные и другие потаенные уголки интернатов могли говорить – каким пронзительным воплем ужаса отдалась бы в сердцах родителей эта противоестественность». Он порицает даже «фривольное чтение античных классиков, которому столь старательно предаются в элитарных школах». Действительно, тайное, почти позабытое сегодня обаяние античного наследства состояло когда-то в приобщении к сексуальной морали, далекой от буржуазной. Каким же хаосом сексуально-гигиенических сигналов было окружено подрастающее поколение! Вето по отношению к сексу уже давно не было столь однозначным и категоричным и не могло заглушить остальные сигналы. При желании вполне можно было найти доказательства того, что онанизм и сексуальные «эксцессы» по крайней мере в определенных (но каких?) границах вполне безобидны. Однако никогда не знаешь наверняка – и если после запретного акта возникало чувство опустошенности, этому всегда можно было придать глубокое и губительное для здоровья значение. Это был тот самый способ, каким возникло душевное состояние, называемое тогда неврастенией (см. примеч. 123).
Еще один лейтмотив в историях неврастеников – страх перед сифилисом. «Сифилисофобия» встречается даже как устойчивый термин. Эти страхи также легко порождали преломленное отношение к сексу и состояние общей тревожности и ипохондрии. Страх заболеть сифилисом имел не только психические, но и совершенно реальные физические основания. Курс лечения, при котором в кожу больного втирали ртутную микстуру, следствием чего были такие явные неприятности, как выпадение зубов, наносил нервной системе не только мнимый, но и совершенно реальный вред. Ужасы этих «втираний» описал в автобиографии Стефан Цвейг: несчастный пациент чувствовал себя «существом падшим, не только душевно, но и физически»[137]137
Цит. по: Цвейг С. Вчерашний мир / пер. с нем. Г. Кагана. М., 2004. С. 64. Цвейг также вспоминает, что «на улицах Вены на каждом шестом или седьмом доме можно был обнаружить табличку “Специалист по кожным и венерическим заболеваниям”», что он связывает с тактикой постоянного напоминания молодежи об опасности «в то псевдонравственное время», когда «жизнь была гораздо драматичнее», но и «гораздо более непристойной, неестественной и вместе с тем более удручающей» (Там же).
[Закрыть] и при этом даже по окончании не был уверен в излечении от люэса[138]138
Люэс – устаревшее название сифилиса.
[Закрыть]. В то же время у ртути имелась армия едва ли не фанатичных сторонников. Иван Блох[139]139
Блох Иван (1872–1922) – немецкий врач, венеролог и сексолог, определявший сексологию как междисциплинарную науку, выводя психиатрию на более широкое поле культуры – отсюда и специфика его популярных сочинений: «Сексуальная жизнь нашего времени в ее отношениях к современной культуре» (1907), «История проституции» (1912, 1925), «Заблуждения человеческой любви, а также популярное до сих пор исследование о культуре и нравах эпохи Маркиза де Сада» (1900, 1915, 1965, 1978, 2007). С Эйленбургом основал в 1914 году журнал «Сексология и евгеника».
[Закрыть] прославлял ее как «божественный меркурий» и проклинал ее противников, так что литература, как и в случае онанизма, предлагала контрастный душ из страхов и надежд, придававший «сифилисофобии» неврастенический характер. Иные неврастеники лавировали между двумя страхами – перед онанизмом и перед сифилисом: отправляясь в публичный дом, чтобы побороть онанизм, они попадали из одной неприятной ситуации в другую, еще более неприятную. Во многих биографиях «сифилисофобия» встречается не отдельным эпизодом, но в тесной связи с характером человека, накладывая отпечаток на личность в целом (см. примеч. 124).
В 1911 году в Шарите направился 20-летний служащий с «ипохондрической неврастенией». Он жаловался на головные боли и тяжелые депрессии. Некогда он работал сапожником на химической фабрике, но теперь уже полтора года как был безработным. С того же времени, как он сам говорил, у него начались «эти головные боли и мерцание перед глазами». Прежде он не был «нервным»; корень своих бед он подозревал в гонорее, которую подхватил в 1909-м. Сразу же у него появился панический страх перед сифилисом. К страху за здоровье у него примешивался страх утратить работоспособность, которую он определял по критериям самостоятельного предпринимателя. При этом ему было неприятно признаваться в своих страхах, возможно, поэтому ему удобнее говорить о «нервозности»: «Страх? Скорее нет, лишь своего рода беспокойство». «Раньше я был более самостоятелен», теперь же приходится говорить ему, что надо делать. «Никакого духа предпринимательства». Раньше мог работать, работал с удовольствием, сейчас ни к чему нет желания. «Будто заживо похоронен». Думает, лучше бы умер, совершенно растерян от такой болезни. Лучше лишиться на руке пальца, тогда хоть работать можно. Врачи ему якобы сказали, что у него сифилис мозга, и ведь это так ужасно. Если он качает головой, то слышит внутри какой-то хруст. […] Непрестанное внутреннее беспокойство, потому что все у него не так, как хотелось бы. «Ощущение такое, будто у меня размягчение мозга. […] Когда делаю вдох, вся грудная клетка трещит, я совсем выхожу из строя. Я раньше любил работать, теперь же энергию во мне будто переломили»» (см. примеч. 125).
С первого взгляда не понятно, почему страх сифилиса разбушевался именно на рубеже веков, ведь в самой инфекции не было ничего нового, во времена Лютера люэс свирепствовал куда более убийственно, чем в XIX веке. Однако только сейчас удалось доказать его отсроченные последствия – поражение нервной системы, завершавшееся параличом мозга. Тогда же обратили внимание на возможность наследственной передачи сифилиса. В 1880 году была обнародована статистика, согласно которой три четверти паралитиков имели в истории своей болезни сифилис. Именно в этот период сифилис оказался неразрывно связан с представлениями о слабоумии и дегенерации. Крепелин провозгласил «открытие, что паралич возникает вследствие сифилиса […] крупнейшим на сегодняшний день шагом в изучении условий возникновения безумия». Однако это было одной из тех типичных ловушек, когда успех диагностики намного опередил успех терапии и вызвал еще больший ужас у больных. Гигиеническое просвещение народа на рубеже XIX–XX веков еще сильнее разжигало эти страхи. Экспозиция по венерическим болезням, составленная врачом Ойгеном Галевски и представленная на Дрезденской международной гигиенической выставке 1911 года[140]140
Сегодня – Немецкий музей гигиены. После упоминаемой выставки был основан в 1912 году как Народный учебный центр гигиены.
[Закрыть], в устах народа именовалась «Камера ужасов Галевски». Тогда же появились передвижные выставки, на которых демонстрировались муляжи – восковые модели, воспроизводящие натуральные объекты с симптомами сифилиса. Эффект их был оглушающий: наблюдатели отмечали внезапную бледность и могли «узнать того, в ком муляжи пробудили нечистую совесть или память о давно забытых грешках». На рубеже веков сифилис, как никогда прежде, стал считаться одной из главных проблем общества. Возникла международная лига борьбы с сифилисом, а в 1899 и 1902 годах в Брюсселе были проведены две крупные конференции по венерическим заболеваниям (см. примеч. 126).
Все это повлияло и на неврастеническую волну, так как общая картина неврастении в значительной части совпадала с картиной ранней стадии прогрессивного паралича. Страх «невротиков» впасть в безумие вовсе не был лишь плодом тревожной фантазии – зачастую он имел под собой вполне реальное основание. Паралич постепенно научились определять на ранних стадиях, но еще в 1896 году Отто Бинсвангер считал, что его трудно отличить от неврастении. В 1906 году появился тест Вассермана[141]141
«Реакция Вассермана» – метод диагностики сифилиса, предложенный иммунологом Августом Вассерманом.
[Закрыть]. В 1910 году два психиатра заверяли, что без него «они бы уже не хотели быть психиатрами». Но и этот тест был поначалу крайне неточным. В 1910 году широкую славу как спасение от сифилиса приобрел препарат сальварсан, разработанный в компании «Хёхст» на основе препарата Пауля Эрлиха «606». Однако вскоре разразилась «сальварса-новая война» и выяснилось, что и на этот препарат не всегда можно надеяться, к тому же он имеет коварные побочные эффекты. Полный триумф над сифилисом принес лишь пенициллин – десятилетиями позже. До 1914 года проблема сифилиса не давала покоя, и в последние годы перед Первой мировой войной боязнь сифилиса стала движущей силой народной реформы жизни. Об этом говорит, среди прочего, невероятный успех романа Германа Поперта «Гельмут Харринга» (1910) в кругах молодежных движений. Эта книга была страстным призывом против культуры пивных и казино: молодой плейбой, подхватив сифилис, производит на свет умственно отсталых детей и приносит гибель невинной жене, а благородный герой, посетив после кутежа заведение в районе красных фонарей и также заразившись, бросается в море, чтобы не стать причиной подобных вещей. Каким идеологическим зарядом обладала сифилисофобия, можно проследить вплоть до гитлеровской книги «Моя борьба» («Mein Kampf»). Через представление о евреях как хозяевах ночной жизни формируется цепочка ассоциаций «еврейство – сексуальное сверхвозбуждение – проституция – сифилис – расовая дегенерация», развязавшая убийственный гитлеровский антисемитизм (см. примеч. 127). Однако в историях неврастеников времен кайзеровской Германии я ни разу не встретил какой-либо связи между страхом перед сифилисом и ненавистью к евреям.
Собственно, многие неврастеники не меньше сифилиса могли бы бояться туберкулеза, ведь главным риском для жизни была тогда медленная смерть от чахотки. Ранняя стадия и здесь была сходна с ранней стадией неврастении, как и вообще туберкулез «нередко сочетался с ярко выраженной неврастенией». В 1882 году, вскоре после появления «Неврастении» Бирда, Роберт Кох публично сообщил об открытии туберкулезной бациллы и вызвал тем самым волну страхов заражения. Однако же боязнь туберкулеза редко принимала невротические формы. В сообщениях неврастеников эта фобия обнаруживается очень редко. Одна из причин заключалась, вероятно, в том, что туберкулез не представлял собой ничего постыдного и не приводил к безумию. Однако главным, скорее всего, было то, что чахотка не била неврастеника по самому больному – она не вселяла в пациента сексуальную неуверенность. Легочный больной со времен романтизма считался привлекательным, чувствительным и чувственным.
В историях неврастеников страх перед чахоткой так просто не найти. Вот случай портного, 53 лет, которого судьба перебросила из Люнебургской пустоши в Берлин за стойку трактира, и тяжелый городской воздух был для него мучителен. Но и в его анамнезе общим фоном проступают боязнь сифилиса и сексуальная фрустрация: в 25 лет он заразился, прошел через курс «втираний» и получил смертельный страх. Он так и не женился. В 1909 году в Шарите его признали «ипохондричным неврастеником с псевдодеменцией». Однако уже через неделю его перевели в легочную клинику Вальдхаус Бух – т. е. он не был чистым ипохондриком? В Шарите он сообщил, что приехал, «чтобы как следует восстановиться, чтобы вновь быть полноценным человеком». «Вы больны?» «Ну да, я это и имею в виду. Такая тяжелая жизнь, а толку никакого. Я все время боюсь, что, находясь рядом с людьми, меня окружают дурные испарения. Там все время приходится вдыхать чужие испарения. Они так много плюют». (В то время главным оружием против туберкулеза стала плевательница.) «Сейчас мне приходится бегать за воздухом, а ведь раньше бегал за деньгами». Ему «может, стоит жениться, чтобы человеческие части (sic!) пришли в движение. Чего-то ему не хватает, он не знает, чего именно». Действительно ли не знает? «Быть полноценным человеком» – для него это, очевидно, означало: глубоко и свободно дышать, спать с женщиной, позволять себе отдых. В 1900 году он хотел поехать на Всемирную выставку в Париж и в Испанию – в этом тоже проявлялось его желание вырваться. Как и многих других пациентов, его не так легко подвести под стереотипные представления о классовом менталитете (см. примеч. 128).
Страх перед онанизмом и сифилисом часто наносил удар по либидо и пробуждал еще одну тревогу: боязнь проблем с потенцией. Больше всего невротиков беспокоило преждевременное семяизвержение, ejaculatio praecox считалось буквально «монограммой неврастении» (см. примеч. 129). Здесь как нигде возбудимость оборачивалась слабостью. Чем больше сексуального желания проявляла женщина, тем сильнее мужчина опасался своей несостоятельности. В историях неврастеников нередко слышны мучительные переживания как в ожидании свадьбы, так и после заключения брака, когда мечты обернулись разочарованием.
В 1904 году в Бельвю – очевидно, с собственного согласия – на целый год приехал 20-летний гимназист. Бинсвангер записал его как неврастеника, но сам он считал свой случай более тяжелым. Его состояние яснее всего передает длинное и совершенно откровенное письмо, написанное им из клиники отцу. Гимназист жаловался, что свою жизнь в последние месяцы он может назвать только «адскими муками» и «дьявольской болью». «Если бы я не был ненормален, или, скорее, не был полным, насквозь патологичным извращенцем, если бы я был простым неврастеником, я бы скрепя сердце сказал: господа, я из-за неврастении отстал в развитии и т. д. Каждое существо женского пола било меня прямо в сердце: Ты ненормальный, ты ненормальный! Ты не можешь совокупляться! [Курсив в оригинале. – Й. Р.] Ты извращенный садист!»
Понятия «извращенец», «патологичный» и «садист» он взял из вокабуляра своих врачей. Навязчивая идея, что он «ненормальный», тянется красной нитью через все письмо и означает главным образом «психологическую импотенцию». По его словам, один врач сказал ему, что «заядлые онанисты» (он пишет «о…сты») – «психологически импотентны». Он в курсе, что импотенция связана с психикой, а не с пенисом, но его это не утешает. Его мучает мысль о собственном онанизме, но не менее мучительно и отказать себе в нем. По его словам, всякий раз его одолевало «ужасное настроение»: «Чувственный инстинкт вопил об удовлетворении, как голодный зверь. […] Целый день я игрался с членом, т. е. испытывал половое желание, но вдвойне тяжела была нечеловеческая энергия, чтобы не о…ть! Шепотом я выкрикнул “Нет!” выпрямляясь со всей силой. Голова горела, губы пылали. Но победа была одержана».
В конце концов врач разрешил ему три визита в бордель в Констанце и даже дал ему на это 10 марок. Однако посещения борделя оказались «совершенно безрезультатными». Во многих отношениях мучения гимназиста отмечены чертами эпохи. Противоречие между страхом перед сексом и навязчивой идеей о необходимости обладать мощной мужской силой доходит до крайности. Его терзает современный ему идеал нормального человека. Но вместе с тем он склонен к старомодным эмфатическим излияниям чувств, которые у молодых людей XX века уже вышли из моды (см. примеч. 130).
Эпоха гигиены, когда между людьми увеличивалась физическая дистанция, а телесные контакты стали ассоциироваться с грязью и бациллами, породила крайне разнообразные психологические реакции: кто-то со всей серьезностью следовал новым правилам гигиены, а кого-то, наоборот, привлекали опасности свободного секса. Бойкая вдова Анна из пьесы Франка Ведекинда[142]142
Ведекинд Франк (1864–1918), в свое время один из самых популярных драматургов художественного модерна, автор скандальных пьес «Пробуждение весны» (1981), которую в России ставил Мейерхольд, и «Ящик Пандоры» (1902), которая легла в основу незаконченной оперы Алана Берга «Лулу». Тексты Ведекинда, среди прочего, перерабатывают и современные ему психопатологические теории – например, фон Крафт-Эбинга – в садо-мазохистские сюжеты и мотивы.
[Закрыть] «Маркиз фон Кайт» (1900), разделила людей «на две большие группы: одни – это гоп-гоп, другие – эти-пэти»[143]143
Цит. по: Ведекинд Ф. Маркиз фон Кайт / пер. с нем. О. Норвежского. СПб., 1908. С. 39.
[Закрыть]. Прочитав множество историй неврастеников, очень хорошо понимаешь, что имел в виду автор.[144]144
То есть противопоставляются «раскрепощение, неразборчивость, любопытство, беспорядочность» (hopphopp) и «закрепощенность, разборчивость, традиционность, порядочность» (etepetete), что с легкостью проецируется на половые связи – неспроста Анна в самом начале разговора кладет Герману руку на плечо.
[Закрыть] Но соль в том, что многие из группы «гоп-гоп», как сам Ведекинд, рано или поздно попадались в ловушку сифилиса или как минимум сифилисофобии, а многие из «эти-пэти», такие как нежный 15-летний Герман, с которым заговаривает Анна, охотно сыграли бы в группе «гоп-гоп». Оба варианта вели к неврастении. Гигиена тоже привлекала пристальное внимание к телу.
К тому, что прежде понимали под «гигиеной брака», относилось и предупреждение беременности. В то время оно называлось «неомальтузианство» или «супружеское мальтузианство»[145]145
Неомальтузианство рекомендовало стремиться к ограничению деторождения. В отличие от воздержания от полового акта, которое в конце XVIII века предлагал основатель мальтузианства, английский ученый Томас Мальтус, стали распространяться рекомендации о применении безвредных средств для предупреждения зачатия.
[Закрыть] и в некоторых специальных трудах считалось главной причиной неврастении. В особенности это касалось Coitus interruptus, который, как писал в своей книге о неврастении 1900 года Крафт-Эбинг «с недавних пор получил широкое распространение». Даже Фрейд с 1893 года, когда они с женой приняли решение отказаться от дальнейших детей, неоднократно называл «неполноценное сношение» одним из главных источников неврастенических жалоб, и его мнение разделяли тогда многие неврологи. Несмотря на это, в выборке из 114 мужчин, страдающих сексуальной неврастенией, Крафт-Эбинг в 88 случаях устанавливает в качестве причины онанизм и один-единственный раз – прерванный половой акт (см. примеч. 131).
Трактовка «акта с предохранением» как «насилия над естественным инстинктом» связана с определенным представлением о мужском желании, о том, что суть сексуальности состоит в неуклонном и безудержном повышении градуса вплоть до оргазма. Однако у «прерванного акта» имелся и политический аспект. Дело в том, что в последнее десятилетие перед Первой мировой войной в Германии как в левых, так и в правых кругах горячо обсуждалось снижение рождаемости. Наивысшего накала это обсуждение достигло в 1913 году, когда некоторые социал-демократы призвали женщин рабочего класса к «забастовке родов»[146]146
«Забастовка родов» выросла на фоне опального «контроля за рождаемостью», против которого выступали Клара Цеткин и Роза Люксембург.
[Закрыть]. В ответ последовали яростные протесты со всех сторон: кто-то увидел в такой «забастовке» угрозу народным силам и добрым немецким традициям, кто-то – опасность для пролетариата и «здоровой чувственности» – тема пересекала границы политических фронтов. Нет сомнения: репродуктивное поведение немцев изменилось, и в этом выразилось глубочайшее изменение менталитета, охватившее все социальные слои. Невролог Ригер[147]147
Ригер Конрад (1855–1939) – немецкий психиатр, ученик Шарко, друг Крепелина. Внес существенный вклад в развитие психиатрии как институции: в Вюрцбурге он основал психиатрическую клинику, которая не только служила лечебницей, но и функционировала как научно-исследовательский институт.
[Закрыть] считал время рубежа веков «крайне неомальтузианским». Фридрих Науманн, как пишет его биограф Теодор Хойе, был перед 1914 годом сильно обеспокоен «резким падением рождаемости среди людей с высоким жалованием» и установкой, стоявшей за этим явлением: «Их бездетность – оборотная сторона их добродетелей. Они болезненно пунктуальны, аккуратны, расчетливы. […] Рабочая сила, но не жизненная!» Историк Рейнгард Шпрее отмечает у мелкой буржуазии Германии отчетливый поворот к ограничению рождаемости с 1905 года. Та же тенденция наблюдалась у квалифицированных рабочих: в их среде распространилась точка зрения, что путь к лучшей жизни проходит через контроль над сексуальностью, в то время как многодетность ассоциировалась скорее с бедностью и глупостью. Социальное страхование привело к тому, что рабочие уже не так нуждались в детях для обеспечения собственной старости. В 1913 году, том самом, когда шли дискуссии по поводу «забастовки родов», вышло исследование дерматолога, писателя и сиониста Феликса Тайлхабера «Стерильный Берлин». В книге он вспоминает, что еще в 1880-е годы в Берлине преобладал типаж рабочего, который, зачастую только выбравшись из деревни, «в чистом чувственном желании, первозданно» и наобум начинал производить на свет детей, не думая о последующих затратах. Теперь это принципиально изменилось. Как «тысячекратно» показывает повседневность, «даже самые простые люди используют для предохранения чрезвычайно изобретательные средства, не всегда известные даже специалисту» (см. примеч. 132).
Питер Гай считает, что технологии XIX века уже обеспечивали «беспримерно надежные и удобные противозачаточные средства». Это явно не так, хотя в конце века их активно рекламировали. Но еще в 1914 году Гротьян жаловался, что при надевании резинового презерватива мужчина ощущает глухое чувство, а само его использование вызывает отвращение. Уже с 1882 года в Германии была известна влагалищная диафрагма, но применялась она, видимо, не так часто, так как была дорогой и установка ее требовала медицинского вмешательства.
«Черт бы побрал все эти губки и колпачки, а с ними и все спринцевания», – ругался Георг Хирт. Попытки технизировать противозачаточные средства вызывали тогда одни неприятности: в этом пункте Фрейд был, наверное, прав. Однако во Франции предупреждение беременности с успехом распространилось еще со времен революции, причем без каких-либо новых технологий и химии. Видимо, не случайно в Германии оральный секс до сих пор считается «французским». Хотя французские труды по неврологии конца XIX века при случае упоминают превентивный секс как причину неврастении, но лишь как одну из многих. С точки зрения французских экономистов, сексуальное желание и зачатие удалось «без особых усилий» развести еще до 1914 года. Как видно, «мальтузианская установка» (Цибура) воздействовала и на сексуальную жизнь (см. примеч. 133).
А что же немцы – они были настроены иначе? Бросается в глаза, что «брачное мальтузианство» как фактор неврастении играет куда большую роль в специальной литературе, чем в историях болезней. С триадой из страхов – перед онанизмом, импотенцией и сифилисом – оно ни в какое сравнение не идет. Непривычный и странный случай «мальтузианской» неврастении известен из фрейдовского круга. Речь идет об одном профессоре медицины из Вены. Как пишет его домашний доктор, он был «неврастеничен в течение нескольких лет и очень возбужден». Имел гомосексуальные наклонности, которые ему в своем положении, конечно, приходилось скрывать, и удовлетворял их через мастурбацию. Позже стал принимать морфий – не только из-за бессонницы, но и для того, чтобы преодолеть свои «извращенные» половые привычки, – и постепенно стал морфинистом. Ко всем напастям добавилось то, что на работе он заразился люэсом. Он женился, однако сексу с женой всегда предпочитал онанизм. После рождения двух детей пара решила отказаться от дальнейшего потомства. «Лишь с началом “супружеского мальтузианства” он постепенно утратил способность к половому акту с женщиной, и, вероятно, в течение шести-семи лет стал полным извращенцем». Затем случилось крайне неприятное событие: застрелился племянник профессора, и при расследовании этого случая в доме появился полицейский. Тут у профессора случилась эрекция, его охватило сильнейшее гомосексуальное желание, и он бродил по венским писсуарам, пока ему не удалось поцеловать возбужденный пенис. После этого он и сам хотел застрелиться от стыда. Однако вместо этого отправился к Бинсвангеру на Боденское озеро. Тот похвалил домашнего доктора, что он навел пациента «на правильный след» и подтвердил, что во «всех невропатических отклонениях» профессора виновато «в первую очередь сексуальное извращение, проявляющееся у него припадками». Этот пациент – «невропаток per exellence». «Мальтузианство» в его случае означало отказ от любого сексуального контакта в браке, однако такой отказ дался профессору без труда. Очевидно, «супружеское мальтузианство» послужило лишь спусковым крючком тяжелого жизненного кризиса, подлинной причиной которого была невозможность предаться своей гомосексуальной наклонности (см. примеч. 134).
Иван Блох, поборник контроля над рождаемостью, в 1907 заверял, что сегодня прерванный половой акт считается среди медиков далеко не столь вредным явлением, как прежде. Хотя о некотором вреде говорит «частота невротических расстройств в промежутке между обручением и браком» – т. е. в период, который один коллега обозначил как «сплошной прерванный половой акт», – серьезность такого вреда ничто не доказывает. Уролог Александр Пейер при изучении прерванного полового акта услышал от одного опытного коллеги: «Да кто же этого не делает?» Пациентов предостережения врачей не пугали – верный признак того, что медицина вызывает страх, лишь когда попадает в резонанс с собственным опытом пациента. Один немецкий крестьянин на предупреждение об опасности прерванного полового акта невозмутимо возразил, что такого не может быть, иначе бы все люди были больны (см. примеч. 135).
Самым надежным способом предохранения было воздержание – но не вредило ли оно здоровью? На рубеже веков этот вопрос горячо обсуждался и в медицине, и за ее пределами. Иван Блох полагал, что расхождения здесь как нигде резкие. Август Бебель эмоционально признавался в том, что считает секс источником молодости; ни одному отзыву на его книгу «Женщина и социализм» он не уделял столько внимания, как атаке Альфреда Хегара[148]148
Хегар Альфред (1830–1914) – немецкий гинеколог, предложивший «симптом Хегара» для ранней диагностики беременности. Выступал за отрицательную евгенику и расовую гигиену.
[Закрыть] на его гимн сексу. Однако противоположная позиция далеко не всегда отдавала реакционным душком. Часть медиков считала последним словом в науке сексуальную аскезу, в то время как совет жить веселее, сопровождаемый ухмылками и псевдолютеранской цитатой о «вине, женщине и песне», у новых «апостолов гигиены» ассоциировался скорее со старыми, не вполне стерильными докторами (см. примеч. 136).
В общем и целом, многие сексуальные проблемы того времени объяснялись не репрессиями по отношению к сексу, а скорее нервными метаниями между различными тенденциями культуры. Гельпах позже замечал, что около 1890 года «необыкновенно быстро» рухнула «великая буржуазная идея девственности». «В истории нравов столь быстрые изменения были редкостью». В англо-американском мире произошел сходный поворот, и табу с секса было снято. Однако создается впечатление, что в Германии конфликт между сексуальной фантазией и реальным поведенческим репертуаром и, более того, между культом гигиены и культом силы был наиболее острым и подспудно связан с политическими проблемами. Дэвид Герберт Лоуренс, по личному опыту знавший сексуальные ниши вильгельмовской Германии, в романе «Любовник леди Чаттерлей» рисует Германию с точки зрения жителя викторианской Англии как страну эмоциональной и сексуальной свободы. Макс Вебер, связанный с Лоуренсом через общую дружбу с сестрами Эльзой и Фридой Рихтгофен, временами впадал в настоящую ярость по поводу того, что в Германии не хватает жестко-аскетической традиции. Даже Иван Блох, которого никак нельзя назвать пуританином, утверждал: поскольку «мы» во всех чувственных радостях чрезмерны, «поэтому и любим в три раза больше» (см. примеч. 137). Однако стоило человеку модерна побороть в себе моральные сомнения, как его начинали одолевать страхи медицинского толка.
Случай коммивояжера из Берлина (К. Л.), который в 1904 году в возрасте 35 лет был доставлен в Дальдорф и произвел там впечатление «чрезвычайно нервного» человека, служит примером, как типичная для городской жизни той эпохи смесь из сексуальной свободы и неуверенности, усугублявшаяся нестабильной работой, вызвала длительный тяжелый невроз. Немалую лепту в поддержание этого невроза внесли и сами медики. К. Л. с чрезвычайной подробностью излагает на бумаге историю своей жизни и своей болезни. Как и в других историях, его физическая неуверенность началась с гонореи, а затем лишь обострялась из-за врачебных рекомендаций вкупе с собственной ипохондрией. «Уже в школьные годы я страдал от постоянных головных болей, озноба и состояний нервозности. В 1889 году я оставил школу и начал учиться банковскому делу, […] став коммивояжером на фабрике конфитюра. В 1897 году умерла моя мать, и я по протекции дяди получил место на берлинской бирже. В 1898-м я заболел плевритом и получил (дополнение: гонорею и) вместе с тем мысль, что могу сойти с ума, а поскольку я думал об этом, я боялся, что тем скорее это произойдет». Годы между 1898-м и 1904-м были наполнены боязнью заболеть, лечением, прохождением различных курсов, сменой работы и любовными историями:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?