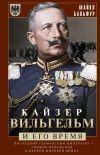Текст книги "Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера"

Автор книги: Йоахим Радкау
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
«В 1896 году в одном танцевальном баре в Темпельхофе я познакомился с девушкой, с которой у меня завязались отношения. Она жила у одной акушерки и недавно у нее родилась девочка, поэтому она поссорилась с отцом […]. Моя связь с ней продолжалась до 1898 года, и я разорвал с ней, когда умерла моя мать, поскольку с тех пор все мне сделалось противно. […] (В 1898 году он начинает любовную связь с “фройляйн Нпричем его отец “терпит эти отношения”) Мой дядя, когда я задумался о том, что могу сойти с ума, сначала не имел ничего против моей связи, однако позже запретил мне любые дальнейшие сношения с этой девушкой. […] В августе 1900 года я потерял место, так что пришлось отказаться от квартиры и продать мебель. Я раздобыл для фройляйн Н. место продавщицы в одном торговом доме, а сам стал корректором у Рудольфа Моссе и Германа Герсона, но долго не выдержал. […] В 1902 году, вскоре после того как я вышел из лечебницы профессора Лэра, однажды вечером я увидел – в то время я пил шнапс и пиво, – как мой кузен целовал фр. Н. Наши отношения тем не менее сохранились. Фр. Н. временами меня поддерживала, поскольку я часто оставался без работы, и мне казалось, что она давала мне деньги не из собственных средств, а передавала их для меня от родственников, поскольку профессор Лэр советовал мне работать и говорил, что я вполне здоров. Я в то время очень страдал, поскольку не мог выполнять никакую работу, а мой дядя заботился обо мне мало. Следствием этого было, что я попал в Шарите, а оттуда в Каппельн в Шлезвиг-Гольштейне, и поэтому мои отношения с фройляйн Н. прекратились. Вернувшись оттуда в Берлин, я стал искать работу, и поскольку у меня никого не было, кто бы обо мне заботился, искал также какую-либо женщину, только не проституток. Я еще должен заметить, что профессор Лэр запретил мне общение с фройляйн Н., чтобы мне снова не потерять дом моего дяди. Следствием этого было, что у меня никого не осталось. […] Я искал какую-то другую связь, и у меня ничего не получалось, поскольку любая девушка шарахалась от моего возбуждения и через короткое время исчезала. (Он начинает связь с женщиной, которая иногда “помогала ему деньгами”) От нее я снова заразился триппером и лечился от него шесть недель в клинике на Урбане. Первые четыре недели она регулярно навещала меня, и вдруг внезапно исчезла без всяких причин, что меня очень сильно задело и привело к новому припадку нервного расстройства. […] Если бы мне кто-то раздобыл место […], тогда бы мне не нужно было, чтобы женщина помогала мне деньгами. Болезнь уйдет, если не будет проблем со средствами, и я мог бы вести достойное существование, как говорил моим родственникам врач из Шарите».
Врачу в Дальдорфе он объяснял, «если он ведет половую жизнь, то все хорошо, он прибавляет в весе и поправляется; теперь же «настал коллапс» (см. примеч. 138).
Возникает заколдованный круг: отсутствие работы ведет к тому, что он не может содержать женщину; беспорядочные связи приводят к новым заражениям гонореей; как следствие – возникает ужас перед потенциальным безумием; эти страхи в свою очередь блокируют его профессиональную активность. Что-то из этого кажется чистой ипохондрией. Но мучает его не одна ипохондрия, но и размышления о ней и мысли об этих размышлениях. А больше всего его мучают последствия этих навязчивых мыслей для практической жизни.
К. Л. объясняет истоки своего расстройства не обстоятельствами времени, а своими личными особенностями. Как и многие другие неврастеники, через опыт своего недуга и знакомство с разными лечебными инстанциями он конструирует собственную биографию и вместе с ней – идентичность. Однако за строками его истории перед глазами читателя отчетливо вырастает Берлин начала XX века – с его прессой, биржей, его стремительным темпом, вечно гоняющимися за заказами коммивояжерами: миллионный город, чье выматывающее воздействие на нервы существовало не только в воображении реакционно-романтических критиков культуры.
Во многих отношениях жизнь К. Л. проходит на грани между традиционным мелкобуржуазным обществом и обществом крупного индустриального города – это касается положения в обществе, образа жизни и сексуальных норм. К. Л. не выбирает четкого профессионального пути, он постоянно меняет работу, однако в то же время старается не утратить связей с родственниками, прежде всего с дядей, и даже в 30-летнем возрасте позволяет ему вмешиваться в собственную личную жизнь. При этом он был убежден, что половая жизнь – основа душевного здоровья. Поэтому любая терапия нервов – будь то заведение Лэра или родственники в деревне – обременена для него дилеммой, что она лишает его самоутверждения в сексе. Любопытно, как в его случае нервозность и терапия образуют самовоспроизводящуюся систему.
Во многих историях неврастеников обнаруживается врачебная помета «in Baccho et Venere excediret». Формула «Бахус и Венера», которая несла в себе нечто забавное и раскрывала над спертым воздухом трактиров и борделей высокое небо античных богов, пришла из студенческого жаргона. Она отсылала к определенной модели мужского поведения, богатой традициями, порой даже ритуализированной – как было принято в мире студенческих корпораций и офицерских казино: сначала общая попойка, затем дружный поход в бордель. К тяжелому утреннему похмелью примешивался страх перед сифилисом, особенно на фоне активного народного просвещения о венерических заболеваниях.
Однако служило ли это типичным источником неврастении, не ясно. По собственному опыту врачебное сословие имело далеко не негативное отношение к алкоголю, в кабаках студенты-медики распевали: «У врача бездонна глотка, поскорее наливай, / Не допил еще вторую, ему третью подавай!» Рудольф Вирхов рекомендовал своему стареющему другу Генриху Шлиману, открывателю Трои, для поддержания потенции «больше покоя» и баварское пиво «в умеренном количестве». В 1899 году отпрыск знатного семейства из региона Восточной Эльбы сообщал в Бельвю, что когда-то его, гимназиста 3-го класса, лечили от «состояния нервозности» вином и бульоном. Даже один из реформаторов модерной жизни Эрнст Нейман среди своих 150 максим для «исцеления нервозности» напоминает: «Задумайся: чей отец развлекался вином, кабаниной и женщинами, тому в одночасье святым не стать!» (см. примеч. 139).
Однако в то же время среди неврологов и психиатров сформировался фронт против пьянства. На то имелись свои причины – в конце XIX века их клиники были буквально переполнены больными алкоголизмом, к примеру, в психиатрическом отделении Шарите почти у половины всех новоприбывших пациентов находили признаки белой горячки (см. примеч. 140). Просматривая их уныло-монотонную статистику, понимаешь, почему таким психиатрам, как Крепелин и Форель алкоголь в то время казался самым главным врагом. Именно те психиатры, которые не сдавались перед неизлечимостью психических заболеваний, а хотели и пытались что-то делать, обнаружили здесь безотказный механизм терапевтического воздействия на пациента.
На рубеже веков сомнения в пользе или вреде алкоголя стали не только индивидуальной причудой, но и общим феноменом со своими закономерностями. С тех пор как общество благополучно распрощалось с религиозно-моральным недоверием в адрес хмельных «радостей жизни», лишь медико-психиатрическим опасениям по поводу алкоголя впервые с конца XIX века удалось пошатнуть глубоко укорененные привычки. Пивные ритуалы студенческих корпораций по-прежнему оставались важными ступеньками на карьерной лестнице кайзеровской Германии. Но в то же время в германском обществе, вплоть до высших его кругов, стала распространяться неприязнь к алкогольной культуре. Даже Вильгельм II, в привычки которого входило пить вино уже к завтраку, в итоге пришел к заключению, что алкоголь плохо сказывается на «нервах». Статья о «здоровье народа», написанная для показательного сборника «Германия как мировая держава», вышедшего к 40-летнему юбилею Германской империи в 1911 году, клеймила алкоголизм как «давнего врага», коварно подрывавшего победоносное шествие гигиены и «многократно виновного» в «нервозности нашего времени». Если посмотреть на статистику потребления алкоголя, окажется, что до 1914 года антиалкогольное движение в Германии особых плодов не приносило – хотя потребление водки и других крепких напитков действительно снизилось в пользу потребления пива, а с 1906 года несколько упало и потребление алкоголя на душу населения, – однако зерна сомнения оно сеяло весьма успешно. Даже в сексуальной жизни: если обычно первая брачная ночь проходила в тяжелом опьянении, хотя бы для того, чтобы преодолеть смущение, то теперь стали бояться, что зачатый в пьяном состоянии ребенок с рождения будет неполноценным (см. примеч. 141).
Немецкая антиалкогольная кампания была, как правило, сдержанной: девизом обычно выступало не строгое воздержание, но умеренность; серьезно осуждался только шнапс, но никак не умеренное потребление пива; на работе алкоголь порицался, в свободное время – нет. Если выпивал человек из рабочего класса, он считался уже горьким пьяницей, если же из более высоких слоев общества, то все еще сходил за «рубаху-парня». «Студенческие забавы» сохранили свои особые привилегии, однако реформаторские и молодежные движения распространяли отвращение к пьянству, и в карикатурах журнала «Simplicissimus»[149]149
«Simplicissimus» – легендарный сатирический журнал модерна, издававшийся в Мюнхене с 1896 до 1944-го и затем с периодическими попытками возродить журнал – до 1998 года. В нем печатались центральные персонажи немецкоязычной культурной сцены, такие как Манн, Гофмансталь, Гессе, Шницель, Вагнер и др.
[Закрыть] студенты-корпоранты с их огромными пивными животами выглядели все более омерзительно. Редактор «Simplicissimus» Людвиг Тома с презрением вспоминал то время, когда образцом для зеленых юнцов был «раздувшийся студент», напивавшийся «сколько хватало здоровья и сил»: «Сегодня каждый школьник презирает того, кто уже в 20 лет страдает от последствий пьянства. Сегодня он восхищается альпинистом, лыжником […]». Тем не менее немецкая питейная культура устояла. Однако в назревающем конфликте норм «дозирование наркотика под названием алкоголь», как замечает Хассо Шподе, стало «хождением по лезвию ножа» (см. примеч. 142). Вероятно, в Германии оно давалось особенно нелегко, потому что, с одной стороны, обострялся конфликт между алкогольной повадливостью и реформой модерной жизни, а с другой – здесь имели обыкновение искусно лавировать между обеими нормами.
Союз «Бахуса и Венеры» способствовал тому, что свободная любовь была окружена нездоровой атмосферой, так что реформаторы жизни получили идеальную мишень. Союз реформ-движений и движений за здоровый образ жизни проложил в бытовой культуре кайзеровской Германии глубокую трещину, которая была тем более болезненной, что проходила через психику отдельных людей. Ее следы просматриваются во множестве историй неврастеников. Судьбы этих людей ясно показывают, как в душе одного и того же человека могут сочетаться совершенно разные поведенческие идеалы, какой мучительный след они в ней оставляют, как из разных понятий формируются навязчивые идеи и как в водоворотах личной биографии из них складывается порочный круг, из которого необходимо вырваться.
III. Неврастения как феномен модерна
«Модерная» теория неврастении и ее критика: модерность и наследственность; специфика Германии
Связь между «нервами» и «модерном» легко сходит с пера многих авторов. Но насколько модерной была «слабонервность» в эпоху 1880 года на самом деле и чем эту модерность доказать? Свидетельства современников заставляют читателя колебаться. Если такое множество информированных современников с глубоким убеждением заверяют, что стремительное распространение нервозности обусловлено в первую очередь тяготами современной цивилизации, то у историка нет оснований им не верить – по крайней мере пока у него нет весомых контраргументов. Однако, чем дольше приходится слушать эту вечную тоскливую шарманку из «борьбы за существование», «травли и беготни», потока впечатлений большого города, тем сильнее крепнет подозрение, что все это не более чем привычная болтовня критиков культуры, кочующая из одного текста в другой. Эстер Фишер-Хомбергер связывает веру в болезни цивилизации с античным мифом о Пандоре – навязчивой идеей, что достижения цивилизации неизбежно влекут за собой новые недуги (см. примеч. 1).
Хотя технические инновации существенно повлияли на теорию неврастении, страхи перед модернизацией и таящейся в ней опасностью для духа и души были значительно старше и не зависели от опыта знакомства с новой техникой. Потому вполне может быть, что техника как причина болезней – лишь декорация, за которой скрывалась традиционная модель мышления. Уже в революционной и послереволюционной Франции распространилась идея о том, что к психическим заболеваниям приводят общественные беспорядки.
Еще в 1881 году Генрих Гофман, директор Франкфуртской психиатрической клиники, предложил теорию о связи нервных расстройств с модернизацией, не обращаясь к технике: по его словам, тот факт, что «сегодняшнее человечество […] преимущественно нервозно», не может «удивить никого», поскольку «сегодня с самой ранней юности мозг гораздо более напряжен, и требуется куда больше умственной работы, чем 30–40 лет назад» (см. примеч. 2).
Относительно рано обратили внимание на фактор техники в медицине труда. Из медицинских заключений, приведенных в докладе Английской фабричной комиссии 1833 года, Карл Маркс сделал принципиальный вывод о том, что механизированный труд, «подавляя разнообразную игру мышц», «в высшей степени нагружает нервную систему», правда, скорее за счет бездушной монотонности, чем вследствие напряжения и разбросанности внимания (см. примеч. 3).
Джордж Бирд в самой подробной форме изложил свой собственный тезис о «модерности» нервозных явлений. В его почти 100-страничном обзоре причин нервозности 1-е место занимает изменение стиля жизни вследствие технических инноваций; ни один немецкий автор не писал об этом столь подробно. Бирд начинает с «неизбежных бед специализации», переходит к карманным часам и необходимости все делать вовремя, затем говорит о телеграфе, который резко ускорил деловую жизнь и пока не вполне осознан в качестве причины нервозности. В заключение он с удивительной для того времени обстоятельностью описывает вредное воздействие шума, и в этом он ближе к модерну, чем большинство немецких авторов (см. примеч. 4).
Лишь в 1890-е годы в Германии растет количество текстов, авторы которых признают технику одной из причин неврастении. Это соответствует реальному развитию техники в то время и не является лишь бумажным дискурсом. Уже тогда под стимулом технических инноваций произошел переход к «коммуникационному обществу» (Г.-У Велер). В 1892 году Макс Нордау попытался точно высчитать, как за прошедшие полвека за счет прямых или отдаленных последствий технических новшеств упростилась повседневная жизнь – как будто само собой, нечаянно, исключительно за счет ускорения и удешевления транспорта: «Кухарка принимает и отсылает больше писем, чем прежде профессор высшей школы, а мелкий лавочник больше путешествует, видит больше стран и народов, чем иной правитель». В нервных расстройствах он видит недостаток адаптации: «Благовоспитанное человечество отстало от собственных изобретений и прогресса» (см. примеч. 5).
В 1893 году берет слово ведущий немецкий невролог Вильгельм Эрб. Его гейдельбергский доклад «о возрастающей нервозности нашего времени» посвящен критике культуры и выдержан в стиле широкого панорамного снимка. Он не особенно пессимистичен, а скорее напоминает призыв к созданию науки о «гигиене нервной системы». Сам Эрб, видимо, не особенно страдал от возросшего темпа эпохи, несколько позже его девизом стало: «как следует работать и как следует развлекаться». Упомянутые им в качестве причин нервозности технические средства, прежде всего новые средства транспорта и коммуникации, пробуждают не только пессимизм, но и эйфорию: «Время и пространство, кажется, удалось преодолеть, мы летаем со скоростью ветра через все материки, говорим прямо или опосредованно с обитателем другого полушария». Эрб впадает в футуризм – на самом деле в 1892 году никто еще не никуда не «летал», а по телефону житель Берлина не мог говорить даже с лондонцем, и уж тем более с «обитателем другого полушария». Но стремительные успехи электрификации резко расширили горизонты, стало казаться, что технический прогресс уходит в бесконечность – еще 20, 30 лет назад ничего подобного невозможно было себе представить (см. примеч. 6).
Американской конкуренции Эрб приписывает такую всепроникающую силу, которую она обретет лишь в зрелом XX веке. Но уже в 1893 году он пишет о том, что Америка «с ее безостановочной занятостью, с неисчерпаемыми вспомогательными средствами» вступила в соревнование со Старым Светом и угрожает «обогнать его во всех сферах деятельности». Каждый отдельный человек, как и целые нации, оказался «перед необходимостью проявить доселе немыслимые усилия в борьбе за существование». Драматический сценарий, подвергающий наблюдателя контрастному душу восхищения и ужаса.
Такой была картина мира немецкого империализма. Можно сделать вывод, что для описанного Эрбом нервного кризиса существовало только политическое решение: протекционистская Imperium Germanicum. Ведь надежной «гигиены нервной системы», которая сделала бы нервы неуязвимыми для конкурентной борьбы, не было.
В том же 1893 году вышел «Справочник по обращению с невротиками», начинавшийся с привычного занудства: когда начинают характеризовать наше время и общество, мы слышим два выражения всякий раз “борьба за существование” и “эпоха нервозности”». Автор рисует «мрачную картину» состояния нравов и заверяет, что «все неврологи […] в один голос отмечают прогрессирующий рост нервозности». Песня «нервозная эпоха» из сборника студенческих песен 1895 года, подтверждает:
«Всюду гонка, гул, охота за наживой;
Каждый скрипкой первой хочет быть.
Одному стать суждено машиной,
а другому – нервным жить» (см. примеч. 7).
«Нервным», очевидно, становится тот, кто не стал машиной.
Невролог Альберт Эйленбург в 1896 году выступил на Берлинской промышленной выставке с речью о «нервозности нашего времени». Он сделал акцент на том, что подлинные истоки современной нервозности нужно искать не во внешнем мире, а в «глубинах и безднах наших мыслей и настроений». Люди потеряли смысл жизни, «веру в себя и свое будущее» и потому стали так подвержены внешним тревогам. Завершили его речь слова Трейчке: «Господь не оставил ни один народ, который не оставляет самого себя» (см. примеч. 8).
Справочная статья о «неврастении» 1900 года предлагает читателю бессистемный хаос на тему критики культуры, выдавая весь этот паноптикум за научное знание (см. примеч. 9). Испробовав это скучнейшее попурри из всевозможных причин неврастении, понимаешь, как соблазнительно было для въедливого аналитика типа Фрейда отодвинуть от себя все это разнообразие и сосредоточиться на одном-единственном, глубоко запрятанном этиологическом факторе. Понятно также, что многие другие приходили к выводу, что многоголовую гидру неврастении удастся одолеть, не просто устраняя причины и симптомы, но улучшая наследственный материал человека.
Мысль о том, что процессы модернизации разрушают нервы, проникла в самые узкие политические круги кайзеровской Германии. «В нашем сегодняшнем способе жизни и восприятия явно есть нечто такое, что служит серьезным испытанием для нервов», – пишет в 1908 году Гольштейн супруге Максимилиана Гардена[150]150
Гарден Максимилиан (1861–1927, настоящее имя – Феликс Эрнст Витковский) – немецкий публицист, в 1892 году основавший еженедельник «Die Zukunft». Скандальную известность приобрел своими разоблачениями «мягкотелости» и «пороков» в ближайшем окружении кайзера (об этом см. далее).
[Закрыть]. «Результат виден в растущем количестве неврологических клиник» (см. примеч. 10).
Создается впечатление, будто мысль о связи нервозности с модерном абсолютно преобладала: она повторяется вновь и вновь, словно речь идет об общеизвестном и тысячекратно подтвержденном факте. Однако это не так. При внимательном изучении литературы обнаруживается целый ряд иных мнений, часто противоречащих друг другу. Как правило, они не обладают такой законченностью, как теория модерности, в них еще меньше обоснований и едва ли не больше клише.
Большинство противников модерности неврастении вспоминали старую ипохондрию и спинальную ирритацию, а также всевозможных авторов от XVII до начала XIX века. При этом связь расстройства с эпохой в более широком смысле сохранялась, исчезал только конкретный эффект технических инноваций XIX века. Другие критики заглядывали в более далекое прошлое и вспоминали извращения Римской империи, танцевальные эпидемии Средневековья и охоту на ведьм раннего Нового времени. Одним эти экскурсы давали возможность продемонстрировать знание истории, другим нравилась небрежная манера и скептический рефрен «все-это-уже-когда-то-было». Значительная часть исторических аллюзий составлена из клише, которые валят в одну кучу распутство, массовые психозы, навязчивые идеи и всевозможные треволнения. Рудольф Арндт одним махом превратил в неврастеников Геракла и Аякса, Давида и Саула, Мухаммеда и Меттерниха, Алкивиада и Будду, поздних Меровингов и Армию спасения (см. примеч. 11). Насколько серьезны были все эти рассуждения, часто неясно – во множестве текстов они заканчивались уступками в пользу тезиса о модерности. Ясно одно: и в 1900 году существовало множество контраргументов против связи нервозности с эпохой модерна.
Если в 1890-е годы «модерная» теория была на пике успеха, то с приходом нового века набирают силу голоса ее критиков. Особенно резок был франкфуртский невролог Леопольд Лаквер, раздраженный разбирательствами с невротиками – жертвами несчастных случаев[151]151
Об этом см. подробнее гл. IV о «рентном неврозе».
[Закрыть]. В 1908 году он писал: «Вечный скулеж о нервозности так же уйдет в прошлое, как поиски тарантулов, синдром Вертера и прочие былые страхи». Это было сильно сказано, и тем не менее «значительная часть здоровых нервов […] уничтожена из жизни […] катящимся грузовиком культуры»!
Наиболее изящный и темпераментный протест против теории модерности принадлежит терапевту Фридриху Марциусу (1850–1923). Самого себя он представляет как «культуроптимиста» в отличие от пессимистически настроенных противников. В работе 1909 года он видит теорию неврастении в союзе с теорией вырождения; всеобщий страх перед упадком растет как «всепожирающая язва». Он иронизирует над упадочными сценариями ученых-евгеников, по которым «арийской расе […] нужно прибегать к осеменению», чтобы утвердиться «против японцев, монголов и других более или менее желтых современников». Один из основателей конституциональной теории, Марциус, и неврастению относит к расстройствам, обусловленным конституцией. В своей врачебной практике он собрал большой опыт работы с неврастениками. Карьера его началась с того, что в 1889–1890 годах он с помощью гипноза избавил Великого герцога Мекленбурга от целого ряда психосоматических жалоб. Марциус был борцом против засилья в медицине бактериологии и вообще возражал против упрощенных моделей, по которым болезнь легко объясняется внешней причиной. Он цитирует философа Лихтенберга, что врачи «в большинстве всегда оставались наивными в своих поисках причины». Доказать количественный рост неврастении и вовсе нельзя: пересчитать можно баранов в Мекленбурге, в крайнем случае – больных раком, но не неврастеников. Помимо прочего, он пишет о том, какое множество «заметно ослабленных неврастеников» он обнаружил в мекленбургских деревнях. По его мнению, только неврологи, живущие и работающие в крупных городах, могут воображать, что неврастения есть порождение мегаполисов. Он подводит следующий итог: «Способность человеческого мозга приспосабливаться к новым социальным условиям, воздействиям технического прогресса много выше, чем заверяют нас культур-пессимисты. Невозможность попасть из Ростока в Берлин за четыре часа, а из Гамбурга в Нью-Йорк за пять дней действует на нервы современному человеку. Напротив, любой из нас начнет нервничать, когда ему, чтобы доехать из Ростока в Рёбель (городок в южной части Мекленбурга), придется провести пять часов в пригородном поезде с его звоночками» (см. примеч. 12). Последнее предложение явно выдает личный опыт. Однако автор все же противоречит сам себе, упоминая, что именно современные процессы приспособления ведут к новым нервным переживаниям.
В текстах других авторов также постоянно сталкиваешься с тем, что критики модерного толкования неврозов делают своим противникам значительные уступки. Даже Освальд Бумке, который после Первой мировой войны решительно и резко отверг учение о неврастении вкупе со всей ее «модерностью», еще в 1912 году писал, что определенные нервные расстройства «усиливаются с каждым днем» и демонстрируют «прямую зависимость от особенностей наших общественных институтов» (см. примеч. 13).
К обсуждению вопроса о том, порождает ли новая культура новые проблемы для нервов, нередко добавлялась давняя и еще более тревожная дискуссия о том, не усиливаются ли под действием современной цивилизации тяжелые психические заболевания и к чему это может привести в будущем.
Четвертый международный конгресс по призрению душевнобольных, проходивший в Берлине в октябре 1910 года, целиком посвятил одно из своих утренних заседаний связям между «безумием и культурой» (или по фр. «1а civilisation et la folie»). Сначала один итальянский референт представил позицию культуроптимистов, а затем Эрнст Рюдин, один из авторитетов немецкой расовой гигиены[152]152
В 1939 году он даже получил от Гитлера медаль за искусство и науку, что и не удивительно: во время Второй мировой войны он принимал участие в исследованиях, которые основывались на экспериментах над людьми.
[Закрыть], – противоположную точку зрения, не преминув указать на последствия алкоголя и сифилиса. Рюдин, считавший рост нервозности индустриальной эпохи и усиление психических болезней одним и тем же процессом, пришел к заключению, что «ничего не остается, как собраться с духом и с помощью мер расовой гигиены остановить грозящее нам вырождение». Докладчик из России возразил, что алкоголь и сифилис – это не цивилизация, но недостаток цивилизации. Крепелин подчеркнул открытость проблемы, в то время как психиатр Густав Ашаффенбург и невролог Адольф Фридлендер раскритиковали рюдинский пессимизм. На какой-то момент возникла провидческая конфигурация, не типичная для довоенного времени: два невролога еврейского происхождения противостояли представителю национал-социалистической евгеники (см. примеч. 14).
Одной из крупных загадок, поглощавших огромную массу интеллектуальных сил, был вопрос наследственности. Казалось бы, идея модерности неврозов должна выступить конкурентом спекулятивным соображениям о наследственной передаче нервной слабости и таким образом послужить противовесом засилью теории наследственности. Иногда так и было, но очень часто дела обстояли совершенно иначе. В арсенал биологической и медицинской мысли тогда еще входила теория Ламарка о наследовании приобретенных свойств, а вместе с ней и допущение, что нервозность может передаваться по наследству и усугубляться от поколения к поколению. Еще в 1912 году Бумке говорил, что большинство врачей настолько «склонны к наивному ламаркизму», что многие считают экспериментальную проверку «совершенно излишней» и не замечают умозрительного характера этой теории (см. примеч. 15).
Вместе с идеей эволюционного прогресса возникла также мысль о регрессе, а именно – нервной дегенерации. Бенедикт Августин Морель (1809–1873), основоположник учения о вырождении, выдвинул «закон прогрессивного роста»: из легкой нервозности первого поколения во втором поколении разовьется невроз, в третьем – психоз, а в четвертом – идиотия (см. примеч. 16).
С самого начала теория неврастении находилась под воздействием этого учения, если не сказать, что полностью шла в его русле. Морелевские ступени дегенерации не обязательно противоречили концепту модерной неврастении, они означали только то, что индустриальная нагрузка на нервы началась не в конце XIX века, но одним-двумя поколениями раньше. Для представителей нового поколения, чьи родители выросли уже в эпоху железных дорог, это допущение выглядело вполне убедительным. Таким образом, можно было вообразить, что там, где уже родители были невротиками, детям также грозила неврастения и, сверх того, им надо было опасаться, что их потомство будет еще более психически неполноценным. Опрос «нервозных» пациентов постоянно начинался с вопросов о родителях и родственниках, зачастую сами пациенты начинали с рассказов о «нервозности» матери или отца. Напрашивался вывод: возложить ответственность на воспитание – в конце концов, люди не были столь слепы, чтобы не увидеть этого очевиднейшего влияния. Тем не менее при упоминании нервных родителей в воздухе зачастую витало подозрение на наследственность.
В 1866 году биолог и неодарвинист Август Вейсман (1834–1914) представил новаторский доклад «О регрессе в природе», в котором с помощью наблюдений за хвостатыми земноводными доказал, что объяснить редукционные процессы можно и без теории наследования приобретенных негативных признаков, и что эта гипотеза лишена биологического обоснования. Это открытие имело широкое воздействие – оно лишило почвы теорию дегенерации, но вместе с тем открыло путь радикальному расизму, исходившему из неизменности качеств расы. Впоследствии открытие Вейсмана стало казаться фундаментом всей евгеники. Однако старые воззрения отличаются стойкостью. Для их понимания нельзя забывать, что не только старый ламаркизм, но и применение взглядов Вейсмана к учению о нервах человека содержит элемент умозрительности (см. примеч. 17).
Отто Бинсвангер в учебнике о неврастении 1896 года исходил из того, что вопрос уже ясен. Он признался, что теория Вейсмана ему сначала не понравилась: он отталкивался от «почти имманентной для клинициста и, казалось бы, подтвержденной опытом предпосылки, что не составит труда неопровержимыми фактами подкрепить наследственность приобретенных душевных и нервных болезней». Однако такое доказательство не удалось – «постыдный» для Бинсвангера опыт. На Вейсмана активно ссылался «культуроптимист» Марциус (1909), заверявший, что гипотеза дегенерации со всеми ее страхами скорее всего неверна, ведь она выдержана в русле ламаркизма и с ним же отомрет. Бумке в 1912 году в реферате «Нервозность и дегенерация» откровенно заявил – понятие дегенерации «столь размыто, что вообще становится лишним», все учение о вырождении созрело для «ликвидации». Новые исследования еще более укрепили его в этом: «Величественное здание, выстроенное изучением наследования психиатрических болезней, в последние годы было разрушено камень за камнем. Законы наследственности ведут не к вырождению, а к возрождению». «Дегенерация, вырождение – все это мошенничество», – бушевал Шлейх в статье «Что такое неврастения?» (См. примеч. 18.)
Собственно, элемент наследственной «предрасположенности к нервозности» не отвергали целиком и полностью, резкие возражения вызывала идея о кумуляции регрессивных признаков. Однако эти возражения так и не возымели должного успеха, теории нервозности и деградации продолжали соседствовать друг с другом. Когда Георг Энгельгардт в работе 1925 года «Тайна нервозности» писал, что поспешное заключение об унаследованной нервозности «бессмысленно», что оно всего лишь «шезлонг для ленивых врачей», он вместе с тем констатировал, что таких врачей великое множество: сваливать нервозность на наследственность «стало почти догмой». «С этой догмой большинство врачей встречает пациента-невротика, а кто-то с ее помощью нагоняет на себя важность» (см. примеч. 19).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?