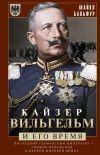Текст книги "Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера"

Автор книги: Йоахим Радкау
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Тезис историка психиатрии Эрвина Акеркнехта, что на рубеже веков учение о дегенерации в психиатрии уже не имело под собой почвы, как общий вывод не выдерживает проверки. Такому неврологу как Альберт Эйленбург новое учение Вейсмана было хорошо известно, однако он воспринимал его в сугубо теоретическом ключе, в крайнем случае – как правду о хвостатых земноводных. Крафт-Эбинг описывает, как измотанные «труженики ума […] поколение за поколением становятся все более нервными» и как «современный деловой и трудящийся человек», в преклонном возрасте решив наконец жениться, «собирает скромные остатки своей мужской силы и, не прерывая напряженной профессиональной деятельности», производит на свет «болезненных, ослабленных, нервозных детей». Гельпах в 1902 году полагает «очень вероятным, что нервозность – это один из сильнейших рычагов вырождения», и что «раз начавшееся вырождение идет вперед семимильными шагами и уже вынудило великие сильные народы покинуть арену истории». Подобные интенции он не стесняется подавать читателю в качестве учения «культурно-исторического опыта». Даже Лейбушер и Бибрович, которые в причинах неврастении переносят акцент целиком на условия труда и знакомы с теорией Вейсмана уже как принятой в науке точкой зрения, после прочтения трудов Крафт-Эбинга теряют уверенность и воспринимают проблему наследования как «чудовищный вопрос», «нагоняющий над будущим темные тучи» (см. примеч. 20).
Даже опубликованная в 1928 году в серии социалистических изданий брошюра о неврастении содержит давно уже опровергнутую к тому времени теорию, что нервная слабость «во многих случаях» является врожденной. Если отец и мать «слабонервны», то они «произведут в высшей степени слабонервных детей»; а «в высшей степени слабонервным личностям» следовало бы «безусловно отказаться от продолжения рода». В той же брошюре теория модерной нервозности представлена в ее традиционной форме («Куда ни глянь, всюду спешка, гонка и травля […]»). Окончательного разделения между учением о нервозности и идеей дегенерации так никогда и не произошло. Однако к расовой политике национал-социализма привело не слияние этих теорий, а другое учение – о вырождении вследствие смешения рас, исходившее из постоянства наследственного материала (см. примеч. 21).
Насколько индивидуально развивалось учение о неврастении в Германии в его связи с модерностью и наследственностью? Первым напрашивается сравнение с Францией. Здесь литература на тему нервозности была не менее обширна, а традиции ее научного осмысления – (около 1880 г.) старше, чем в Германии. Франция была исторической родиной учения о дегенерациях, и нервный дискурс сильно подпал под ее влияние. Однако позже с французской и французско-швейцарской стороны, от таких ученых, как Шарко и Жане, Ипполит Бернгейм с его Нансийской школой гипноза[153]153
Нансийская школа гипноза выступала против гипнотических теорий Шарко и утверждала, что гипноз сводится к внушению и воздействию на воображение человека авторитетом гипнотизера, а не патологической природой самого гипноза.
[Закрыть], Форель и Дюбуа, поступили сильнейшие импульсы к психизации учения о нервах. Психизация происходила более или менее из теории дегенерации, над которой Дюбуа шутил, что она бросает в один котел «пьяниц, распутников» и «настроенных против вивисекции престарелых англичанок». Но хотя между 1855 и 1875 годами в Парижской центральной аптеке чуть ли не в 200 раз возросли продажи бромистого калия и хотя (или потому что?) Париж был столицей моды, бросается в глаза, что во французской специальной литературе техническую цивилизацию в качестве источника неврастении почти не встретить. Хотя трудовое переутомление (surmenage) как патогенный фактор какую-то роль играло – Крафт-Эбинг даже перенес понятие surmenage в немецкий язык, – но жалобы на его резкий рост звучали редко. Шарко подчеркивал, что описанная Бирдом манера перенапрягаться и в труде, и на досуге – типично американская дурная привычка. Во Франции Прекрасной эпохи, эльдорадо для рантье, расстройства из-за сверхактивности не были столь значимым явлением, как в Нью-Йорке времен Бирда. Какого бы теоретического направления ни придерживался автор, но во Франции на рубеже веков мысль о взаимосвязи нервозности и модерной культуры не казалась убедительной и ее просто игнорировали (см. примеч. 22).
Может, типичную модерную нервозность следует искать за пределами Парижа? В 1911 году невролог из Невера Раймон Бельбез опубликовал книгу на необычную тему – неврастения в деревне. Восьмилетний опыт врачебной практики в округе Гаронна привел его к заключению, что 30 % тамошнего сельского населения страдают неврастенией. Столь внушительная цифра – плод относительно недавнего времени и объясняется растущим обнищанием. Бельбез говорит о различных «культурах неврастении»: семейной, школьной и литературной, из которых как минимум две последние – относительно новые явления. Заслуживает внимание резюме этого оригинального и глубокого исследования: «Изучаемый нами регион совершил особенно резкий переход от процветания к упадку, так что его жители пережили моральную травму, действие которой усугубили различные факторы: воспитание – скверное, как это бывает в обезлюдевшей местности, – школа, пресса или литература, военная служба. С 1870 года все эти причины действовали с неожиданной силой и тем интенсивнее, что во всецело материальной цивилизации они не компенсировались никаким психологическим противовесом» (см. примеч. 23).
Английская литература о неврастении раскрывает еще один новый мир. Тенденция к психическому толкованию была здесь намного слабее, чем во Франции. Знаменательно, что исследовательница Джанет Оппенгейм, которой мы обязаны наиболее обстоятельным описанием дискурса нервов викторианской эпохи, воспринимает этиологию концепта неврастении как «бескомпромиссно соматическую»: при изучении французской и немецкой литературы такое выражение было бы просто немыслимо. В Англии литература о нервных расстройствах имела самую долгую традицию: уже в XVIII веке англичане обнаружили в нервах общий знаменатель для многочисленных и разнообразных жалоб. Также рано здесь заметили связь между цивилизацией и диффузными жалобами. Но к 1880 году «Английской болезни» Чейна[154]154
Чейн Джордж (1671–1743) – шотландский врач, философ, математик. Названная книга описывает явления нервозности, опираясь на идеи Бернарда де
Мандевиля об ипохондрии и истерии.
[Закрыть] (1733) уже было почти 150 лет, и связь между индустриализацией и нервозностью уже давно потеряла всякую остроту. Темп индустриализации замедлился, и к тому же англичане первыми додумались превратить спорт в средство против недостатка движения. Если в английской литературе особенно любили сравнивать силу нервов с капиталом, который следует расходовать разумно, то делалось это с точки зрения общества рантье, живущих за счет унаследованного капитала и не склонных увеличивать его посредством рискованных предприятий (см. примеч. 24).
Когда в 1861 году в Антверпене переволновавшийся молодой инженер и писатель Макс Эйт спешил к пароходу, панически боясь на него опоздать, он заметил одного англичанина, совершенно спокойно ступившего на трап в самый последний момент. Мало того, этот англичанин, уже стоя одной ногой на корабле, оживленно беседовал со своим комиссионером, никак не реагируя на гудки парохода и нетерпение капитана! С тех пор глубочайшим убеждением Эйта стала фраза Гёте о том, что «флегма правит миром». Другим немцам англичане также часто казались образцом невозмутимого спокойствия, в то время как сами немцы утратили свою традиционную репутацию «уютных» людей. В 1906 году Август Нольда, врач из экстравагантного швейцарского курорта Санкт-Мориц, изучивший, как он сам выразился, «интернациональный материал» из более чем двух тысяч неврастеников, счел «необходимым отметить, как редко встречается неврастения у англичан». Стабильность нервов у британцев он объяснял не только спортом, но и «разделением труда». Работы Бирда знали и в Англии, но его тезис о том, что неврастения – новая болезнь цивилизации, встречал возражения у большинства британских медиков. Здесь преобладало мнение, что неврастения – лишь новое обозначение давно известной картины заболевания. А вот французское учение о дегенерации нашло у английских психиатров «энергичный» отклик. Яркой иллюстрацией этих откликов служит вопрос Томаса Карлейля Дарвину о том, возможно ли, чтобы человек мог развиваться обратно, в сторону обезьяны (см. примеч. 25). Труд Дарвина «Происхождение видов» заставил всех говорить о «борьбе за существование», однако у Дарвина она служила не спусковым рычагом нервозности, а как путь к отбору наиболее приспособленных видов.
В общем и целом английская литература на тему неврастении производит более бесцветное впечатление, чем французская; в поздневикторианской Англии ощущается нехватка широкого фундамента живого опыта. Зато концепция неврастении очень рано подверглась там разгромной критике – такой резкой, какой не знали ни Франция, ни Германия. Не кто иной как сэр Эндрю Кларк[155]155
Кларк Эндрю (1826–1893) – в свое время популярнейший практикующий врач из Лондона.
[Закрыть] в своих «Наблюдениях по поводу так называемой неврастении» (1866) дал ясно понять, что о новом явлении и речи быть не может – все дело лишь в спектре симптомов, многократно описанном компетентными наблюдателями еще со времен Чейна и Уитта. Затем он долго и со вкусом критикует термин «неврастения» – «ошибочный», «неточный», «ненаучный» и «терапевтически дезориентирующий» (см. примеч. 26).
Наиболее основательной и оригинальной английской книгой о неврастении стал труд Томаса Диксона Савилла «Лекции о неврастении», выдержавший между 1899 и 1909 годами четыре издания. Савилл опирался на опыт лондонских госпиталей. В 1899 году он критически замечает, что до сих пор неврастения не вошла в английскую учебную литературу. Если сексуальный компонент неврастении он задевает лишь мимоходом, то куда больше внимания уделяет жалобам невротиков на боли в желудке. Его авторская позиция состояла в том, чтобы подчеркнуть ведущую роль нарушений пищеварения в развитии неврастении, поскольку они приводят к самоотравлению организма и таким образом причиняют вред нервной системе. Идею модерности недуга Сэвилл обходит стороной, хотя выказывает необыкновенную грамотность в отношении зарубежной литературы (см. примеч. 27).
Если сравнить судьбу учения о неврастении в США и Германии с его судьбой во Франции и Англии, то однозначно обнаружится, что идея о связи неврастении с модерном нашла наиболее широкий отклик в тех странах, которые в конце XIX и начале XX века пережили мощную волну индустриализации. Приоритет того или иного направления в медицине особой роли не играл. Германия по вопросу о связи неврастении с модернизацией пошла по американскому пути. Если сравнить немецкую и английскую литературу, отчетливо чувствуется, что Англия считала себя прародиной индустриализации, в то время как для многих немцев этот процесс был искусственным, навязанным вследствие конкурентной борьбы; и это тоже служило причиной, почему процесс индустриализации чаще воспринимался как нагрузка на нервную систему.
Возможно ли в принципе проверить тезис о модерности неврозов эмпирическим путем? Как и с концепцией неврастении в целом, сделать это напрямую будет нелегко – необходимо действовать отчасти per exclusionem, т. е. исключая альтернативные толкования. Первым напрашивается возражение, что объяснение через модерность ни что иное как зеркало модных тогда культурпессимистических веяний. Однако эта гипотеза не выдерживает критики: целый ряд известнейших сторонников этой идеи, будь то Эрб или Гельпах, Оппенгейм или Лампрехт, не были культурпессимистами.
Существовал ли интерес к этой теории со стороны медиков и нет ли здесь повода задуматься? Иногда да: неврологические лечебницы, расположенные в идиллической природе вдали от городской суеты, в своей рекламе ссылались на проблемы модернизации. Апеллирование к «борьбе за существование» вкупе с рефреном, что нервнобольной в первую очередь должен вырваться из своего окружения, постоянно повторяется в рекламных текстах клиники Эренвалля. Пишущих врачей тема связи современной цивилизации с нервными расстройствами тоже привлекала, ведь она пользовалась успехом у общественности. Гонорар за «Нервозность и культуру» позволил молодому Гельпаху обедать в берлинском «Черном поросенке», завсегдатаями которого были члены Генштаба. Вместе с тем если главную ответственность за неврастению несла на себе цивилизация, то это означало, что врачи мало что могли сделать. Поэтому медики вовсе не стремились объяснять болезнь современными условиями, а скорее наоборот, склонялись к тому, чтобы даже такие феномены, которые были типичны скорее для эпохи модерна, «датировать более отдаленными годами, срывая с них покров модерна» (Эдди Шахт) (см. примеч. 28).
Как говорил в 1908 году Гаупп в докладе «О растущей нервозности нашего времени», «борьба с нервозностью как болезнью эпохи приводит нас к проблемам социальной гигиены: более благоприятным условиям труда, сокращению механической деятельности, реформе жилья, децентрализации крупных городов, открытому пути для любого дарования, закалке тела, реорганизации нашей духовной жизни, преодолению шовинизма (sic!)» (см. примеч. 29). Ни один врач не выразил бы доходчивей, что борьба против нервозности как болезни эпохи заставляет выйти далеко за рамки врачебной компетенции.
В научном смысле тезис о модерности вел медицину в тупик, так как заводил в такие сферы, которые были закрыты для медиков. Медицинская теория не могла использовать даже материальные факторы мира индустриального труда: так, в случае пневмокониоза специалисты по клеточной патологии и бактериологи не сразу признали, что эту болезнь вызывает просто-напросто каменная пыль – ведь такое объяснение было бесполезным для господствующих научных направлений. Еще меньший интерес у медицинской науки вызывало стрессовое воздействие индустриализации.
Когда в 1911 году Макс Вебер, который благодаря Крепелину был в курсе дела, произносил речь на Нюрнбергском генеральном собрании Союза социальной политики, у него были все основания резко заявить, что при всей болтовне об успехах исследований в сфере психологии труда надежных результатов на самом деле «нет никаких» (см. примеч. 30). Дефицит знания о психопатологической стороне мира труда затрудняет эмпирическую проверку модерной подоплеки нервозности. Замечания врачей о воздействии внешних условий на нервы оставались формальными и отрывочными, по крайней мере в отношении тех социальных слоев, о жизни и труде которых врачи, вращавшиеся в ином обществе, не имели непосредственного представления.
Отвечала ли идея модерности интересам пациента? В каком-то отношении, безусловно, как, например, утверждение о причинно-следственной связи между трудовым переутомлением и неврастенией. Слабонервность таким образом становилась явлением весьма почтенным – неудивительно, что в анамнезах очень часто указывается на переутомляемость на работе, пусть даже у читателя этих «курортных неврастеников» нередко возникает подозрение, что эти сетования носят субъективный характер. Однако научная литература заставляет думать, будто в историях пациентов можно найти гору жалоб на суету и сутолоку индустриальной эпохи, ускорившийся темп жизни, порабощение человека техническими устройствами и проч. Это далеко не так: подобные жалобы надо еще поискать, а те, которые удается найти, не всегда убедительны.
Но если вникнуть в состояние пациента, перестаешь удивляться такой погрешности. Многие неврастеники отличались эгоцентризмом; весь стиль самонаблюдений отвлекал их от таких причин расстройства, которые были обусловлены эпохой и обществом. Если история недуга служила пациенту фундаментом собственной идентичности, то он не мог использовать коллективные феномены. Если неврастеник любил рассказывать и представлял причины своего расстройства в форме историй, то структурные предпосылки ему тоже были ни к чему, они не годились для историй. В 30-х годах XX века венгерский невролог Франц Вольгеши отмечал, что «нервный человек постоянно обосновывает свою нервозность тем, что у него под рукой в данный момент». Герхард Хейлиг, исследуя «фабричный труд и нервные расстройства», пришел к убеждению, что «воздействие механического труда на органы чувств как этиологический фактор вообще довольно слабо поддается изучению». Он обнаружил соответствующие данные только в 66 из изученных им 574 случаев, т. е. лишь в 11 % (см. примеч. 31).
Те медики, которые не только писали о нервозности, но были знакомы с ней по собственному опыту, пытались выявить в нем что-то общее и типическое. Вероятно, акт письма приносил им облегчение, помогал преодолеть ощущение неполноценности. Но дилетанты, посещавшие неврологов, такого выхода не нашли или пока еще не нашли – в их анамнезах почти нет ощущения, что они захвачены потоком времени. Однако между строк их историй поток времени ощущается постоянно. Достаточно вспомнить пространный текст жителя Берлина К. Л. с его мешаниной профессиональных и сексуальных проблем, отражающий не защищенную, не отрегулированную внятными нормами жизнь холостяка в современной столице. Многочисленные анамнезы неврастеников ведут в модернизированный, уже совсем не бидермейеровский мир, в котором мало устойчивости и много перемещений и в котором как профессиональные цели, так и сексуальная мораль утратили надежность и стабильность. Но все эти обстоятельства выступают лишь в качестве условных моментов, а не непосредственных причин заболевания.
Примером служит биография одного 25-летнего электротехника, прибывшего в 1901 году в Бельвю. Он относительно хорошо осознает связь своей судьбы с эпохой, в которой живет. Его жизненный кризис разразился в 1898 году, когда он отправился в Буэнос-Айрес обрести самостоятельность и руку любимой женщины. Ни то ни другое ему не удалось, хотя он работал иногда по 16 часов в сутки. Когда он вернулся в Берлин и устроился работать на крупное энергетическое предприятие, ему, сыну директора, пришлось привыкать к фабричной бюрократической дисциплине. Любовное разочарование сопровождается профессиональным:
«Привыкнув к абсолютной самостоятельности в работе, я решительно ничего не смог достичь на третьих ролях, не смог подчиниться общей дисциплине. […] Оказалось, в теперешние времена мне уже не добиться того, к чему я стремился […] Я делался все более нервным, взволнованным, все больше терял трудоспособность, мучил родных и из-за своего поведения и вечного недовольства потерял привязанность единственного существа, которое по-настоящему любил».
Он снова хотел уехать, вернуться в Америку; затем он перевелся в офис той же компании в Мадрид, но и там его не покинуло «это страшное беспокойство» (см. примеч. 32).
Сочетание наследственной предрасположенности и индустриального стресса встречается также в истории болезни часовщика из Шварцвальда, сумевшего обустроиться в Лондоне и открыть там собственное дело. В 1888 году, в возрасте 49 лет, он приехал в Бельвю, где произвел впечатление «добродушного, честолюбивого и набожного человека». Из его биографии в протокол попали следующие данные:
«Пациент имеет отягощенную наследственность, отец был тяжелый пьяница, бабушка душевнобольная, племянник – в сумасшедшем доме. Ребенком был здоров, молодым человеком, получив у себя на родине в Шварцвальде образование часовщика, уехал в Лондон, основал там собственное дело и благодаря необыкновенному прилежанию и экономному образу жизни заработал небольшой капитал. Переутомление на работе он считает причиной тяжелого припадка головокружения, потери сознания, нелепой речи и конвульсий (зима 1878). Все это, а также добавившиеся к ним желудочные колики […], кроме того, онемевший при движении очень болезненный затылок заставили его обратиться к одному шарлатану и уличному электризеру. Поскольку от неправильного лечения состояние его ухудшилось, пациент приехал в Германию и прожил здесь два года без работы. Когда ему стало лучше, он поспешил вернуться к своей деятельности в Лондоне. Здесь он приобрел склонность к одной публичной женщине и мечтал жениться на ней. Эта женщина эмигрировала в Америку, и после этого пациент, по его словам, не может избавиться от своего глубокомыслия (sic!), стойкой головной боли, постоянных мыслей о самоубийстве, нервных болей в спине и руках» (см. примеч. 33).
Человек этот на первый взгляд выглядит классическим представителем буржуазной культуры, но в его биографии есть множество смутных сюжетов, которые в эту буржуазность не вписываются и делают его ближе современному дауншифтеру. Подобная нестабильность, скрытая за солидным буржуазным фасадом, – нередкое явление в биографиях неврастеников. Так, вместо того чтобы обратиться к признанному врачу, он доверяется тогдашним «альтернативным» медикам – с точки зрения Бинсвангера, себе же во вред. Однако около 1880 года было в моде подвергать себя электрическим процедурам. Чтобы вновь обрести душевное и физическое благополучие, он позволяет себе отпуск длиной в два года – удивительный жизненный поворот после стольких лет пчелиного прилежания. Мало того, после этого он безнадежно влюбляется в проститутку, которая тем не менее сбегает от него, несмотря на предложение руки и сердца. В итоге не переутомление, а любовное разочарование послужило спусковым крючком, вызвавшим у этого стареющего человека психическую катастрофу, хотя с самого начала его историю сопровождал мрачный шлейф наследственной отягощенное™. Его история местами напоминает «Учителя Гнуса» Генриха Манна. Однако буржуазное общество допускало куда больше экстравагантности, чем думали иные критики. Активные проявления неврастении входили в число таких допущений.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?