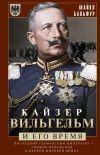Текст книги "Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера"

Автор книги: Йоахим Радкау
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Карьера «нервов» как понятия
Под словом «нервы» даже в Новое время еще долго понимались мускулы и сухожилия. Обозначать тонкие передатчики возбуждения они стали только в VIII веке, и это изменение пришло из Британии. Мгновенную популярность нервы обрели в 1765 году благодаря книге шотландского врача и физиолога Роберта Уитта[22]22
Имеется в виду его труд «Нервные, ипохондрические и истерические заболевания, со вступительными замечаниями о симпатии нервов» (1764). Под «симпатией» нервной системы Уитт имел в виду «сочувствие частей», т. е. взаимодействие нервов через центр (т. е. Уитт предвосхитил теорию рефлексов, а его идеи действительно продолжил И.П. Павлов), но похоже «нервы» и в буквальном смысле вызвали симпатию у современников.
[Закрыть]. Как писал один из учеников Уитта, даже те, кто прежде понятия не имел о своих нервах, жадно ухватились за это слово. Оно сумело вобрать в себя и выразить широко распространенный опыт. Человек сегодня уже немыслим без нервов. Но как именно концепт нервов изменил его самопознание? Еще в XVII веке открытие Гарвеем кровообращения укрепило давнее представление о сердце как источнике жизни. Теперь «нервы» поместили в центр тела свой основной узловой центр – мозг. А также вдохнули жизнь и в периферию. Нервы стали претендовать на роль средоточия жизненной силы: в конце XVIII века распространилось мнение, будто сущностью жизни является возбудимость. Однако уже скоро нервные волокна, эти нежные структуры, оказались особенно шаткими. Кристоф Гуфеланд[23]23
Гуфеланд Кристоф Вильгельм (1762–1836) – известный немецкий врач, яркий представитель витализма, один из основателей макробиотики. Личный врач прусского короля Фридриха Вильгельма III, лечил также Гёте, Шиллера и Гердера. В двухтомном «Искусстве продления жизни» (1798), которое можно по праву назвать бестселлером, Гуфеланд в духе Просвещения изложил принципы гармоничного стиля жизни. Теория «жизненной силы» (витальности) Гуфеланда существенно определила развитие натуропатии.
[Закрыть] в 1812 году писал, что никогда еще нервные болезни не были явлением столь частым как сейчас и едва ли встретишь теперь болезнь без «участия нервов в виде судорог или чего-то подобного». Мишель Фуко рисует карьеру «нервов» как революцию в медицине: «новый мир» нервных заболеваний развернул «собственную динамику». Она повлияла не только на медиков, но и на пациентов, на их манеру описывать свои страдания.
Герд Гёкеньян считает время с XVIII века по сегодняшний день «нервным периодом в истории тела». Правда, под «нервами» XVIII век разумел нечто иное. Так, еще где-то в 1790 году «прототипом нервного заболевания» считалась астма. Под личиной «нервов» отчасти продолжалось прежнее учение о соках; люди представляли себе нервы по аналогии с кровеносными сосудами как трубки, по которым циркулирует «нервный сок». Поскольку черепно-мозговые и спинномозговые нервы окружены подвижной жидкостью, такое представление не было отвлеченным рассуждением. Между сосудистой недостаточностью и нервной слабостью еще и в течение всего XIX столетия видели тесную связь, особенно у женщин; «через боль нерв как бы молит о здоровой крови», если он реагирует со сверхчувствительностью, согласно учению Морица Ромберга[24]24
Ромберг Мориц Генрих (1795–1873) – врач, автор классического «Учебника нервных болезней» (1853). До сих пор в разных своих вариантах и в различных сферах применяется так называемая поза Ромберга (стоя, с вытянутыми вперед руками и закрытыми глазами), позволяющая выявить некоторые поражения нервной системы и нарушение равновесия.
[Закрыть], основателя немецкой неврологии (см. примеч. 17). Для тех, кто видел в нервах основу жизненной силы, спинномозговая жидкость была особым соком, подчинявшимся собственным законам, как сперма. Поскольку для движения жидкости нужно время, становилась понятной замедленность телесных реакций: такое восприятие нервов соответствовало стилю эпохи, еще не завороженной скоростью.
Столь же долго сохранялось представление о близости нервов и мышц; такие понятия как «нервное напряжение», «вялые нервы» и «нервная слабость» существуют и поныне. Nervig означало «мускулистый». Пока люди представляли себе нервы как мускулы, они почти автоматически приписывали слабые нервы женщинам. Однако около 1900 года такой уверенности уже не было. Тот, кто воображал себе нерв как жилу, легко ассоциировал его с тетивой лука или струной скрипки: это подходило к «напряжению» и «возбудимости» нервов и объясняло, почему длительное напряжение приводит к слабости и вялости. Если в конце XIX века кого-то занимали собственные нервы, то всегда существовал некоторый выбор, как именно их трактовать.
Новая эра началась после того, как в революционном 1789 году Луиджи Гальвани открыл явление животного электричества. Нервы наэлектризовались, а «нервное напряжение» объяснялось теперь через электричество. Идеи неврологии попали в загадочный мир электричества. Появилось и объяснение молниеносности некоторых нервных реакций, тем более что электрический характер молнии стал известен совсем недавно. С течением времени эти новшества сделали возможным новое чувство нервов и поворот в дискурсе нервов, причем в центре внимания оказались возбудимость и скорость реакции.
В Англии конца XVIII века «новый язык нервозности», как пишет Рой Портер, был «насквозь пронизан классовой предубежденностью»: «нервы» были признаком утонченного общества, занятого интеллектуальным трудом. Но так было недолго – нижние слои тоже овладели «нервами», и медицине пришлось обратиться к ним. Окружной врач из Золингена в 1823 году пишет, что понятие «слабонервность» «в ходу и у благородных, и у ничтожных, даже у неотесанного крестьянина» (см. примеч. 18). Такой же процесс демократизации пережила и неврастения в конце XIX века.
В энциклопедии Крюница[25]25
Крюниц Иоганн Георг (1728–1796) – врач, естествоиспытатель и лексикограф. Его «Экономическая энциклопедия» выходила с 1773 до 1858 года, являясь сегодня важнейшим источником о системе знаний в период между Просвещением и Индустриализацией.
[Закрыть], которая в 1806 году дошла до буквы «N», nervös все еще означало то же, что nervig: «имеющий многочисленные и сильные нервы». В конце века под «нервозным» подразумевалось уже ровно обратное. В Англии и Франции значение стало меняться уже в конце XVIII века; прошло не так много времени, и те же признаки появились в немецкоязычном пространстве. О нервах говорилось так, будто они уже сами по себе были чем-то болезненным. Окончание – ös придавало прилагательным несколько подозрительный привкус: pompös, ominös[26]26
Напыщенный (помпезный), сомнительный (одиозный) (нем.).
[Закрыть]. Теодор Фонтане изобрел слово schauderös[27]27
Новообразование от нем. Schauder – дрожь, ужас.
[Закрыть]. Гуфеланд с недовольством отмечал, что если «прежде нервным человеком называли уравновешенного, полного сил сына Адама, то теперь вошло в моду обозначать человеком с нервами существо, которое любое впечатление ощущает тысячекратно, от писка комара падает в обморок, а при запахе розы впадает в конвульсии» (см. примеч. 19). Однако старое значение слова nervös еще долго сохранялось наряду с новым. Даже в 1900 году измученный неврастенией Макс Вебер пишет о потребности много путешествовать, чтобы «целиком отдаться на волю ярким впечатлениям» и тем самым «совершенно окрепнуть нервами». Его представления оставались еще явным продуктом конца XVIII века, когда истоки раздражительности усматривали в вялости нервов, а во внешних раздражителях видели средство их укрепления. Жене Вебера, уверенной в собственной подверженности «нервным нагрузкам», самодиагностика мужа не казалась убедительной (см. примеч. 20).
Не только электричество, но и открытие вегетативной нервной системы растревожило в XIX веке мысли о нервах. Автономия нижележащих регионов человеческого тела несла в себе нечто непристойное: не свидетельствовала ли она о бессилии духа? Людвиг Бёрне[28]28
Бёрне Людвиг (1786–1837) – немецкий публицист, один из зачинателей жанра литературной критики и в особенности фельетона – прославил колкий и яркий язык его критики, в том числе в адрес Гёте и Гейне. С дискурсом нервов Бёрне был знаком не понаслышке: в Берлине он пытался изучать медицину у одного из предшественников романтической медицины Иогана Кристиана Рейля – скорее всего, придумавшего термин «психиатрия». Тема нервов часто занимала мысли Бёрне, в своем последнем сочинении «Менцель-французоед» он так объяснит свой стиль: «я пишу не так, как другие [чернилами и словами]: я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов, и у меня не всегда хватает духу собственной рукой причинять себе боль и не всегда хватает сил долго переносить ее» (Берне Л. Менцель-французоед / пер. с нем. М., 1938).
[Закрыть] в 1836 году, незадолго до смерти от чахотки, сетовал – что толку ему от «ученой церебральной системы»: «Система ганглиев, эта каналья тела человеческого, присвоила себе всю возможную власть», так что его «талантливейшей голове» приходится повиноваться нижележащим ганглиям. Позже хирург Карл Людвиг Шлейх назвал симпатический нерв «карликовым королем души», который и после солидного роста головного мозга человека «вовсю орудует своими бесчисленными карликовыми кулачками» (см. примеч. 21).
Вплоть до начала XIX века концепция нервов укрепляла идею единства души и тела человека, даже если это единство было не вполне совершенным, ведь люди догадывались, что в теле не всегда царила чистая гармония. Определенная идентичность цельного человека все же сохранялась. Шотландский медик, сторонник научного прогресса, Роберт Верити в 1837 году заявлял: «Человеческое достоинство и превосходство покоится на совершенной и неослабной целостности его нервной системы – на суверенитете его воли и интеллекта». Такой «андеграундный» автор, как Маркиз де Сад в своей «Жюльетте» показывает человека как одну сплошную нервную систему, полностью охваченную конвульсиями либидо и абсорбирующую саму душу. Его персонажи с такой чрезмерностью воплощают принцип «жизнь – это возбудимость», что даже постоянный переизбыток похотливой боли, кажется, совсем не потрепал им нервов (см. примеч. 22).
В XIX веке в дискурсе нервов набирает силу страх перед разрушением нервной системы. В середине века ученые не устают открывать новые нервные центры, нервная система все больше напоминает лабильное государственное образование, на периферии которого сплошь автономные или полуавтономные регионы постоянно учиняют беспорядки. Или здесь просто недооценивались возможности управления за счет коры головного мозга? Врач из Дармштадта в 1892 году коротко и внятно констатировал, что «здоровые нервы» имеет тот, «кто ими повелевает, а не управляется ими»: будто бы сама анатомия мозга и нервов допускала обе возможности (см. примеч. 23). В зависимости от ответа на вопрос, как лучше функционируют периферийные нервные регионы – без помех или под руководством коры головного мозга, – невротикам рекомендовали кому расслабление, кому активизацию воли.
Теперь разберемся, как эти учения о нервах влияли на смысловое наполнение самого понятия и его производных в повседневной речи. Ведь на рубеже XIX–XX веков «нервы» и «нервозность» были у всех на устах: «даже детям они хорошо знакомы: сколько чести тебе, если можешь говорить о нервах, как мама – по собственному опыту!» Расхожая присказка того времени «что у ребенка невоспитанность, то у взрослых – нервы» свидетельствует о том, что считаться нервным было не лишено шарма в глазах детей. Это позволяло извинить собственные и чужие дурные манеры, абстрагироваться от них и требовательно ожидать к себе сочувствия. Тот, кто объявлял нервозным своего вечно бранящегося отца, играл роль врача и не воспринимал серьезно отцовский авторитет, связывая при этом одно с другим жестом прощения (см. примеч. 24).
В рассказе Вильгельма Буша[29]29
Буш Вильгельм (1832–1908) – знаменитейший немецкий поэт-юморист и рисовальщик. Всемирную известность приобрела его сатирическая книга для детей «Макс и Мориц» (1865), своеобразный комикс времен модерна. Педагоги эпохи Бисмарка считали книгу фривольным произведением, развращающим малолетних. Многие из двустиший Буша закрепились в немецкой культуре крылатыми фразами.
[Закрыть] «Бабочка» (1895) некая «дородная мадам» изливает доктору свои муки: «Я не знаю, я все время так беспокойна. Каждый час ночью я слышу, как дудит сторож, и я так боюсь мышей и дурных людей; всему виной конечно нервозность». «Новомодное слово! – сказал доктор. В иных случаях это называли нечистой совестью. Те же симптомы»». Тогда еще помнили время, когда «нервозность» была чем-то новым. Знаменательно, что это слово звучит не от врача, а от пациентки, а врач не особенно высоко оценивает сей неологизм. Заметно, что «нервозность» как субститут «нечистой совести» – это феномен секуляризации языка. Снижение чувства вины в пользу идеи ипохондрии считается общим явлением модерна. Ницше считал очевидным, что христианское «чувство греха и покаянной подавленности» – есть состояние болезненное и нервозное, а знание о том, что у человека нет души, но есть нервная система, «остается уделом лишь немногих самых осведомленных» (см. примеч. 25). Теория нервов предстает атакой на мораль. Некоторые материалисты того времени приветствовали нервы как концепцию, противящуюся старой вере в существование души. Эрнст Геккель[30]30
Геккель Эрнст (1834–1919) – в качестве естествоиспытателя и последователя Дарвина занимался проблемой эволюции человека и вошел в научную историю среди прочего как автор терминов «филогенез», «онтогенез» и «экология»; в роли философа он продолжил в социал-дарвинистском ключе размышлять над эволюционной теорией – теперь уже в рамках монизма, который сводит все ментальные и духовные явления к материальной реальности как единственно возможной.
[Закрыть] считал сознание «неврологической проблемой».
В романе Алисы Беренд «Шпрееман и Ко» (1916) стареющий предприниматель Шпрееман не понимал, зачем «молодым людям вечно надобно все омедицинивать». «Больше всего он сетовал на придуманную нервозность… То, что раньше называли нетерпением или вспыльчивостью, теперь элегантно именуют нервозностью». Фрейд, напротив, в одной из лекций 1917 года замечает, что обыкновенно и, по его мнению, ошибочно «употребляют слова – “нервный” и “боязливый” одно вместо другого, как будто бы они имеют одно и то же значение»[31]31
В оригинале Фрейд использует как относительно однозначное nervös (нервный, нервозный), так и довольно неоднозначное ängstlich (боязливый, робкий, тревожный). Упоминаемая лекция станет 25-й главой под названием «Тревога» (Angst – страх) его «Лекций по введению в психоанализ».
[Закрыть] (см. примеч. 26). Высокая привлекательность слова nervös кроется не в последнюю очередь в его многозначности, ведь из него можно столько всего сделать. «Я нервничаю». «Ты действуешь мне на нервы». «Не будь таким нервным!» Никакое другое расстройство не способно вызвать такой эффект пинг-понга. Называя кого-то «нервным», можно избежать таких унизительных слов, как «несносный» или «малодушный», оставить открытым вопрос о «трусости» или «вздорности». Но главное – создать ауру чувствительной близости и подспудных намеков. «Нервы» могли указывать как на мозг, так и на гениталии: понятие деликатно оставляло висеть в воздухе обе возможности. В спорах между материалистами и спиритуалистами, соматиками и психиками понятие «нервы» с его психосоматическим семантическим потенциалом могли использовать все стороны. Макс Вебер старался тщательно отделить нервы от психики, когда в 1899 году был вынужден отказаться от чтения курса лекций: «неспособность говорить – явление чисто физическое, нервы отказывают, и при одном взгляде на конспекты лекций я просто лишаюсь чувств»[32]32
Вебер повторно откажется от чтения лекций и в 1903 году, после нескольких месяцев лечения в санатории и долгого пребывания в Италии, и вернется к преподавательской деятельности лишь в 1919 году. Вебер пристально наблюдал за развитием своих психических расстройств и детально зафиксировал весь тяжелый нервозно-депрессивный период 1897–1919 годов. К сожалению «автопатография» не сохранилась – вероятно, она была уничтожена его женой по совету Карла Ясперса из-за опасений, что «дискредитирующие» записи могут попасть в руки нацистов.
[Закрыть](см. примеч. 27). Но в то же время на основе изучения людей «нервозных» развивался психоанализ.
То и дело «нервы» оказывались своего рода шифром. Швейцарский невролог и психолог Поль Дюбуа[33]33
Дюбуа Поль (1848–1918) – швейцарский невролог, один из пионеров психотерапии, независимо от Фрейда и Жане и практически одновременно с ними подчеркнул роль биографии пациента в картине болезни и разработал собственную теорию психогенных заболеваний.
[Закрыть] подчеркивал, что «нервозность во всех своих формах» есть «психоз» и все разговоры о «нервах» – эвфемизм: «Мы легко и без всякого стыда признаем себя нервнобольными, в то время как признание душевнобольным нас коробит». Частные заведения для умалишенных из высших сословий маскировались под «нервные» здравницы. Но поскольку об этом много судачили, какая-то часть табуизированного значения окрашивала и само слово-эвфемизм, так что признание за кем-либо «нервозности» не оказывало ему особой чести. В 1909 году Эрнст Байер, руководитель крупнейшей в Германии народной неврологической клиники[34]34
Имеется в виду открытая в 1906 году клиника Родербиркен в Северной Рейн-Вестфалии. С момента своего основания клиника специализировалась на нервнобольных – изначально женщинах, пока в 1910 году не открыла дополнительное мужское отделение на 150 мест.
[Закрыть], заметил, что для «публики» «нервнобольной» – это то же самое, что «душевнобольной», «в то время как настоящий невротик, неврастеник, активно отвергает мысль о том, что является нервнобольным» (см. примеч. 28). Однако это относилось далеко не ко всем – даже здоровые люди в то время считали себя невротичными. Ведь в «нервозную» эпоху нервная слабость формировала в некотором смысле идентичность между Я и миром.
Была и еще одна причина, делавшая нервы привлекательными: они могли подразумевать сексуальность, не называя ее вслух. Когда Макс Вебер, обозначавший свои нервные расстройства «демонами», называл евангелие от Отто Гросса[35]35
Гросс Отто (1877–1920) – успел побыть учеником Фрейда, ассистентом Крепелина, пациентом Юнга и поклонником Кропоткина и умер в нищете. Будучи анархистом в психиатрии (и отчасти предвосхищая антипсихиатрическую волну и контркультуру второй половины XX века), он считал механизмы вытеснения важной причиной нервных расстройств и сам отказался подавлять собственное либидо, вступая в половые связи даже с пациентками. Макс Вебер, в журнале которого хотел напечататься Гросс, отверг последнего как ученого, назвав центральную идею Гросса о «свободной любви» – по сравнению с собственной теорией «акосмической любви» – сугубо миссионерством и идеологическим проповедничеством, недопустимым в нейтральной социологии.
[Закрыть], проповедовавшего свободную любовь, «этикой для нервов», идеалом которой был «совершенно банальный здоровый нервный хвастун», – он подразумевал «сексуальную этику» и «сексуального хвастуна». Карл Краус[36]36
Краус Карл (1874–1936) – австрийский писатель, едкий сатирик, великий публицист, ревностный ценитель этических идеалов журналистского дела, издатель легендарного журнала «Факел», автор монументальной драмы «Последние дни человечества», мастер афоризмов и, в целом, главный литературный и культурный критик эпохи. Радкау цитирует сатиру Крауса «Максимилиан Гарден: ликвидация», в которой возмущенный Краус разрывает дружбу с публицистом Максимилианом Гарденом, после того как тот публично разоблачил гомосексуальность некоторых советников Вильгельма II (об этом см. «“Мягкая” сторона вильгельминизма и его позор»). Поступок Гардена, имевший печальные последствия, Краус назвал в этой статье «победой информации над культурой».
[Закрыть] в то время уже вполне открыто использовал маскировочную функцию «нервов», говоря о нестандартных «нервных желаниях», имея в виду гомосексуалистов (см. примеч. 29). «Нервный» дискурс не в последнюю очередь был завуалированным обсуждением сексуальности. Были ли «нервы» в таком случае лишь прикрытием? Иногда да, однако кроется здесь и обоснованное подозрение, что человеческая сексуальность – не автономная зона.
В любом случае сексуальность была возмутителем спокойствия в осознании нервов. С одной стороны, нервная система создавала фундамент для нового эгоцентризма – Я как сложнейшая система! С другой стороны, казалось, что это столь усложнившееся эго находится в стадии какого-то небывалого распада.
Толстокожие люди и стеклянная гармоника: нервная слабость в эпоху чувствительности и романтизма
Мог ли массовый феномен нервозности зародиться еще в конце XVIII века, вместе с «нервным» дискурсом? Это подтвердило бы, что в начале было все же слово, нежели опыт. Как бы то ни было, понятие «нервная слабость» встречается уже тогда. Канадский историк Эдвард Шортер пишет, что уже в конце XVIII века европейцы считали, что живут в «нервном» обществе, и ссылается при этом на немецкого педагога Кампе[37]37
Кампе Иоахим Генрих (1746–1818) – писатель и издатель (ему принадлежат многотомная «Детская библиотека» и знаменитая адаптация «Робинзона Крузо»; считается одним из основателей современного жанра детской и юношеской литературы), лингвист (отстаивал «онемечивание» иностранных слов в рамках просветительских идей) и педагог (был, среди прочего, домашним учителем Вильгельма и Александра фон Гумбольдтов).
[Закрыть], который в 1787 году говорил о «наших богатых на фантазию и нервные болезни временах» (см. примеч. 30).
Действительно, праформы того, что позже стали понимать как «нервозность», появляются вместе с началами психологического самоотражения. Так, автобиография бывшего священника Адама Бернда (1738) была написана, как следует из ее названия, чтобы передать словами «по большей части неведомый еще телесно-душевный недуг»[38]38
Отрывки из «Моего жизнеописания» были напечатаны в журнале экспериментальной психологии Карла Филипа Морица «Gnothi sauton».
[Закрыть]. Кое-что из этого «недуга» напоминает привычную меланхолию. Сам Бернд воспринимал себя скорее как человека смешанного темперамента, «сангвинико-меланхолика». Глухое, парализующее уныние никогда не захватывало его надолго: в пору своей приходской деятельности это был успешный проповедник в суетном ярмарочном Лейпциге. В чем-то Бернд напоминает современную жертву стресса: уже ребенком он наблюдал у себя навязчивое желание непременно закончить определенную работу к конкретному сроку. Он даже описывает опыт злоупотребления новым наркотиком – кофе: «Голова моя кругом идет, а мысли с огромной скоростью сменяют галопом одна другую, и боюсь, что вот-вот – и силы покинут меня в столь огромной душевной смуте». По сути, он уже рассуждает на стандартную в грядущих дискуссиях о нервном раздражении тему, а именно – почему «слабые нервы» отличаются особой возбудимостью (см. примеч. 31). Стало быть, в каком-то виде «неврастеничный» самоанализ существовал уже в середине XVIII века. Однако это были единичные случаи, и в языке для нового ощущения еще не было собственного понятия.
Для автора рецензии на автобиографию Бернда в 1787 году понятие имелось: с его точки зрения, автор принадлежал к «ипохондрикам». Позже ипохондрия будет считаться наиболее именитой предшественницей неврастении. А до XVIII века и в его начале под ипохондрией понималось расстройство по сути физическое, и если оно и влияло на состояние души, то истоки его все же надо было искать в области желудка. И только во второй половине XVIII века ипохондрия стала все больше смещаться в сферы души, постепенно обрастая современным значением навязчивых воображаемых болезней. С таким расстройством можно было попасть в очень недурную компанию, здесь были и Фридрих Великий, и Иммануил Кант. Шиллер считал ипохондрию «болезнью мыслителей, глубоко чувствующих умов и большинства великих ученых». Он не знал, «в теле или душе» нужно искать «первоисточник болезни», но склонялся ко второму варианту. Точку зрения, что ипохондрия – лишь веяние моды в угоду репутации, никак нельзя назвать общим мнением. Чем больше обнаруживалось связей с психикой, тем настойчивее она ассоциировалась с душевной болезнью. Автор диссертации 1755 года (г. Халле) считал понятие «ипохондрик» едва ли не оскорбительным (см. примеч. 32). Так как одной из причин недуга считался напряженный умственный труд, ипохондрия напоминала более позднюю неврастению, однако здесь еще не преобладало мучительное чувство измотанности и перегруженности.
Известный педагог Иоганн Бернхард Базедов в 1783 году опубликовал в первом томе «Gnothi sauton», первого в Германии психологического журнала, некоторые «добровольные признания». Так, он сообщает, что при желании чего-то добиться ему приходится «работать не иначе как с невероятным напряжением, отнимающим почти весь сон»: «Из-за этого я, в конце концов, впадаю в такое состояние, что боюсь потерять все душевные силы, даже сам разум, если не заставлю себя прервать работу и отвлечься». С сегодняшней точки зрения это классическое переутомление. Однако исполненные трудовой этики реформаторы той эпохи, считавшие праздность корнем большинства недугов и неприятностей, такой диагноз не одобрили бы, так что этот страстный педагог решил в качестве терапии учредить собственное учебное заведение и открыл образцовую школу – школу филантропии в Дессау. Но когда и этот вид терапии оказался непригодным, он стал объяснять свои душевные срывы не трудовым рвением, а меланхолией своей матери! Объяснять разрушение нервов систематическим перенапряжением еще не было привычной практикой, как в конце XIX века. Что касается Базедовской школы филантропии, то, например, Гердеру она казалась «ужасающей», неким «парником», где в нездоровой мере ускорялось умственное развитие молодежи, – такому как Базедов, он «и теленка не доверил бы на воспитание, не говоря о людях» (см. примеч. 33).
В 1947 году французский историк Анри Бруншвиг первым возвел «нервозность» сентиментальной Германии эпохи раннего романтизма в ранг важного исторического факта и вписал его в широкие контекстные связи. Фонтанируя впечатлениями, он описывает эту нервозность как начало германской беды и как психическую эпидемию, причем в конечном счете нет никакой разницы – была ли она подлинным, воображаемым или искусственно созданным расстройством: иногда это было так, иногда иначе, а иногда все вместе. Как бы то ни было, политический исход был один. Решающим с его точки зрения было то, что нервозность сыграла ведущую роль при уходе немцев в тот иррационализм, которым они отреагировали на политический и экономический кризис. Этот иррационализм как медленная и незаметная болезнь источил и изъел немецкое Просвещение (см. примеч. 34).
Однако многое в этой картине не сходится. Внимание к нервам и их расстройству развивалось ни в коем случае не против просвещения, а в согласии с ним. И было оно вовсе не особым путем Германии, а черпало вдохновение из Англии и Франции. Некоторые пассажи из «Исповеди» Руссо (1781), самом знаменитом французском самоанализе столетия, гораздо ближе к тому, что сегодня понимается под «нервозностью», чем любые немецкие автобиографии того времени. Руссо уже сетует на то, что граждане в вечной спешке своей перетруждаются до смерти (см. примеч. 35), тогда как в Германии той эпохи подобных признаний еще поискать. Кроме того, увлекаясь жалобами на нервы, датированными рубежом XVIII–XIX веков, нельзя забывать об их количественной несопоставимости с целым массивом свидетельств, оставленных на рубеже веков XIX–XX.
Тем не менее целый ряд общих условий, благодаря которым с 1880 года начала складываться карьера неврастении, существовал еще за 100 лет до этой даты. Уже в XVIII веке зарождается культура гигиены. Здоровье стало делом общественным – здоровье в самом широком смысле, включая благополучие души и нервов. В размышлениях о том, что поддерживает целостность человека, внимание направлялось на нервы. Поскольку ни учение о нервах, ни учение о душе еще не подверглись специализации, и психосоматическое мышление было еще само собой разумеющимся, то концепт неврастении не противоречил никакой господствующей доктрине. Напротив, предположение, что внешние раздражители и растревоженные эмоции могут привести в смятение дух и тело, не доставляло той эпохе никаких теоретических сложностей. Лежавшая в основе более поздних страхов перед неврастенией уверенность в ограниченности жизненной силы и необходимости правильно ее расходовать, в 1800 году уже существовала. И уже тогда люди осознавали, что впереди их ждет бурное переломное время, а потому были готовы к новым состояниям души (см. примеч. 51).
Уже Гуфеланд упоминает «ту несчастную деловитость, которая овладела теперь значительной частью рода человеческого» как элемент, сокращающий срок жизни, поскольку она «ужасающим образом» ускоряет «самопотребление» человека. Как следует из крылатого выражения Бенджамина Франклина «время – деньги», уже вторая половина XVIII века характеризовалась стремлением к экономии времени; предпосылка для модерной суеты и спешки в принципе уже была. Стимуляторы той эпохи – кофе и чай, противодействовавшие естественному чувству усталости, также распространялись и бурно обсуждались в XVIII веке. Знаменитый голландский врач Бонтеку[39]39
Бонтеку Корнелиус (настоящее имя Корнелиус Деккер) (1647–1685) – голландский врач и лейб-медик Великого курфюрста (Фридриха Вильгельма I Брандербургского). Основной заслугой Бонтеку называют распространение кофе, шоколада и чая в Берлине при дворе курфюрста.
[Закрыть] рекомендовал своим пациентам выпивать до 200 чашек чаю ежедневно, что в целом шло на «ура», пока его не разоблачили как наемника Ост-Индской компании. В 1788 году один немецкий врач писал, что Голландия обязана «бесчисленной армией нервных симптомов» двум врачам, «которые в пользу голландской Ост-Индской компании считали здоровым разжижение крови и потому ввели в практику частое употребление горячего чая». Правда, стоит добавить, что и в кампаниях против чая и кофе проявлялась не только забота о здоровье, но и интерес к ограничению импорта. Гуфеланд в 1790-м писал, что «турки и другие ближневосточные нации», которые «ставят свою жизнь в зависимость от постоянного употребления кофе и табака, сладострастия и разврата», тем не менее свободны от судорог, ипохондрии и нервной слабости – и почему же? Потому что они поддерживают стародавнюю традицию купальной культуры (см. примеч. 36).
Здесь мы оказываемся в центре другой важной темы – воды! Курсы купания и водолечения стали узловым пунктом в разговорах о нервах и причиной, почему «нервозность» часто сигнализировала не только о недугах, но и о желаниях.
Уже около 1800 года, как и через 100 лет после этого, для обеспеченных пациентов нервная слабость была весьма удобным расстройством, ведь она служила веской причиной для поездки на воды. С 1770 года на водах юго-западной Германии нервные расстройства «внезапно стали темой номер один». Венский доктор Паскаль Ферро открыл в 1781 году водолечебницу на Дунае, будучи под впечатлением от того притока посетителей, который пережила первая крупная немецкая водолечебница, основанная в 1777-м на Рейне под Мангеймом. Он говорит не только о «толпе народа», но и «ликовании врачей, заполучивших-таки средство, коим можно было положить конец распространившейся повсюду слабонервное™, мучительной для врача не менее, чем для пациента». Очевидно, «нервная слабость» и тогда не была изобретением врачей – это был недуг, который обнаруживали у себя дилетанты и, вооружившись этой находкой, действовали на нервы врачам. Артур Шопенгауэр, 36 лет, мать которого любила ездить на воды, писал одному другу, что всю зиму промучился геморроем, подагрой и нервами. Теперь он «восстановился, но нервы все еще столь слабы», что «от дрожи в руках» он почти не может писать, – только «брожу как тень, засыпаю при свете дня» (см. примеч. 37).
Следует ли из этого, что «модерная нервозность» началась еще во времена Гёте? Нет, как раз такое умозаключение было бы ложным. Если посмотреть на эпоху в целом, с удивлением обнаружишь, насколько нервозный опыт 1800 года отличался от более позднего – несмотря на то что многие предпосылки неврастении были уже тогда. Здесь главное – не попасться на удочку таких понятий, как «слабонервность» и «нервозность», – если собрать все, что ассоциировалось с ними на рубеже XVIII–XIX веков, то попадаешь в мир, совершенно отличный от мира неврастении начала XX века. В контексте 1800 года при всей неразберихе медицинских воззрений на природу нервных расстройств сложилось мнение (по крайней мере в немецкоязычном пространстве), что среди форм их проявления преобладает не перевозбуждение, но «тупость». «Притупленность и безжизненность» нервов приводят к более тяжелым последствиям, чем вызванные духом активности «нервные жалобы», писал в 1793 году Кант Лихтенбергу[40]40
Лихтенберг Георг Кристоф (1742–1799) – сегодня известен прежде всего как автор блестящих афоризмов, опубликованных, правда, посмертно, – при жизни же был математиком и первым профессором экспериментальной физики в эпоху Просвещения. Лихтенберг сводил саму суть человека к его нервам: «Человек в своей сути напоминает луковицу с тысячами корней, нервы живут и чувствуют лишь в немодном, все остальное служит тому, чтобы корням было удобно держаться и продолжать свой рост, т. е. все что мы видим – это лишь горшок, в который высажен человек (нервы)» (Lichtenberg G.C. Vermischte Schriften. Erster Band. Göttingen, 1800. S. 406).
[Закрыть] – все равно что в открытую дверь ломился. Для Гуфеланда «тупость», «пустота и бесчувствие» относились к самым неприятным признакам той «ипохондрии и слабонервности», «от которых постепенно увядает наша эпоха» и которую он хотел преодолеть с помощью вод и купален. Эту ипохондрию он изо дня в день замечает даже за простыми людьми, будь то крестьяне или кузнецы, «которые жалуются на слабость, тяжесть и скованность членов, стеснение сердца и метеоризм» (см. примеч. 38).
Автор «Систематического описания всех целебных источников и вод Германии» (1768) заверяет: «Врачи, к сожалению, каждый день узнают, как тяжело и мучительно трудно возвращать вялым, ослабленным и размягченным волокнам нервов и мускулов естественный тонус и надлежащую крепость». Вдобавок это требует срочности, поскольку снижение тонуса, напряженности нервов и жил влечет за собой «бездны болезней». «Единственные средства» против этого – «стальные воды», «марциальные воды», чьи железо и «укрепляющая сила» вернут телу здоровье. «Стальным источником» славился Пирмонт, несмотря на свою удаленность ставший в XVIII веке наиболее изысканным из немецких водных курортов. В 1823 году Гуфеланд отмечал, что «правящий класс» в Пирмонте составляют «слабонервные»; он отличает их от ипохондриков, преобладавших в Карлсбаде. Исходя из этого, рассмотрим слабонервных пациентов старого типа на примере Пирмонта (см. примеч. 39).
Известнейшим специалистом по водам в Пирмонте был доктор Генрих Матиас Маркард, практиковавший там с 1775 года. Многие считают его и вовсе крупнейшим специалистом своего века. Он придавал особое значение тому, чтобы удержать подальше от Пирмонтовского «стального источника» больных, плохо переносивших железистую воду, и призывал врачей для начала разобраться в том, чем на самом деле страдают их пациенты: вялостью нервов или же, напротив, излишней их возбудимостью. Его позиция проливает свет на тогдашние национальные особенности учений о нервах – так, он признает себя сторонником французской медицины и критикует немецких и английских неврологов, у которых «почти все» вращается «вокруг ошибочных идей о дряблости нервов и восстановления их тонуса с помощью восстанавливающих средств». Но подобная полемика – это скорее игра на публику, с помощью которой Маркард демонстрирует свою независимость от доходов Пирмонтского источника. Маркард тоже придерживается мнения, что «в наши дни» наиболее широко распространенным «болезненным отклонением от естественного состояния», «особенно в высших классах» является «вялая конституция, утраченный тонус (fibra laxa)».
Он сам, перегруженный работой врач и ученый, олицетворяет современный тип беспокойного, возбудимого, раздираемого различными обязательствами, раздраженного и воинственного невротика. Явно по собственному опыту он злится на то, что «здоровые толстокожие люди, способные переварить все что угодно, объясняют любые расстройства, связанные с повышенной возбудимостью, воображением или вообще аффектацией». «Тупая природа этих толстокожих не позволяет им понять, что человеку необязательно лежать в постели, дрожать в лихорадке или задыхаться от чахотки, чтобы испытывать ужасные страдания». Маркардовские «раздражительные люди» выделяются среди других мучительной неугомонностью: «они никогда не выдерживают плана; сила их воображения, всегда волнующая и мучительная, каждый день представляет им их недуг в новом обличье» (см. примеч. 40). Заметно, что и в XVIII веке наблюдается нечто сходное с пришедшей позже «нервозностью». Однако в Германии это явление еще не было массовым феноменом и не нуждалось в специальном термине.
С 1780-х годов у Пирмонта появляется сосед и конкурент в лице амбициозного водного курорта Дрибург, который тоже имел железистый источник, но в отличие от великосветского Пирмонта предлагал себя в качестве сельской идиллии для работающей буржуазии. Здесь более, чем в Пирмонте, господствовал идеал покоя. Как писал в 1792 году тамошний врач Иоахим Дитрих Брандис, в Дрибург приезжали, чтобы «насладиться сельской жизнью, сбросив с себя ярмо тяжкого труда, вздохнуть полной грудью» и «поправить здоровье». Но и Брандис на своем буржуазном курорте не создает последовательную терапевтическую философию покоя и умиротворения перевозбужденных нервов. В принципе, и он полагает, что «общая дрожь», возникающая при помощи холодной воды, целительна для «нервной системы», ведь целью лечения является «потрясение нервной системы».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?