Текст книги "Социология"
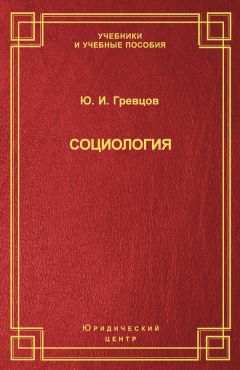
Автор книги: Юрий Гревцов
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Гревцов Ю. И. Социология права. СПб., 2001.
Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994. Социология / Под. общ. ред. Э. В. Тадевосяна. М., 1995.
Элон М. Еврейское право. СПб., 2002. Юридическая социология / Отв. ред. В. А. Глазырин. М., 2000.
Извлечения: Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения[104]104
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, назначение. С. 286–304.
[Закрыть]
…Когда мы говорим, что тела обладают весом, что объем газа изменяется обратно пропорционально испытываемому им давлению, мы формулируем суждения, которые лишь выражают данные факты. В них выражено то, что есть, и по этой причине их называют «экзистенциональными» или «реальными» суждениями.
Цель других суждений – высказать не то, чем вещи являются сами по себе, но то, какую ценность они представляют по отношению к сознательному субъекту. Их называют ценностными суждениями.
Когда я говорю: я люблю охоту, я предпочитаю пиво вину, активную жизнь – отдыху и т. д., я высказываю суждения, которые могут показаться оценками, но в действительности являются простыми «реальными» суждениями. Они говорят исключительно о том, каким образом мы ведем себя в отношении определенных субъектов: что мы любим такие-то и предпочитаем другие. Эти предпочтения являются фактами точно так же, как вес тел и эластичность газов. Функция подобных суждений, таким образом, состоит не в том, чтобы приписывать вещам присущую им ценность, а только в обозначении определенных состояний субъектов…
Совершенно иначе обстоит дело, когда я говорю: этот человек имеет высокую нравственную ценность; эта картина имеет высокую эстетическую ценность; эта драгоценность стоит столько-то. Во всех подобных случаях я приписываю людям или вещам, о которых идет речь, объективно существующее свойство, совершенно независимое от того, как я воспринимаю его в то время как высказываюсь. Лично я могу не назначать никакой цены за драгоценности, тем не менее их ценность останется в рассматриваемый момент той же самой. Как человек я могу отличаться весьма сомнительными нравственными качествами, но это не может помешать мне признавать нравственную ценность там, где она есть… Таким образом, все эти ценности существуют, в некотором смысле, вне меня. Поэтому, когда мы расходимся с другим относительно способа их восприятия и оценки, мы стараемся передать ему наши убеждения. Мы не довольствуемся их высказыванием, а стремимся доказать их, опираясь в наших рассуждениях на доводы безличного характера. Следовательно, мы допускаем, что эти суждения соответствуют какой-то объективной реальности, на которой может и должно основываться согласие. Именно такую реальность sui generis образуют ценности, а ценностные суждения суть те, которые относятся к этой реальности…
Как же эти два свойства, представляющиеся на первый взгляд противоречивыми, могут совмещаться? Как состояние чувства может не зависеть от испытывающего это чувство субъекта? Было предложено два противоречивых решения этой проблемы.
IМногим мыслителям, представляющим, впрочем, весьма разные направления, различие между этими двумя видами суждений кажется чисто внешним. Говорят, что ценность зависит главным образом от какой-нибудь внутренней особенности вещи, которой она приписывается, а ценностное суждение – лишь выражение того, как эта особенность воздействует на формулирующего суждение субъекта. Если это воздействие благоприятно, ценность является положительной; в противном случае она отрицательна… В общем ценность вещи выступает как простая констатация впечатлений, производимых вещью в силу ее внутренних свойств.
Но кто же тот субъект, по отношению к которому ценность вещей подвергается и должна подвергаться оценке?
Может быть, это индивид? Как объяснить тогда, что может существовать система объективных ценностей, признанных всеми людьми или, по крайней мере, всеми людьми одной и той же цивилизации? С отмеченной точки зрения ценность создается воздействием вещи на чувства; известно, однако, насколько велико индивидуальное разнообразие в чувствах, то, что нравится одним, вызывает отвращение у других…
Этих трудностей пытались избежать, заменив индивида обществом. Так же как и в предыдущем утверждении, доказывают, что ценность связана главным образом с каким-то составным элементом вещи. Но ценность создается тем, что вещь влияет на коллективного, а не на индивидуального субъекта. Оценка объективна уже благодаря тому, что она коллективна.
Это объяснение имеет перед предыдущим бесспорные преимущества. Действительно, социальное суждение объективно по отношению к индивидуальным суждениям; шкала ценностей оказывается таким образом свободной от субъективных и изменчивых оценок индивидов. Последние находят вне себя уже устоявшуюся классификацию, к которой они вынуждены приспосабливаться, которая не является их собственным творением и выражает нечто иное, нежели их личные чувства. Ведь общественное мнение изначально располагает нравственным авторитетом, благодаря которому оно навязывается отдельным лицам. Оно противостоит попыткам выступать против него; оно реагирует на инакомыслящих точно так же, как внешний мир чувствительно воздействует на тех, кто пытается восстать против него. Оно порицает тех, кто судит о нравственных вещах согласно принципам, отличным от предписываемых им; оно высмеивает тех, кто вдохновляется эстетикой, отличной от его собственной. Кто пытается приобрести вещь за цену, более низкую, чем ее ценность, тот сталкивается с сопротивлением, подобным тому, которое оказывают нам физические тела, когда мы не знакомы с их природой. Таким образом можно объяснить нечто вроде принуждения, которое мы испытываем и осознаем, когда высказываем ценностные суждения. Мы явственно ощущаем, что не являемся хозяевами наших оценок, что мы связаны и принуждаемы. Нас связывает общественное сознание…
Но понимаемая таким образом социологическая теория ценностей порождает в свою очередь серьезные трудности, которые, впрочем, характерны не только для нее; они могут быть связаны и с психологической теорией, о которой шла речь выше.
Существуют различные типы ценностей. Одно дело – экономическая ценность, другое – ценности нравственные, религиозные, эстетические, метафизические. Столь часто предпринимавшиеся попытки свести друг к другу идеи добра, прекрасного, истинного и полезного всегда оставались напрасными. Ведь если ценность создается исключительно тем, как вещи затрагивают функционирование социальной жизни, то разнообразие ценностей становится труднообъяснимым. Если повсюду действует одна и та же причина, то откуда берутся совершенно различные следствия?
С другой стороны, если бы ценность вещей действительно измерялась степенью их социальной (или индивидуальной) полезности, то система человеческих ценностей должна бы быть подвергнута пересмотру и полному разрушению, так как с этой точки зрения место, отводимое в данной системе ценностей роскоши, было бы непонятно и неоправданно. По определению, избыточное не полезно или менее полезно, чем необходимое. То, что излишне, может отсутствовать, не затрагивая серьезно жизненных функций. Словом, ценности роскоши являются дорогостоящими по природе; они стоят больше, чем приносят пользы. Поэтому и встречаются доктринеры, которые смотрят на них с подозрением и стремятся свести их к точно отмеренному минимуму. Но в действительности в глазах людей они имеют самую высокую ценность. Все искусство целиком есть предмет роскоши; эстетическая деятельность не подчиняется никакой утилитарной цели: она осуществляется просто из наслаждения, доставляемое ее осуществлением. Точно так же чистая метафизика – это мышление, освобожденное от всякой утилитарной цели, осуществляемое исключительно для того, чтобы осуществляться. Кто, однако, может оспорить, что во все времена человечество ставило художественные и метафизические ценности гораздо выше ценностей экономических? Точно так же, как и интеллектуальная жизнь, нравственная жизнь обладает своей собственной эстетикой. Самые высокие добродетели состоят не в регулярном и строгом выполнении действий, непосредственно необходимых для хорошего социального порядка, они созданы из действий свободных и самопроизвольных, из жертв, к которым ничто не принуждает и которые иногда даже противоположны предписаниям мудрой упорядоченности. Существуют добродетели, являющиеся безумствами, и именно их безумие придает им величие. Спенсер сумел доказать, что филантропия часто противоречит совершенно очевидному интересу общества, но его доказательство не помешает людям очень высоко оценивать осуждаемую им добродетель.
Пойдем, однако, далее, вплоть до основополагающего принципа, на котором базируются все эти теории. Все они исходят из предположения, что ценность содержится в вещах и выражает их сущность. Но этот постулат противоречит фактам. Имеется множество случаев, когда, так сказать, не существует никакой связи между свойствами объекта и приписываемой ему ценностью.
Идол – вещь весьма святая, а святость есть самая возвышенная ценность, какую только признавали когда-либо люди. Но очень часто идол – это лишь груда камней, кусок дерева, сами по себе, лишенные какой бы то ни было ценности. Нет такого существа, даже самого незначительного, нет такого объекта, даже самого заурядного, которые бы в определенный момент истории не внушали чувств, основанных на религиозном почтении. Обожествляли даже самых бесполезных или самых безвредных животных, почти лишенных каких-либо добродетелей… Поэтому несравненная ценность, которая им приписывалась, не была связана с их внутренними особенностями.
Если, однако, ценность не содержится в вещах, если она не связана главным образом с какой-либо особенностью эмпирической реальности, то следует ли отсюда, что ее источник находится вне данного нам в восприятии и вне опыта? Таково в действительности утверждение, более или менее явно отстаиваемое целой династией мыслителей… Человеку приписывают способность sui generis выходить за рамки опыта, представлять себе нечто иное, чем то, что существует, словом, выдвигать идеалы… Имеется, стало быть, один способ мыслить реальное и другой, весьма отличный от него, – мыслить идеальное. И именно по отношению к идеалам, понимаемым таким образом, оценивается ценность вещей…
Однако ценность, приписываемая таким образом идеалу, сама по себе не объясняется. Ее постулируют, но не объясняют и не могут объяснить. Да и как в самом деле это было бы возможно? Если идеальное не зависит от реального, оно не может содержать в реальном причины и условия, делающие его доступным пониманию. Но вне реального где можно найти материал, необходимый для какого бы то ни было объяснения… Не вызывает сомнений тот факт, что люди любят красоту, добро, истину, которые никогда адекватным образом не осуществляются в реальных фактах. Но само это лишь факт, безосновательно возводимый в нечто абсолютное, ступать за пределы которого себе запрещают. Надо еще показать, откуда берется то, что у нас есть одновременно потребность и средство возвышаться над реальным, добавлять к чувственному миру иной мир, в котором лучшие из нас видят свою настоящую родину…
IllКороче говоря, хотя и верно, что ценность вещей может оцениваться и всегда оценивалась только по отношению к некоторым идеальным понятиям, последние нуждаются в объяснении. Чтобы понять, как возможны ценностные суждения, недостаточно постулировать определенные идеалы, надо объяснить их, надо показать, откуда они проистекают, как они соединяются с опытом и в чем состоит их объективность.
Поскольку они, так же как и система соответствующих ценностей, варьируют вместе с человеческими группами, то не следует ли отсюда, что и те, и другие должны иметь коллективное происхождение? Правда, мы представили ранее социологическую теорию ценностей, показав ее недостаточность. Но дело в том, что она основана на концепции социальной жизни, игнорирующей ее истинную природу. Общество представлено в ней как система органов и функций, стремящихся к самосохранению в борьбе против деструктивных сил, осаждающих ее извне, подобно живому телу, вся жизнь которого состоит в соответствующих реакциях на раздражения, идущие от внешней среды. Но кроме этого, оно в действительности есть средоточие нравственной внутренней жизни, своеобразие и мощь которой не всегда признавались.
Когда индивидуальные сознания не остаются отделенными друг от друга, а вступают в тесные взаимоотношения, активно воздействуют друг на друга, из их синтеза рождается психическая жизнь нового рода. Она отличается от той жизни, которую ведет одинокий индивид, прежде всего своей особой интенсивностью. Чувства, рождающиеся и развивающиеся в группах, обладают энергией, которой не достигают чисто индивидуальные чувства. У человека, испытывающего их, возникает впечатление, что он находится во власти сил, которые ему не принадлежат, управляют им, и вся среда, в которую он погружен, представляется ему населенной силами подобного рода. Он чувствует себя как бы перенесенным в мир, отличный от того, в котором протекает его частная жизнь. Существование в нем не только более интенсивно, оно отличается качественно. Увлекаемый группой, индивид забывает о себе, о своих собственных интересах, целиком отдаваясь общим целям. Полюс его поведения смещается и переносится вовне его самого.
Именно в моменты эмоционального возбуждения такого рода во все времена создавались великие идеалы, на которых базируется цивилизация. Творческие или новаторские периоды – это именно те, в которые под влиянием разнообразных обстоятельств люди приходят к более тесному сближению, когда собрания становятся более частыми, отношения – более длительными, обмен идеями – более активным. К таким периодам относятся: великий христианский кризис; движение коллективного энтузиазма, толкавшее в XII–XIII вв. в Париж любознательных европейцев и породившее схоластику; Реформация и Возрождение; революционная эпоха; великие социалистические потрясения XIX в. Действительно, в такие моменты эта более высокая жизнь проживается с такой интенсивностью и настолько необычно, что она занимает почти все место в сознаниях, более или менее основательно вытесняя из них эгоистические и повседневные заботы. Идеальное тогда стремится слиться в одно целое с реальным; вот почему у людей возникает впечатление, что совсем близки времена, когда идеальное станет самой реальностью и Царство Божье осуществится на земле. Но иллюзия никогда не бывает продолжительной, потому что сама эта экзальтация не может длиться долго: она слишком утомительна. Как только критический момент проходит, течение социальной жизни ослабевает, интеллектуальные и эмоциональные контакты становятся менее активными, индивиды вновь возвращаются к уровню своей обыденной жизни. Тогда все, что было сказано, сделано, продумано, прочувствовано в период плодотворной бури, сохраняется уже лишь в форме воспоминания, хотя и обладающего тем же несомненным очарованием, что и напоминаемая реальность, но уже не смешанного с ней. Это уже только идея, совокупность идей. На сей раз противоположность оказывается явной. Существует, с одной стороны, то, что мыслится в форме идеалов. Конечно, эти идеалы быстро бы угасли, если бы они периодически не оживлялись. Вот для чего служат праздники, публичные церемонии, как религиозные, так и светские… Это как бы частичное и слабое возрождение эмоционального возбуждения творческих эпох…
Если человек восприимчив к идеалам, если он не может обойтись без того, чтобы представлять их себе и следовать им, то это потому, что он – существо социальное. Именно общество толкает или обязывает его к тому, чтобы возвыситься таким образом над самим собой; оно же обеспечивает ему средства для этого. Уже тем самым, что оно осознает себя, оно отбирает индивида у него самого и увлекает в высшую сферу. Оно не может формироваться, не создавая идеала. Идеалы же – это просто идеи, в которых изображается и обобщается социальная жизнь в том виде, как она существует в кульминационных пунктах своего развития. Общество принижают, когда видят в нем лишь тело, созданное для осуществления определенных жизненных функций. В этом теле существует душа: это совокупность коллективных идеалов. Но идеалы эти – не абстракции, не холодные умственные представления, лишенные всякой действительности. Это главным образом двигатели, так как за ними существуют реальные и действующие силы. Это силы коллективные, естественные, следовательно, они, хотя и являются целиком нравственными, близки тем, которые действуют в остальной части вселенной… Вот как получается, что идеальное может соединяться с реальным: оно исходит из последнего, в то же время выходя за его пределы. Элементы, из которых оно создано, заимствованы у реальности, но скомбинированы по-новому. Новизна комбинации создает новизну результата. Будучи предоставленным самому себе, индивид никогда не мог бы извлечь из себя материалы, необходимые для подобной конструкции…
Таким образом, коллективное мышление преобразует все, чего оно касается. Оно перемешивает сферы реальности, соединяет противоположности, переворачивает то, что можно считать естественной иерархией существ, нивелирует различия, дифференцирует подобия. Словом, оно заменяет мир, познаваемый нами с помощью органов чувств, совершенно иным миром, который есть не что иное, как тень, отбрасываемая создаваемыми коллективным мышлением идеалами.
Извлечения: М. С. Каган. Лабиринты современной культуры[105]105
Хрестоматия по культурологии. Самосознание мировой культуры / Под ред. И. Ф. Кефели, В. Т. Пуляева и др. СПб., 2000. Т. 2. С. 475–480.
[Закрыть]
…Современность во всех ее проявлениях всегда представляет наибольшие трудности для научного изучения, так что нередко возможности такого изучения вообще отвергаются. Но особенно сложным следует признать изучение современного состояния общества, человека, культуры в конце XX века, потому что оно оказывается многоликим, калейдоскопичным, противоречивым до такой степени, что вызывает у пытающихся разобраться в происходящем прямо противоположные суждения; это сказалось с предельной отчетливостью в литературе о Постмодернизме.
Системное рассмотрение современной культуры выявляет, в соответствии с критерием необходимости и достаточности, следующие ее признаки:
а) система внешних отношений культуры имеет синхроническое и диахроническое измерения: это отношения современной культуры к основным компонентам ее среды – к природе, к обществу, к человеку, и ее отношение к культурному прошлому человечества, высший уровень которого именуется классикой;
б) система отношений, складывающихся внутри современной культуры, имеет те же два измерения: ее синхронический «разрез» предполагает рассмотрение на одном уровне отношений «Запад-Восток», а на другом – взаимоотношений элитарной культуры и массовой; диахронический анализ предполагает исследование отношения Постмодернизма к Модернизму, из которого он непосредственно вырастает, и прогноз дальнейшего движения культуры от явно переходного постмодернистского ее состояния.
Общая картина Постмодернизма уже за несколько десятилетий его краткой истории казалась несравненно более сложной, чем предшествовавшие ей состояния культуры – своего рода лабиринтом, в котором легко заблудиться (что и происходит со многими его исследователями и на Западе, и в России). Эта высокая степень сложности объясняется тем, что во второй половине XX в. с полной определенностью выявилась исчерпанность тех сил, которые породили западную индустриальную цивилизацию и обслуживавший ее общественный строй: отсюда – понятия «конец истории», наступление «посткапитализма», «постиндустриального общества», «новой «информационной цивилизации»… Это означает, что сейчас общество начинает осознавать свое радикальное отличие от того, каким оно было совсем недавно, до Второй мировой войны, до Хиросимы, до Чернобыля, до компьютерной революции, до краха фашизма и сталинизма, до объединенной Европы и объединяющегося в рамках ООН и ЮНЕСКО человечества, и свою прямую преемственную связь с этим недавним прошлым, которое часто вообще еще не воспринимается как безвозвратно ушедший этап исторического развития; отсюда – длительная и бесплодная дискуссия о том, является ли Постмодернизм продолжением Модернизма или же его отрицанием? Тем менее продуктивным оказывается обсуждение вопроса о перспективах дальнейшего развития культуры, а нередко отрицается вообще возможность его постановки, поскольку будущее признается недоступным научному анализу. Между тем очевидно, что подобно всякому переходному состоянию и нынешнее состояние культуры содержит не только пережитки прошлого, но и ростки будущего, которые нужно уметь распознать в настоящем (разумеется, если только самоубийство человечества не лишит его вообще какого-либо будущего).
Постмодернизм – используя это условное понятие за неимением лучшего для обозначения очерченного выше переходного состояния, характеризующего в наши дни культуру всего человечества, инвариантно к его вариациям в разных регионах и странах, – противопоставляет себя Модернизму во всех выделенных выше отношениях. Действительно:
– типичной для Модернизма конфронтации культуры и природы теперь противопоставляется требование если не «благоговейного» – по Тейяру де Шардену – отношения к природе, то уважительно-бережного с ней обращения, согласно идеологии «зеленых»; такая переориентация происходит и с взглядом на отношения культуры и натуры в самом человеке – типичное для Модернизма фрейдистское толкование репрессивности культуры по отношению к природным качествам человека начинает опровергаться более сложной интерпретацией этих отношений, включающих и конфликты, и союзы;
– конфликту культуры и общества, столь же характерному для социального эскейпизма и анархического бунта модернистов, теперь противопоставляется все более решительная и уверенная постановка социальных проблем в искусстве, средствах массовой коммуникации, философии;
– модернистской «дегуманизации» культуры (т. е. ее «обесчеловечиванию»), как определил это X. Ортега-И-Гассет, сейчас противопоставляется стремление к ее регуманизации (возвращению к человечности), особенно ярко выраженное в возврате искусства от языка чистых абстракций и сюрреалистических фантасмагорий к изображению человека и переживаемой им жизненной реальности;
– модернистскому разрыву с традициями классического мышления противопоставляются разнообразные скрещения новаторского и традиционного – и в искусствах, и в методологии научного мышления, и в возвращении философии к классическим основам мировоззренческого системосозидания;
– самоизоляция Запада от Востока и Востока от Запада, по знаменитой формуле Р. Киплинга, противостояние белого расизма и идеологии «негритюда», а в науке о культуре – теория «локальных цивилизаций», начинают вытесняться активными встречными поисками диалога в отношениях между разными региональными типами культуры и теоретическим осмыслением этих отношений как диалогических, по формуле «Я/Ты», а не «Я/Он (Оно)»;
– резкое расхождение элитарной и массовой культур начинает преодолеваться самыми разнообразными способами «возвышения» массовой культуры и популяризации достижений элитарной; тот же процесс затрагивает отношения поколений (в поисках путей разрешения проблемы «отцов и детей») и отношения полов;
– этот же по сути процесс развивается и в структуре мышления современного человека, утрачивающего односторонность, монологический ригоризм и догматизм, фанатическую самоуверенность в только «мне» принадлежащей истине и все более широко и последовательно признающего оптимальной формой всех человеческих взаимоотношений диалог; это приводит философскую мысль к фактическому отождествлению культуры и диалога и к противопоставлению культуры силе и насилию как докультурным (биологическим) и внекультурным способам разрешения политических, экономических, конфессиональных противоречий;
– разрыв знаний и ценностей, науки и нравственности, пользы и красоты, доведенный Модернизмом до крайней формы, начинает осознаваться ныне как грозная опасность культуре, человечеству, самому существованию жизни на нашей планете, что стимулирует и теоретические, и практические поиски путей преодоления этих разрывов все теми же диалогическими средствами – ничего другого человечество не придумало за всю свою историю…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































