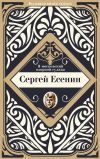Текст книги "Дети Есенина. А разве они были?"
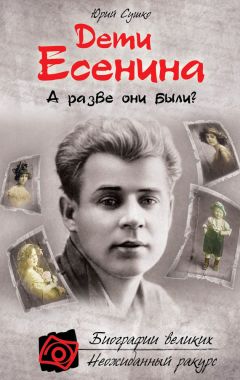
Автор книги: Юрий Сушко
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
* * *
Тем временем в Москве после долгих путешествий по Европе и Америке вновь возник Сергей Есенин. Он изменился: исчезло юношеское обаяние. Сломленный, больной человек стремительно катился вниз, менял женщин, пил, погибал – и сам стремился навстречу гибели. За ним тянулись слухи о диких скандалах, поговаривали об эпилептических припадках. Неожиданные успехи бывшей жены на сцене удивляют его; нежность и признательность, которые Зинаида публично демонстрирует в отношении к Мейерхольду, задевают и больно ранят. Сергей Александрович, пропадая, цеплялся за прошлое. Теперь ему уже не казалось, что Есенины черными не бывают.
«Самое первое, что сохранила память, – рассказывал Костя, – солнечный день, мы с сестрой Таней самозабвенно бегаем по зеленому двору нашего дома… Вдруг во дворе появились нарядные, «по-заграничному» одетые мужчина и женщина. Мужчина – светловолосый, в сером костюме. Это был Есенин. С кем? Не знаю. Нас с сестрой повели наверх в квартиру. Еще бы: первое, после длительного перерыва свидание с отцом! Но для нас это был, однако, незнакомый «дяденька». И только подталкивания разных соседок, нянь, наших и чужих, как-то зафиксировали внимание – «папа».
«Меня, – говорила Татьяна, – сначала поднесли к окну и показали на человека в сером, идущего по двору. Потом молниеносно переодели в нарядное платье. Мамы дома не было – она не стала бы меня переодевать…»
Войдя в дом, Есенин прежде всего осмотрел детскую. Комната ему понравилась – просторная, почти без мебели, для любых забав места предостаточно. «Потом начал расспрашивать, – помнил Костя, – о том, в какие игры играем, что за книжки читаем. Увидев на столе какие-то детские тоненькие книжки, почти всерьез рассердился:
– А мои стихи читаете? Вы должны читать и знать мои стихи…»
Обращался он по большей части к Тане, без обид замечал рассудительный Костя. Став взрослее, он расшифровывал те свои первые впечатления: «Как все молодые отцы, он особенно нежно относился к дочери. Таня была его любимицей. Он уединялся с ней на лестничной площадке и, сидя на подоконнике, разговаривал с ней, слушал, как она читает стихи. Я пользовался значительно меньшим вниманием отца. В детстве я был очень похож на мать – чертами лица, цветом волос. Татьяна – блондинка, и Есенин видел в ней больше своего, чем во мне».
Когда Сергей Александрович удалился, дежурившие у подъезда кумушки-соседки сразу кинулись выяснять, с какими же гостинцами он к детям пожаловал. Узнав, что никаких подарков не было, принялись возмущаться и ругать непутевого папашу последними словами. Зинаиде Николаевне даже пришлось выйти на лестничную площадку и суховато разъяснить: «Есенин подарков детям не делает. Говорит, что хочет, чтобы любили его и без подарков». «А вот мама, – рассказывал Костик, – как раз не придерживалась этого правила и часто баловала нас».
Память мальчика накрепко сохранила семейную сцену, невольным свидетелем которой он стал. Между отцом и матерью шел разговор на повышенных тонах: «Содержания его я, конечно, не помню, но обстановка была очень характерная: Есенин стоял у стены, в пальто, с шапкой в руках. Говорить ему приходилось мало. Мать в чем-то его обвиняла, он защищался. Мейерхольда не было. Думаю, что по инициативе матери…»
Потом Есенин стал появляться в доме на Новинском все чаще, и трезвым, и не совсем. Тарабанил в двери, требовал показать ему детей и не уходил, пока их к нему не выводили на лестничную площадку.
Перебрали как-то по случайному поводу в «Стойле Пегаса», вспоминал театральный художник Василий Командерков, и уже ночью Сергей Александрович вдруг заявил, что ему срочно необходимо повидать своих детей, прежде всего Костю. Уговоры и доводы, что уже ночь на дворе, были впустую. Шумной компанией добрались до знакомого дома на бульваре, отыскали нужную дверь, позвонили. Тишина. Есенин принялся стучать, дверь чуть приоткрылась, но цепочку предусмотрительные хозяева сбрасывать не стали. На вопрос Мейерхольда: «В чем дело?» – Сергей Александрович стал слезно объяснять, что ему необходимо срочно увидеть своих детей, посмотреть им в глаза и убедиться, что они живы и здоровы. Всеволод Эмильевич тщетно пытался увещевать, отнекиваться: мол, ночь на дворе, дети давно спят, не мешайте им своим шумом, а потом и вовсе захлопнул дверь. Напрасно приятели уговаривали поэта уйти, он вновь начал молотить по дверям кулаками.
– Он не уйдет, – шепнула мужу Зинаида Николаевна, – ни за что не уйдет, поверь мне.
Они осторожно взяли спящих детей на руки, вынесли в коридор и отворили дверь. Сергей Александрович сразу притих, заплакал, потом долго смотрел на Танечку и Костика. Наконец, поцеловал и тихо покинул квартиру. «Мы до утра, – вспоминал Командерков, – просидели на скамейке вблизи дома на бульваре. Есенин клялся в любви к своим детям и мучил нас вопросами, как же так могло случиться, что дети не с ним?.. Почему они этого зовут папой? А Зинка, как она могла…»
Бывало, Есенин навещал детей вместе с сестрой Екатериной. Потом однажды заявился в дом со своей очередной сердечной подругой Галиной Бениславской. В тот день он почему-то решил послушать, как Таня читает. Остался недоволен и принялся давать дочери уроки фонетики. При этом все кося глазом на бывшую жену.
Давно угасшая страсть к ней вспыхнула вновь, все закружилось, завертелось. Есенин кинулся покорять некогда уже взятые вершины и, казалось, одержал желанную победу. Зинаида, не в силах противостоять напору, согласилась на тайные встречи. Но вот где? – вот мучительный трагикомичный вопрос, сродни вечному «что делать?». Слава богу, пришла на выручку верная подруга Зиночка Гейман, уступая им для свиданий свою комнату в коммунальной квартире.
Рядом с Сергеем Зинаида Николаевна в полной мере ощущала себя женщиной – не властной и капризной, как со Всеволодом, а жадно желанной, покорной, зависимой, страдающей. Стоило ему только позвать ее, и она тотчас мчалась через весь город, забывая все и всех на свете – и мужа, и детей, и работу, не обращая ни малейшего внимания на шлейф слухов, сплетен, досужую болтовню. Райх разрывалась между мужем в прошлом и мужем в настоящем. Это был заколдованный замкнутый круг. Она понимала, что долго так продолжаться не может.
Добрые люди, естественно, осведомили Мейерхольда об этих секретных встречах, и он, вызвав Гейман на откровенный разговор, заявил ей в надежде найти понимание:
– Простите, но я знаю, что вы помогаете Зинаиде видеться с Есениным. Прошу вас, прекратите это: они снова сойдутся, и она снова будет несчастна. Если вы настоящая подруга и думаете о ней…
Опомнившись, Зинаида Райх сказала Есенину: «Параллели не перекрещиваются».
Вскоре он прислал ей письмо:
«Зинаида Николаевна!
Мне очень неудобно писать Вам, но я должен. Дело в том, что мне были переданы Ваши слова о том, что я компрометирую своей фамилией Ваших детей и что Вы намерены переменить ее.
Фамилия моя принадлежит не мне одному. Есть люди, которых Ваши заявления немного беспокоят и шокируют, поэтому я прошу Вас снять фамилию с Тани, если это ей так удобней, и никогда не касаться моего имени в Ваших соображениях и суждениях.
Пишу я Вам это, потому что увидел: правда, у нас есть какое-то застрявшее звено, которое заставляет нас иногда сталкиваться. Это и есть фамилия.
Совершенно не думая изменять линии своего поведения, которая компрометирует Ваших детей, я прошу Вас переменить мое имя на более удобное для Вас, ибо повторяю, что у меня есть сестры и братья, которые носят фамилию, одинаковую со мной, и всякие Ваши заявления, подобные тому, которые Вы сделали Сахарову, в семье вызывают недовольство на меня и обиду в том, что я доставляю им огорчение тем, что даю их имя оскорблять такими заявлениями, как Ваше. Прошу Вас, чтоб между нами не было никакого звена, которое давало бы Вам повод судить меня, а мне обижаться на Вас, перемените фамилию Тани без всяких реплик в мой адрес, тем более потому, что я не намерен на Вас возмущаться и говорить о Вас что-нибудь неприятное Вам.
С. Есенин».
А сам казнился, как на плахе:
Но ты детей по свету растерял,
Свою жену легко отдал другому,
И без семьи, без дружбы, без причал
Ты с головой ушел в кабацкий омут…
Зинаида Николаевна ограничилась тем, что отказалась от прежней второй фамилии – Есенина – и сделалась просто Райх.
«Вы не против того, чтобы я родила?..»
– Сергей Александрович, мне нужно с вами поговорить.
– Мне кажется, мы и так вроде бы не молчим.
– Сергей Александрович, не будете ли вы против того, чтобы я родила?
– Конечно, я думаю, любому мужчине лестно, когда женщина хочет иметь от него ребенка, – мягко улыбнулся Есенин. Но спохватился: – Постой, ты это серьезно?
Надежда молча кивнула.
– Господи, да что вы со мной делаете?! У меня и так уже трое детей!
– Трое?.. Я знала о двоих…
* * *
– Надюш, я забыл тебе сказать. Помнишь, пару недель назад, когда ты читала стихи в «Домино», в зале присутствовал Есенин.
– Марк, ты шутишь.
– Ничуть. – Старший брат даже обиделся. – Он сидел вон за тем столиком, в углу, вместе с Мариенгофом. Ты начала читать, по-моему, после Полонского, и Сергей Александрович даже отставил вино, а потом весьма одобрительно отозвался о твоих стихах.
– А что он сказал?
– Прости, я точно не помню. Но хвалил, кажется, сказал: «Небездарная девочка».
– Так и сказал?
– Клянусь. Кстати, сегодня в кафе поэтов вечер по случаю второй годовщины Октябрьской революции. Он там наверняка тоже будет.
– Откуда ты знаешь?
– В афише указана его фамилия. Сказано, что будет выступать.
В «Домино», что располагалось в оживленном месте, как раз напротив центрального телеграфа, в тот вечер набилось немало публики. Скромная библиотекарша военного госпиталя Наденька Вольпин сумела сагитировать прийти сюда целую ораву своих друзей по молодежной творческой группе «Зеленая мастерская». Да и прочего народа с лихвой хватало.
Но вот Поэт был не в настроении. На приглашение ведущего выступить отмахнулся:
– Да нет, неохота.
– Позволь, ты же на афише.
– А меня спрашивали?.. Так и Пушкина можно поставить в программку.
Услышав легкую перепалку, Надя отважилась и подошла:
– Вы ведь Есенин? Прошу вас от имени моих друзей… и от себя. Мы вас никогда не слышали, а ведь читаем, знаем наизусть.
Есенин внимательно посмотрел на девушку, встал, учтиво поклонился: «Для вас – с удовольствием». Стал читать «Иорданскую голубицу».
Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.
Здравствуй, златое затишье,
С тенью березы в воде!
Галочья стая на крыше
Служит вечерню звезде.
Где-то за садом несмело,
Там, где калина цветет,
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет.
Стелется синею рясой
С поля ночной холодок…
Глупое, милое счастье.
Свежая розовость щек!..
Потом еще была «Песнь о собаке».
Его голос завораживал. Да разве только один голос? Надежда не отрывала глаз. Удивительную прелесть всему облику Есенина придавало изящество движений, как ей казалось, «особая, почти сверхчеловеческая грация, какую можно наблюдать у коня или барса. Грация, создаваемая точностью и скупой экономией каждого движения, необходимой в природе».
Однако Надю останавливало и настораживало то не совсем трезвое, а порой отсутствующее состояние далеко ушедшего в себя человека, к которому не только подойти – но и поклониться было боязно. В сознании Есенина, чувствовала девушка, все вокруг резко делилось только на друзей и врагов: «враги» – это некое смутное подозрение. «Друзья» – всегда нечто вполне конкретное, существующее во плоти и крови, хотя порой в их честную рать Есенин зачислял и таких, кто не слишком был ему предан и едва заслуживал именоваться хотя бы приятелем…
Надя умела таить свои чувства и страсти. С головой влюбленная в Есенина, она долго-долго не подпускала его к себе на опасно близкое расстояние. Что еще больше распаляло поэта, редко встречавшего отказ. Зато в девичьем дневничке с завидной регулярностью появлялись записи: «Вчера я отбила еще одну яростную атаку Есенина…», «Смирно – после отбитой атаки – сидим рядышком на тахте. Есенин большим платком отирает лоб…» Затем: «Сегодня изливаюсь я. Жаркая исповедь – и упорное сопротивление ласке.
– Что, сердитесь на меня? Больше никогда не заглянете?
– Нет, почему же. Может быть, так и лучше…
И, помолчав, добавляет:
– В неутоленности тоже есть счастье…»
Она любила Гёте. Уж на что он знал толк в любви, а ведь значит это, что любить большее счастье, чем быть любимым. Ну а Есенин… Он как будто бы даже завидует силе ее чувства.
Конечно, Надя прекрасно понимала, что для него она одна из многих, «курсистка с жалким книжным умишком». Но знала же и другое – то, что Есенин – ее единственная настоящая любовь.
Встретив зеленоглазую девушку у Белостокского госпиталя (может, намеренно поджидал?), Есенин вручил ей только что вышедший сборник «Трехрядица».
– О, спасибо! А я уже успела купить, – простодушно призналась Надя и тут же прикусила язычок.
Сергей смутился, растерялся, но решил не отступать и отправился проводить девушку до Хлебного переулка. И там, у нее дома, все же вручил ей свою «Трехрядицу» с многозначительной дарственной надписью: «Надежде Вольпин – с надеждой. Сергей Есенин».
И снова: «Бурная атака – с ума он сошел!.. Хрупкая с виду, я куда сильнее, чем кажусь. Натиск отбит. Есенин смотрит пристыженно и грустно. И вдруг заговорил – в первый раз при мне – о неодолимой, безысходной тоске…»
Когда у Есенина выходит новая книжка «Преображение», он дарит ее Надежде и пишет: «Надежде… с надеждой». Вольпин и тут не удержалась:
– Такие слова вы уже мне написали в прошлый раз.
Есенин поморщился, силой отобрал книгу и лихо дописал: «…с надеждой, что она не будет больше надеждой».
Отношения между ними были странными и мучительными. Прежде всего для нее: «Я была влюблена. А он… Помню, в мастерской у Коненкова… Богемная обстановка. Я вышла на кухню. Сергей вышел за мной, тянется с ласками: «Мы так редко вместе. В этом только моя вина. Да и боюсь я тебя, Надя. Знаю: я могу раскачаться к тебе большой страстью!» Наверное, боялся. Только что расстался с Райх. Хватило с него «глупого счастья с белыми окнами в сад»…»
Сдалась. «Смущенное: «Девушка?!» – и сразу, на одном дыхании: «Как же вы стихи писали?» Если первый возглас я приняла за недоверие (да неужто и впрямь весь год моего отчаянного сопротивления он считал меня опытной женщиной?!), то вопрос о стихах показался мне столь же искренним, сколь неожиданным и смешным…»
В ту ночь своей запоздалой победы Есенин сказал ей:
– Только каждый сам за себя отвечает!
На что она тут же бодро ответила:
– Точно я позволю кому другому отвечать за меня?!
Сама же подумала: выходит, все же признаешь в душе свою ответственность – и хочешь спрятаться от нее? В сущности, а чего было ждать другого?
А потом… Вспоминать не хочется. В пьяной компании «барс»-победитель попытался жестом покровителя и властелина положить руку ей на плечо и посметь сказать: «Этот персик я раздавил».
– Раздавить персик недолго, а вы зубами косточку разгрызите, Сергей Александрович! – не выдержала Надежда.
Но Есенин все равно улыбался: «И всегда-то так – ершистая!.. Она очень хорошо защищается!»
Уезжая на Кавказ, он заглянул к Надежде попрощаться. Взял за руки, повернул их ладонями кверху, крепко поцеловал каждую теплую горсточку и пообещал:
– Вернусь, другим буду.
Помолчал и добавил, даже на «ты»:
– Жди.
Долго ждать не пришлось. Чуть не через две недели примчался назад и угодил прямо в объятия Айседоры Дункан. Надя признавалась: «Чудится, с меня живой кожа содрана». Но, повстречавшись с женщиной-разлучницей, утешала себя: «Любовью это не назовешь. К тому же мне, как и многим, все казалось далеко не бескорыстным. Есенин, думается, сам себе представлялся Иванушкой-дурачком, покоряющим заморскую царицу. Если и был он влюблен, то не так в нее, как во весь антураж…»
Наивный и доверчивый Сергей Александрович, позабыв о всегдашней Надиной «ершистости», однажды повел ее посмотреть на выступление легендарной танцовщицы. И горько пожалел, когда в ответ на его горделивое: «Ну как?» – Вольпин в свойственной ей манере припечатала: «Это зрелище не для дальнозорких!»
Она дала себе зарок: не возобновлять связь с Есениным. Но Сергей был настойчив – и… все ее зароки оказались смяты. Он сам удивлялся: «Так давно… а я не могу изжить нежность к ней». Иногда сердился, высказывал ей эдакие лирические упреки: «Вам нужно, чтоб я вас через всю жизнь пронес – как Лауру!»
«Бог ты мой, – задохнулась Надежда, – как Лауру! Я, кажется, согласилась бы на самое короткое, но полное счастье – без всякого нарочитого мучительства…»
* * *
– …У меня уже трое детей!
– Трое?.. Я знала о двоих. – Надежда знала, что в нагрудном кармане пиджака Есенин постоянно носил фотокарточку «своей троицы» – Зинаиды, дочери Тани и сына Кости.
– Не в этом дело. Я скоро ложусь в санаторную больницу… Где-то в Замоскворечье: то ли Пятницкая, то ли Полянка. Ну, Галя Бениславская будет знать точно… Непременно навести меня.
– Я о другом, Сергей Александрович. Не слишком ли вас угнетает мысль о моем материнстве? Если так, то ребенка не будет. Вряд ли возможно совместить две такие задачи – растить здорового ребенка и отваживать отца от вина… А так ребенок будет… Не ваш, не наш, а мой.
– Надя, мы же с вами целый век знакомы. Когда впервые встретились, не помните?
– Осенью девятнадцатого.
– Тогда вам было двадцать три.
– Нет, девятнадцать. Мои годы легко считать: в двадцатом – двадцать. В феврале двадцать четвертого будет 24. Ровесница века…
– Все-то она девочка! А уж давно на возрасте!
– Дались вам мои годы. Свои не забывайте.
Есенин не мог поверить, что Надежда на самом деле сможет уйти от него, да еще готовясь стать матерью его ребенка. Даже в больнице не решился поговорить «о главном» – о ее решении переехать в Петроград и там уже рожать.
А она, уже сидя в поезде, вспоминала строки своего давнего стихотворения:
К полдню златокудрому
Обернусь я круто:
Ты в путях, возлюбленный,
Жизнь мою запутал.
И как лес безлиственный
Все по лету дрогнет,
Так тобой исписано
Полотно дороги.
И как злыми рельсами
Узел жизни стянут,
Так тобой истерзана
Глупенькая память.
Была уверена: не ее он терзает, а самого себя.
…Роды оказались очень тяжелыми. Малыш очень долго не мог появиться на свет, кесарево сечение делать было уже поздно. Кто-то из врачей, заглянув в документы, уже принял решение: безотцовщина, значит, спасаем одну мать. Какое уж там родовспоможение! Медики-коновалы собирались пробить ребенку головку и вытягивать его из материнской утробы по частям. Лишь пожилая акушерка стала упрашивать: «Нет-нет, ну давайте попробуем, ведь этого ребеночка очень хотят…»
12 мая с великими муками и с великими трудами наконец родился сын Сергея Есенина, которого мама нарекла Александром. Недаром, выходит, последние недели до родов Надежда упрямо не снимала платья, на котором было изображено солнце, и всем говорила, что вот-вот родит Христа.
С обустройством в Ленинграде (так с конца января 1924 года стал именоваться Питер), слава богу, помог давний, верный приятель Есенина, издатель Александр Михайлович Сахаров. Подыскал более-менее пригодное жилье, сосватал няню для ребеночка и даже обеспечил Надю работой на дому. Благо пригодилось ее образование, далеко не последней выпускницы Хвостовской классической гимназии, из которой она вынесла не только интерес к естественным наукам и математике, но главное – блестящее знание французского, немецкого, английского языков, латыни и чуть в меньшей степени греческого. С рождением сына образовалась маленькая, но семья! И окончилась прежняя привольная жизнь, когда можно было часами заниматься расшифровкой загадочных поэтических образов, спорить о рифмах, стихотворных размерах и думать-думать-думать только об одном – Сергее Есенине.
Изловив Сахарова в Москве, молодой отец припер товарища к стене:
– Саша, какой у меня сын? Беленький или черненький?
– Успокойся, беленький. И не просто беленький, а в точности как ты, когда был мальчишкой. Никакой карточки не нужно. Один к одному.
– Так и должно быть, – удовлетворенно улыбнулся Сергей Александрович. – Эта женщина очень меня любила…
А по столице между тем уже бродила заливистая частушка: «Надя бросила Сергея без ребенка на руках!»
Довольно скоро Надежда Давидовна Вольпин стала востребованной переводчицей у книгоиздателей. К гимназическому базовому образованию она добавила новые знания, пройдя углубленный курс обучения в известнейшей «Фонетической школе Баянуса».
А с какими авторами ей доводилось общаться на их же языках! Издатели предлагали, а Надежда подчинялась их выбору и благодарила за Овидия, Гёте, Мериме, Бронте, Конан Дойла, Голсуорси, Вальтера Скотта, Эдгара По, Купера, Филдинга, Томаса Манна… (Много позже, оказавшись во время войны в эвакуации в Средней Азии, Вольпин в совершенстве овладела туркменским и с удовольствием переводила классическую восточную поэзию, фольклор.)
Хотя на первых порах жизнь в Ленинграде складывалась очень непросто. Но Надежда не унывала. Варила варенье из дешевых яблок – в доме был чай, бочковая селедка на всю зиму, мешок картошки – жить можно. Удавалось выкраивать деньги на то, чтобы латаные туфельки непременно были в тон латаной же одежде, – это правило соблюдалось неукоснительно. Но только до поэзии ли?..
Сергей Александрович долго и безуспешно пытался разыскать Надежду в Ленинграде. Теперь уже с другой надеждой – увидеть сына. Жена издателя рассказывала молодой маме, что приезжал Есенин, спрашивал адрес.
– Но я не дала. Сказала: сперва спрошу у нее: разрешит ли… А то ведь приедете, а она вас с лестницы спустит. Уж я бы на ее месте спустила!
Подобную перспективу он, видимо, принял за чистую монету и рисковать не стал. Хотя Надежда и мыслей подобных не имела, просила друзей передать Есенину лишь одно: не навещать ее, пока она не отлучит маленького от груди. Чуть позже Сергей Александрович раздобыл-таки искомый адрес.
Прогуливаясь по Гагаринской вместе с няней, которая держала ребенка на руках, Надежда издалека увидела приближавшегося Сергея. Тут же сделала знак няньке перейти на другую сторону улицы. Та удалилась. У распознавшего нехитрые маневры Есенина пробежала судорога. Но Надежда, как ни в чем не бывало, поздоровалась с бывшим возлюбленным, перекинулась двумя-тремя словами. И все.
Позже она говорила людям, осуждавшим ее: «Когда бы сам пришел ко мне домой, с лестницы не спустила бы. Но я не захотела показывать сына при случайной встрече, да еще на этой улице (там жили Сахаровы), где она не могла показаться случайной: подумал бы, конечно, что я сама ее ищу».
Сахаровы рассказывали ей, будто после того мимолетного свидания Есенин якобы ходил на Мойку топиться. Но хмурая река посмотрела на него холодной, неприютной – не успокоит такая! – могилой. Так и отказался от своего черного замысла, отложил на время…
Гладя сына по золотистым волосам, Надежда вздыхала – такую светлую головушку акушеры-неучи намеревались пробить! – и находила в нем отцовские черты. Вспоминала: «С Есениным нередко бывало такое: среди разговора, для него, казалось бы, небезразличного, он вдруг отрешится от всего, уйдет в недоступную даль. И тут появится у него тот особенный взгляд: брови завяжутся на переносье в одну черту, наружные их концы приподнимутся в изгибе. А глаза уставятся отчужденно в далекую точку. Застывший, он сидит так какое-то время – минуту и дольше – и вдруг, встрепенувшись, вернется к собеседнику. Так происходило с ним и наедине со мной, и за столом в общей небольшой компании…» И замечала: «Мой малыш месяцев семи, качаясь в люльке, нет-нет, а уставится вдаль. Тот же взгляд! И я безошибочно узнала, что это не какая-то выработанная манера ухода от окружающих, а нечто прирожденное…»
Надежда радовалась тому, как рано в Алеке стал проявляться характер. «Как-то раз, – вспоминала она, – малыш нарушил какой-то из моих запретов. Я пошлепала ему ручонку, а он сует ее к моим губам: мол, поцелуй. Как если бы он сам ее зашиб. Я отстраняю ручку, не сдаюсь. И завязался многодневный спор. Я упорно несу нудную воспитательную чушь, дескать, мальчик гадкий, негодный, таких не любят. Однако не слышу в ответ обычного: «Прости, я больше не буду». Не вижу и слез в глазах. На третий день Алек убежденно сказал:
– Мама, а ты меня и такого, гадкого, поцелуй.
Но я не отступаю, твержу свое… Но послезавтра его день рождения. Стукнет три годика… Утром слышу слова, которые врезались в память на всю мою жизнь:
– А все-таки, мамочка, придется тебе научиться и гадкого мальчика любить…»
Так, полагала Надежда, трехлетний будущий воитель выиграл первый бой за свои человеческие права. За то же право каждого детеныша на материнскую любовь.
Чистая, книжная из книжных, одухотворенная девушка осенью 1919 года всей душой полюбила человека с неважными манерами, скверным характером и очень сомнительным окружением. Но что поделаешь, если даже спустя десятилетия после ухода поэта она продолжала безоглядно любить, и весной 1986 года написала:
Мой нищий стих! Ты был как дом,
Богатый дружбой и теплом,
Как дом о четырех углах,
Как конь на золотых крылах!
И я в моей крапивной мгле,
Касатка об одном крыле,
Целую стылый смертный прах,
Любимый прах!
Незадолго до своей кончины Надежда Давидовна признавалась: «Я любила Сергея больше света, больше весны, больше жизни – любила и злого, и доброго, нежного и жестокого – каким он был. Или хотел быть».
Она так надеялась, что строки стихов о Шаганэ – «…там, на севере, девушка тоже – на тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне…» – Есенин писал, вспоминая о ней, Надежде Вольпин.
Мама много рассказывала сыну об отце. В конце концов Алек согласился с тем, что Сергей Александрович «ее любил. Это верно. Но он любил не только ее, даже в то же время. Я произошел от непонятно какой, то есть очень даже понятно какой связи…».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?