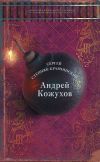Текст книги "Смерть Вазир-Мухтара"

Автор книги: Юрий Тынянов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
– Этот мерзавец, – сказал он вдруг, – поглядите, что он отчеркнул. – Он протянул Грибоедову «Journal des débats» и какую-то английскую газету.
– «Полководец без храбрости и плана», – читал Грибоедов.
– Меня знает император, и я плевал на господ Сипягиных. Я всё знаю. Я ревизию назначаю над ним. Растратил, негодяй, восемьсот тысяч. Второй герой… крашеных мостов. Завилейскому передайте благодарность за донесение. …Всё, что вы говорите, Александр Сергеевич, – сказал он всё так же брыкливо и печально, – меня уж давно занимает. Пора унять мерзавцев. Я бы сумел это провести. Не все мне воевать. Я покажу этой сволочи, как надобно Кавказ устроить. Я кончу кампанию и вызову вас из Персии. Посидите там месяц. Я напишу Нессельроду. Вас заменят. Вы будете моим помощником. …Да и эти мерзавцы – как вы их назвали? Французишки из Бордо. Плевал я на их брехню. Это все Нессельрода штучки и… ермоловские, – добавил он вдруг. – Они, разумеется, не могут планов моих понимать. – Он горько усмехнулся и вдруг подозрительно глянул.
– А я, благодетель мой граф, – сказал Грибоедов, оглядывая рыжие бачки и выпуклые глаза, как поле сражения, – имею к вам великую просьбу.
– Hein? [Что?] – спросил Паскевич, насторожась.
– Хочу жениться до отъезда и не имею возможности испросить высочайшего разрешения в столь короткий срок. Будьте отцом родным.
– На ком же? – спросил Паскевич и высоко поднял брови, улыбнувшись. Он по-светски поклонился Грибоедову, избегая его взгляда: – Поздравляю вас.
Грибоедов вышел. Было очень темно, черно, и в черноте лагерь шевелился, мигали фонарики, тлели ночные разговоры, шепот, дымилась махорка… По холмам колебалось что-то, как редкий лес от ветра. Деревья? Всадники?
Граната решила сомнения. Это была конница, и она рассеялась.
И эта легкость, эта зыбкость встревожила Грибоедова.
Мальцов спал в палатке. Доктор хлопотал над чемоданом и сразу же попросил Грибоедова отпустить его: на десятой версте открылась чумная эпидемия, не хватало врачей. Доктор Мартиненго получил донесение.
14
Полковой квартирмейстер Херсонского полка, которым командовал начальник траншей полковник Иван Григорьевич Бурцов, был добряк.
Он любил своего арабского жеребца, как, верно, никогда не любил ни одной сговорчивой девы.
Кучером и конюхом у него поэтому был молодой цыган, который лучше понимал конский язык, чем русский. Жеребец ржал, цыган ржал, квартирмейстер посапывал сизым носом, глядя на них.
Цыган купал жеребца, и их тела в воде мало отличались по цвету: оба блестели, как мазью мазанные солнцем. Конь храпел тихо и музыкально и, подняв кверху синие ноздри, плыл, цыган горланил носом и глоткой. И у квартирмейстера ходил живот, когда он на них глядел.
Полк стоял лагерем в селении Джала. Офицеры жили в домах, лагерь был разбит за селением. Когда в двух верстах от стоянки, за рекой, появился оборванный, кричащий цветом и сверкающий гортанью цыганский табор, когда стали заходить в полк цыганки с танцующими бедрами и тысячелетним изяществом лохмотьев, цыган стал пропадать. Он уходил купать коня, переплывал на другой берег и исчезал.
Квартирмейстер говорил:
– Пусть погуляет на травке.
Цыган гулял на травке, и под ним гуляли бледные бедра цыганского терпкого цвета. Однажды утром квартирмейстер не мог докричаться цыгана.
– Загулял, собака, – сказал он и пошел проведать своего жеребца.
Цыган лежал в конюшне, синий, с выкаченными глазами. Он пошевелил рукой и застонал. Конь тихо бил ногой и мерно жевал овес. Квартирмейстер выскочил из конюшни и зачем-то запер ее. Он сразу вспотел. Потом, осторожно ступая, он разыскал денщика, велел нести веревки, отпер конюшню и приказал посадить цыгана на жеребца. Цыган мотался и мычал. Денщик прикрутил его веревками к коню. Квартирмейстер, посапывая, вывел коня из конюшни и, всё так же осторожно ступая, повел к реке. Он пустил его в воду.
Конь поплыл, похрапывая, а цыган мотался головой. Квартирмейстер стоял, согнувшись, и смотрел пустыми глазами. Конь переплыл реку и, тихонько пощипывая траву, стал уходить к табору, а цыган танцевал на нем каждым членом.
Когда он ушел из глаз, квартирмейстер вдруг заплакал и тихонько сказал:
– Конь какой. Пропало. Нужно гнать чуму. Он пришел к себе, заперся и стал пить водку.
Назавтра квартирмейстер вышел и увидел, что денщик лежит, разметавшись, выкатив глаза и ничего не понимая. Он отправил его в карантин.
Он дождался ночи. Ночью запихал в карманы по бутылке водки, вышел из дому, запер за собой дверь и ушел. Он побродил, потом, постояв, толкнул какую-то дверь и вошел. На постели лежал незнакомый офицер и спал. Он не проснулся. Квартирмейстер скинул сюртук, снял рубашку, лег на пол посредине комнаты, вынул из кармана штоф кизлярки и стал молчаливо сосать. В промежутках он покуривал трубку.
Вскоре офицер проснулся. Увидев лежащего на полу незнакомого полуголого офицера, пьющего из бутылки водку, он подумал, что это ему снится, повернулся на другой бок и захрапел.
Квартирмейстер выпил штоф и на рассвете ушел, так и не принятый офицером за живое существо. Он накинул на себя сюртук, а рубашку забыл на полу. Он скрылся, и больше его никто не видел ни в реальном, ни в каком другом виде.
Офицер, проснувшись и увидев пустой штоф и рубашку на полу, ничего не понимал. Он был здоров и остался здоровым.
Прачка, жена музыканта, занимавшаяся стиркой для прокорма трех маленьких детей, жила с ним в землянке, тут же, в селении. Девочка в это утро пришла к офицеру за бельем. Она подняла с полу рубашку. Офицер сказал, что она может взять ее себе. Вернувшись домой, в землянку, она заболела. Командир полка отдал приказ взять ее отца и мать в карантин, а девочку в гошпиталь. Троих маленьких детей оставили в землянке, потому что карантин был переполнен. Карантинные балаганы, прикрытые соломой, кишели людьми, и там спали вповалку.
У землянки поставили часового. Селение опустело. Арбы заскрипели в разные стороны. Лохмотья, ведра, кувшины, пестрые одеяла, а среди них сидели злые и испуганные женщины и крикливые дети. Мужья молчаливо шагали рядом, и, высунув языки, терпеливо шли сзади собаки.
Темною ночью мать заболела в карантине. Она чувствовала жар, который плавил ее голову и нес ее тело. Она как тень пробралась из карантина и как тень прошла сквозь цепь. Ночь была черная. Она шла вслепую, быстро и не останавливаясь, шла версту и две, как будто ветер гнал ее. Если бы она остановилась, она упала бы.
В голове у нее было темно и гудело, она ничего не понимала и не видела, но она прошла к землянке, к детям, перевалилась через порог и умерла.
Часовой смотрел, разинув рот, в окошко и видел труп матери и совершенно голых детей, которые молча жались в углу. Сойти с места и дать знать дежурному офицеру он не имел права. Дети выбежали наконец из землянки и с криками, уцепившись за часового, тряслись. Когда на рассвете пришли сменить часового, вызвали офицера. Он велел часовому, не прикасаясь ни к чему руками, шестом достать из землянки одеяло и прикрыть голых детей, которые тряслись, кричали и стучали зубами. Часовой так и сделал.
Сменясь с караула, он в ту же ночь, в палатке, заболел. К рассвету заболела вся палатка.
Так в войско графа Паскевича пробралась чума.
15
– Сашка, друг мой, скажи мне, пожалуйста, отчего ты такой нечесаный, немытый?
– Я такой же, как все, Александр Сергеевич.
– Может быть, тебе война не нравится?
– Ничего хорошего в ней, в войне, и нету.
Молчание.
– И очень просто, что всех турок или там персиян тоже не перебьешь.
– Это ты сам надумал, Александр Дмитриевич? А отчего ты так блестишь? И чем от тебя пахнет?
– Я намазавшись деревянным маслом.
– Это зачем же?
– В той мысли, чтоб не заболеть чумой. Выпросил у доктора полпорциона.
– А доктор тоже намазался?
– Они намазали свою рубашку и вымылись уксусом четырех разбойников. Если вам желательно, могу достать.
– Достань, пожалуй.
– Потом курили трубку и кислоту. Сели с другим немцем на коней и поехали.
– Что же ты с ними не поехал?
– Их такое занятие. Я этого не могу.
– А так, небось, поехал бы?
– У меня статское занятие, Александр Сергеевич, у них чумное.
– А что ж ты на вылазку с Иван Сергеичем не поехал? Он ведь статский, а напросился на вылазку.
– Господину Мальцову все это в новость. Они храбрые. Они стараются для форсы. А я должен оставаться при вас. Мало я пороху нюхал?
– Как так для форсы?
– Никакого интереса нет свой лоб под пули ставить. Да вы разве пустите. Смех один.
Молчание.
– Ты, пожалуйста, не воображай, что я тебя, такого голубчика, в Персию повезу. Я тебя в Москву отошлю.
– Зачем же, ваше превосходительство, вы меня сюда взяли?
Молчание.
– Сашка, что бы ты делал, если б получил вольную?
– Я б знал, что делать.
– Ну, а что именно?
– Я музыкантом бы стал.
– Но ведь ты играть не умеешь.
– Это не великое дело, можно выучиться.
– Ты думаешь, это так легко?
– Я бы, например, оженился бы на вдове, на лавошнице, и обучался бы музыке и пению.
– Какая ж это лавошница-вдова тебя взяла бы?
– С этой нацией можно обращаться. Они любят хорошее обхождение. Тоже говорить много не надо, а больше молчать. Это на них страх наводит. Они бы в лавке сидели, а я б дома играл бы.
– Ничего бы и не вышло.
– Там видно было бы.
Молчание.
– Надоело мне пение твое. Только я тебя теперь не отпущу. Поедем в Персию на два месяца.
Молчание.
– Тут, Александр Сергеевич, с час назад, как вы спали, приходили за вами от графа.
– Что ж ты мне раньше не сказал?
– Вы разговаривали-с. Адъютант приходил и велел прибыть на совещание.
– Ах ты, черт тебя возьми, дурень ты, дурень мазаный. Одеваться.
16
Паскевич сидел за картой. Начальник штаба Сакен был рыжий немец с бледно-голубыми глазами. Петербургский гость Бутурлин, молодой «фазан», худой, как щепочка, молчал.
Доктор Мартиненго был худощав, стар, с хищным горбом, окостеневшим лицом, седыми, жесткими волосиками и фабренными, шершавыми усиками. Огромный кадык играл на его высохшей шее. Ему бы кортик за пояс, и был бы он простым венецианским пиратом.
Полковник Эспехо был плешив, желт, с двумя подбородками, черные усы и неподвижные, грустные глаза были у полковника. Корнет Абрамович стоял с видом готовности. Бурцов смотрел на Паскевича.
– Совершенно согласен и подчиняюсь, граф, – сказал он.
– Вот, – сказал Паскевич. – Немедля выступить и идтить на соединение. Больных и сумнительных – в карантин. Доктору Мартыненге озаботиться о лазаретках. Идтить форсированным маршем.
Всё это было решено уже две недели назад Бурцовым и Сакеном. Сакен молчал.
– Слушаю, – сказал почтительно Бурцов.
– Переписка наша с разбойниками короткая, – сказал Паскевич. – Я Устимова послал сказать, чтобы сдавались. Ответ… – Он взял со стола клочок бумаги: – «Мы не ериванские, мы не карские. Мы – ахалкалакские…» – Паскевич посмотрел на всех.
Эспехо и Абрамович улыбнулись.
– «У нас нет ни жен, ни детой, мы все, тысяча человек, решили умереть на стенах». Хвастовня. Итак, предлагаю для сносу сорока этих курятников бить в лоб. С того берегу речонки ставить батареи». – Он искоса взглянул на Бурцова. – Согласны? – буркнул он.
– Совершенно согласен, ваше сиятельство, – снова ответил равнодушно и почтительно Бурцов.
Паскевич взглянул на Грибоедова. Он опровергал «Journal des dе́bats».
– Предполагаю, ваше сиятельство, во исполнение вашей мысли, – сказал Бурцов, – заложить большую рикошетную и демонтирную батарею на правом берегу Гардарчая для метания бомб и гранат в крепость, а на правом берегу – брешбатарею.
– Конечно, – сказал Паскевич, – а то какую же?
– Осмелюсь также предложить вашему сиятельству, как уже вами с успехом испытано, впереди левого фланга еще небольшие батареи по четыре мортиры.
– Считаю излишним, – сказал полковник Эспехо.
Паскевич задергал ногой.
– Я потому, что ваше сиятельство сами впервые обратили мое внимание на важность этого предложения, – сказал Бурцов и куснул усы.
– Полковник, – сказал Паскевич Эспехо, – я понимаю, что вы против этого. Разумеется, не стоит в воробьев из всех пушек палить. Но девиз мой: не люди, а ядра. Брить два раза чище. Вот почему я на этом всегда настаиваю.
– Слушаю, – сказал Эспехо.
Мартиненго спросил шепотом у Грибоедова:
– Здоровье госпожи Кастеллас?
– Доктор, каждодневно привозите мне рапорты. Лучше лишних в карантин. Пища осматриваться должна малейшая. На воду обратить внимание.
– Слушаюсь, – прошипел Мартиненго.
– Не задерживаю более. Полковник Бурцов, останьтесь.
Паскевич вздохнул и потянулся.
– План привезли? – спросил Паскевич.
Бурцов положил перед ним листок, на котором был закрашен голубой краской какой-то опрятный домик, а рядом черная клетка. Чертеж был довольно небрежный.
Паскевич взглянул в листок.
– Ну-ну, – сказал он подозрительно. – А… печи имеются?
– Все здесь, ваше сиятельство.
– Но это что же, черновой план?
– Да, предварительный.
– Ну-ну, – сказал снисходительно Паскевич. – Александр Сергеевич, подьте сюда. Здесь я полковнику дал план набросать по проекту Завилейского. Он стеклянные заводы хочет строить на акциях, только сумнительно. Он, кажется, недалек.
Грибоедов глянул на листок. Чертеж этот, план был чистым издевательством.
– Я не знал об этом проекте, – сухо сказал он.
Бурцов смотрел серьезно и прямо в глаза Грибоедову.
– Вот какое дело, Иван Григорьевич… – сказал Паскевич и сделал губами подобие зевка. – Тут вот проект Александр Сергеевич представил. Проект обширный. Я полагаю, заняться им следует. Вот вы возьмите и потолкуйте. Вы ведь адербиджанскими делами занимались уже несколько.
– По вашему приказанию, граф, – ответил Бурцов.
Он встал, и сразу рост его укоротился. У него были широкая грудь, широкие плечи и небольшие, как бы укороченные ноги.
– Возьмите, – ткнул в него бумагами Паскевич. – Мнение мое благоприятное. Более вас, господа, не задерживаю.
17
По Киеву шел молодой офицер. Лицо у него было белое, волосы зачесывались, как лавры, на виски. Он начинал полнеть, но походка его была легкая, уверенная. По эполетам он был подполковник. У маленького дома он остановился и постучал в дверь колотушкой, заменявшей звонок. Отпер денщик, и сразу же из комнаты выбежал молоденький подпоручик. Они крепко поцеловались и вошли в комнату, где сидел Грибоедов и другой военный, широкоплечий, тоже молодой, полковник.
– Рад вас видеть, – сказал мягко молодой подполковник с лаврами на висках. – Человек от Михаила Петровича чуть не запоздал – я собирался в Тульчин. Иван Григорьевич, здравствуйте; жарко, – сказал он широкоплечему.
Грибоедов обрадовался мягкому голосу и изяществу.
– Я не мог проехать Киев, не повидав вас.
– А я хочу вас в Тульчин везти. Место зеленое, городишко забавный. Павел Иванович Пестель давно ищет с вами знакомства.
– Лестно мне ваше внимание, но жалею – тороплюсь.
– Александр Сергеевич, не благодарите, все мы как в изгнании, и так трудно истинного человека встретить. Вы и не знаете, что здесь вы виною больших военных беспорядков – все мои писаря вместо отношений переписывают ваше «Горе». Ждать, пока цензура пропустит, – состаришься.
Грибоедов улыбнулся.
– Авось дождусь вольного книгопечатания.
– И конечно, первою его книгою будет ваша комедия народная, прямо русская.
– А сам Сергей Иванович только французские стихи пишет, – сказал подпоручик.
Подполковник порозовел и пальцем погрозил подпоручику.
– Вы относитесь безо всякого уважения к начальству, – сказал он, и все засмеялись, – Иван Григорьевич меня знает, а Александр Сергеевич может поверить. Итак, вы едете в Грузию? «Многих уже нет, а те странствуют далече». Видели вы Рылеева? Одоевского?
– Рылеев занят изданием альманахов карманных. Они имеют успех. У дам в особенности. Саша Одоевский – прелестный. Впрочем, вот вам от Рылеева письма и стихи.
Подполковник не распечатал пакета.
– Какого мнения вы, Александр Сергеевич, о проконсуле нашем, Цезаре Тифлисском?
– Notre César est trop brutal [Наш Цезарь слишком груб].
Подполковник улыбнулся и стал серьезен. Рот у него был очерченный, девичий.
– Кавказ очень нас занимает. Он столько уже поэзии нашей дал, что невольно ждешь от этого края золотого всё больше, больше.
Все придвинулись к Грибоедову, и он немножко смутился.
– Война, – сказал он и развел пальцами, – война с горцами, многое делается опрометчиво, с маху. Наш Цезарь – превосходный старик и ворчун, но от этих трехбунчужных пашей всегда ждешь внезапности.
Подполковник посмотрел быстро на подпоручика. Широкоплечий сидел молча и ни на кого не смотрел.
– Очень меня занимает его система, – сказал он вдруг. – Она чисто партизанская, как у Давыдова в двенадцатом году.
– Они друзья и кузены.
– Как там Якубович, – начал подполковник и вдруг смешался, густо зарозовел. – Простите, я хотел спросить, там ли он?
Он посмотрел на руку Грибоедова, простреленную на дуэли, и ее свело.
– Там.
Денщик принес чаю и вина.
Молодой подполковник и другой, широкоплечий, вышли вместе с Грибоедовым. Другой скоро откланялся. Они были одни. Они шли мимо кудрявых деревьев и слушали, как сторожа перекликаются колотушками. Они говорили о Грузии.
Луна стояла, и политика как будто была из поэмы Пушкина – не из унылого «Пленника», а из «Фонтана»; она журчала, как звон подполковничьих шпор. Они остановились.
– …И, может быть, если будет неудача, – тихо журчал подполковник, – мы придем к вам в гости, в вашу Грузию чудесную, и пойдем на Хиву, на Туркестан. И будет новая Сечь, в которой жить будем.
Они обнялись.
Луна стояла, луна приглашала в новые земли, цветущие.
Это все было ночью в июле 1825 года. Розовый подполковник был Сергей Иванович Муравьев-Апостол; совсем молодой подпоручик, у двери которого не было звонка, а была деревянная колотушка, был Михаил Петрович Бестужев-Рюмин; широкоплечий полковник, сказавший о партизанской системе, был Иван Григорьевич Бурцов, а Александр Сергеевич Грибоедов, недовольный войной, – был моложе.
Теперь от Ивана Григорьевича зависела судьба проекта, судьба Александра Сергеевича.
Кем же был Бурцов, Иван Григорьевич?
Был ли он южанин-бунтовщик вроде Пестеля, Павла Ивановича, у которого почерк был ясен и тонкая черта, перечеркивавшая t французское, была как нож гильотины? Или он был мечтатель-северянин, наподобие Рылеева, почерк которого развевался, подобно его коку над лбом? Нет, он не был ни бунтовщиком, ни мечтателем.
Иван Григорьевич Бурцов был либерал. Умеренность была его религией.
Не всегда либералы бывали мягкотелы, не всегда щеки их отвисали и животы их были дряблы, – как то обыкновенно изображали позднейшие карикатуристы. Нет, они бывали также людьми с внезапными решительными движениями. Губы их бывали толсты, ноздри тонки, а голос гортанный. Они с бешенством проповедовали умеренность. И тогда их еще не звали либералами, а либералистами.
Когда на юге возникла мысль о неограниченной вольности, туда был отправлен для переговоров от умеренных северян человек вспыльчивый – Бурцов Иван Григорьевич. Бунт взглянул на пламенный либерализм российский холодными глазами Пестеля.
Тогда отложился юг от севера. Потом произошла известная стоянка российской истории на площади петербургского Сената. Холостая стоянка. И Бурцов Иван Григорьевич, просидев полгода в Бобруйской крепости, остался все тот же: честный, прямой, властолюбивый, заряженный свирепым лаем либералист российский, которого пуще огня боялся Паскевич. Только по вискам выступила солью седина и нос облупился под южным солнцем.
– А теперь садитесь, Александр Сергеевич. Мы с вами не виделись три года.
– Я не помню, Иван Григорьевич.
– Три года – три столетия. – Бурцов говорил тихо и оглядывал Грибоедова. – «Многих уже нет, а те странствуют далече». Это мы все странствуем с вами.
– Разве вы там были? – спросил изумленный Грибоедов.
Шпоры, журчание, луна, Грузия. Вот она, Грузия. Однако!
– Я тоже забыл всё, – сказал Бурцов. – Воюем, как видите… Давно я от России оторвался. Я иногда вспоминаю Петербург, но вдруг вижу, что это не Петербург, а Бобруйскую крепость вспоминаю или что-то другое, Москву, что ли.
– Москва изменилась. А Петербург всё тот же. И Бобруйская крепость та же. Как я мог, однако, позабыть?
– Да ведь помнить горько. Вот так же и я. Как-то списал тогда стихи Сергея Ивановича для памяти, понравились мне. И ясно помнил. Стихов-то немного, всего строк восемь, десять. И вот остались только две строки: «Je passerai sur cette terre / Toujours reveur et solitaire… [Я прохожу по этой земле всегда в мечтах и одиночестве…] …solitaire», – и дальше забыл. Никто не знает. Вы, кстати, может, знаете случайно?
– Нет, – сказал Грибоедов и удивился бурцовской болтливости.
Не то он давно людей не видал, не то оттягивал разговор.
– Да, – грустно говорил Бурцов, – да. Он во многом ошибался… А «Горе» ваше так и не напечатано?
– Цензура.
– Государя видели?
– Видел и говорил, – кивнул Грибоедов. – Он бодр.
– Да, – сказал Бурцов, – все говорят, что бодр, да, да. Итак, – сказал он, – нам нужно говорить с вами о проекте вашем. – Он подтянулся. – Я ночь напролет его читал и две свечи сжег. Я читал его, как некогда Рейналя читал, и ничего более завлекательного по этой части, верно, уж не прочту.
И вот они оба подтянулись и стали отчасти: командир Херсонского полка, начальник траншей – и родственник Паскевича. Они говорили, сами того не замечая, громче.
– Идея компании торговой – поэма чудесная. Это новое государство, перед которым нынешняя Грузия – простая арба. Превосходно и завлекательно. – Так он говорил, должно быть, с Пестелем.
– Ваше мнение?
– Отрицательное, – сказал Бурцов.
И молчание.
– Это образец критики французской, – улыбнулся Грибоедов. – Сначала: «Cette piéce, pleine désprit», а потом: «Chute compléte» [Эта пьеса, полная остроумия… Полный провал].
– Я не критик и не литератор, – сказал грубо Бурцов, и жилы у него надулись на лбу. – Я барабанная шкура, солдат.
Грибоедов стал подыматься. Бурцов удержал его маленькой рукой.
– Не сердитесь.
И дождь сухо забарабанил в полотно, как голос председателя.
– В вашем проекте, в вашей «книге чертежа великого» всё есть. Одного недостает.
– Вы разрешите в диалоге нашем драматическом без реплик. Я должен, разумеется, спросить: чего?
– Сколько вам угодно. Людей.
– Ах, вы об этом, – зевнул Грибоедов. – Печей недостает, как Иван Федорович давеча сказал. Мы достанем людей, дело не в этом.
– Вот, – сказал торжественно Бурцов, – ваша правда: дело не в этом. При упадке цен на имения вы крестьян в России даром купите.
Тут – предостережение дождя. Тут ход прямой и непонятный, тут человек другого века.
– А о людях для управления, так они найдутся. Вы вот воюете же у Ивана Федоровича. Есть еще честные люди.
– Мало. Но хорошо, – сказал Бурцов. – Что же из вашего государства получится? Куда приведет оно? К аристокрации богатства, к новым порабощениям? Вы о цели думали?
– А вы… – закинул уже ногу на ногу и развалился Грибоедов. – Вы в чертеже своем – не стеклянном, другом – вы о цели думали? Хотите, скажу вам, что у вас получилось бы.
– Что? – вдруг остановился Бурцов.
– То же, что и сейчас. Из-за мест свалка бы началась, из-за проектов. Павел Иванович Пестель Сибирь бы взял, благо там батюшка его сидел. И наворотил бы. И отделился бы. И войной противу вас пошел бы.
– Я прошу вас, я покорнейше прошу вас, – у Бурцова запрыгала губа, и он положил маленькую руку на стол. – У меня есть еще прямая честь. Я о мертвом неприятеле своем говорить не стану.
– Ага, – протянул Грибоедов с удовольствием. – Ну, а Кондратий Федорович был человек превосходный… человек восторженный…
Бурцов вдруг побледнел.
– Кондратий Федорович, вкупе с вами, мужика бы непременно освободил, литературою управлял бы…
Бурцов захохотал гортанно, лая. Он ткнул маленьким пальцем почти в грудь Грибоедову.
– Вот, – сказал он хрипло. – Договорились. Вот. А вы крестьян российских сюда бы нагнали, как скот, как негров, как преступников. На нездоровые места, из которых жители бегут в горы от жаров. Где ваши растения колониальные произрастают. Кошшениль ваша. В скот, в рабов, в преступников мужиков русских обратить хотите. Не позволю! Отвратительно! Стыдитесь! Тысячами – в яму! С детьми! С женщинами! И это вы «Горе от ума» создали! – Он кричал, бил воздух маленьким белым кулаком, брызгал слюною, вскочил с кресел.
Грибоедов тоже встал. Рот его растянулся, оскалился, как у легковесного борца, который ждет тяжелого товарища.
– А я не договорил, – сказал он почти спокойно. – Вы бы как мужика освободили? Вы бы хлопотали, а деньги бы плыли. Деньги бы плыли, – говорил он, любуясь на еще ходящие губы Бурцова, который не слушал его. – И сказали бы вы бедному мужику российскому: младшие братья…
Бурцов уже слушал, открыв толстые губы.
– …временно, только временно не угодно ли вам на барщине поработать? И Кондратий Федорович это назвал бы не крепостным уже состоянием, но добровольною обязанностью крестьянского сословия. И, верно, гимн бы написал.
Тогда Бурцов ощетинился, как кабан, крупные слезы запрыгали у него из глаз на усы. Лицо его почернело. Он стал подходить к Грибоедову.
– Я вызываю вас, – прокаркал он, – я вызываю вас за то, что вы имя… За то, что вы Кондратия…
Грибоедов положил длинные желтые пальцы на бурцовские ручки.
– Нету, – тихо сказал он. – Не буду драться с вами. Всё равно. Считайте меня трусом. – И пальцы, простреленные на дуэли, свело у него.
Бурцов пил воду. Он пил ее из кувшина, огромными глотками, красный кадык ходил у него, и он поставил на столик пустой кувшин.
– По той причине, что вы новую аристокрацию денежную создать хотите, что тысячи погибнут, – я буду всемерно проект ваш губить. – Голос его был хриповат.
– Губите, – лениво сказал Грибоедов.
Бурцов вдруг испугался. Он оглядывал в недоумении Грибоедова.
– Я погорячился, кажется, – пробормотал он, вытирая глаза. – У вас те же манеры, что у покойного… Павла Ивановича… и я вас совсем не знал. Помнил, но не знал. Но я не могу понять, чего вы добиваетесь? Что вам нужно? – Он ходил глазами по Грибоедову, как по крепости, неожиданно оказавшейся пустою.
Дождь, протекавший сквозь полотно, падал в углу маленькими торопливыми каплями и все медленнее. Значит, он прошел. Грибоедов изучал эти капли.
– А что вы скажете Паскевичу? – спросил он с интересом.
– Я ему скажу, что он, как занятый военными делами, не сможет заведовать и что его власть ограничится.
– Это умно, – похвалил Грибоедов. Он стал подниматься.
Бурцов спросил у него тихо:
– Вы видели мою жену? Она здорова? Это ангел, для которого я еще живу.
Грибоедов вышел. Обломок луны, кривой, как ятаган, висел в черном небе.
… И может быть, в случае неудачи… Грузия чудесная… И будет новая Сечь, в которой жить будем… Негры… в яму… с детьми…
«Je passerai sur cette terre / Toujours reveur et solitaire…»
И ничего больше не сохранилось. Ушло, пропало.
18
Тут бормотанье, тут клекот, тут доктор, курносый, как сама смерть, тут страж в балахоне, курящий серной курильней, тут шлепанье туфель. Тут ни война, ни мир, ни болезнь, ни здоровье. Тут карантин.
Тут Александр Сергеевич разбил на три дня палатку. Александр Сергеевич приказывает Сашке разгрузить всё, что осталось, – вино и припасы. Начинается карантинный пир. Александр Сергеевич всё похаживает по палатке, всё усаживает людей за голый стол. Люди пьют и едят, пьют здоровье Александра Сергеевича. Только чумной ветер мог свести их, только Александр Сергеевич мог усадить их рядом.
Полковника Эспехо, дравшегося за испанского Фердинанда, он усадил рядом с унтер-офицером Квартано, который, будучи полковником русской службы, дрался против Фердинанда и был за то, по возвращении в Россию, разжалован.
Семидесятилетнего рядового, графа Карвицкого он усадил рядом с корнетом Абрамовичем.
«Фазана» Бутурлина, штаб-ротмистра, – рядом с доктором Мартиненго. Мальцова – с доктором Аделунгом.
И Сашка прислуживал. Почему они уселись в ряд?
А потому, что Александр Сергеевич Грибоедов, полномочный министр и шурин шефа, их усадил так. И он подливает всем вина. И он вежливо разговаривает со всеми. Знает ли он власть вина?
Вина, которое губкою смывает беззаконный рисунок, намалеванный на лица? Вероятно, знает.
Потому что, когда граф Карвицкий, откинувшись, начинает петь старую песню, он приходит в восторг.
Так Гекла сива
Снегем покрыва
Свое огнистэ печары…
Это очень нежная и очень громкая песня, которую певал назад лет тридцать рядовой Карвицкий в своем родовом поместье.
Вешх ма под лёдэм,
Зелена сподэм.
И вечнэкарми пожары…
И с тою беззаботностью, которою всегда отличаются польские мятежники, пьяный семидесятилетний рядовой уже тыкает корнету Абрамовичу, он уже сказал ему, грозя пальцем:
– Ты бендзешь висял на джеве, як тен Юда.
И корнет Абрамович, пошатываясь, встал, чтоб уйти из-за стола, но Александр Сергеевич жмет ему руку, смеется и говорит:
– О, куда вы? Пейте, корнет, бургонское. Мне нужно поговорить с вами.
А у испанцев идет тихий разговор, и Эспехо, отодвигаясь от стола, пьяный, как Альмавива в опере «Севильский цирюльник», – вдруг кричит Квартано:
– Изменник! Что ты выиграл под флагом Мина? Фердинанд его расстрелял как собаку. Ты не смеешь говорить мне эти глупости!
И Квартано смеется, каркая, и Эспехо ползет под стол.
Мальцов целует доктора Аделунга взасос, а тот, достав платок, долго утирается. И только старик Мартиненго, с крашеными усиками, с горбом пирата, пьет, как губка. Он молчит. Потом он предлагает Бутурлину:
– Здоровье госпожи Кастеллас.
Бутурлин не слышит. Он смотрит в ужасе на солдат: Карвицкого и Квартано. Он еще не решил, уйти ли ему или наблюдать далее. Дело в том, что Паскевич отослал его с пустяшным приказанием, и неизвестно, получит ли он крест. Крест же можно получить разными способами. Например, путем благородного донесения.
Старый Мартиненго хватает его за руку и клекочет:
– Hein, hein, я предлагал пить за дама, ты молчал. Э, как зовется, фанданго, фазан.
И Бутурлин, тонкий, как тросточка, встает и, дрожа, бледный, подходит к Грибоедову:
– Александр Сергеевич, я требую объяснения.
Но Грибоедов занят тем, что ставит полковнику Эспехо под стол вино, рюмку и хлеб.
– Еким Михайлович, дон Лыско ди Плешивос, вы не погибли там?
Он делает это, как естествоиспытатель, производящий опыт. Услышав Бутурлина, он встает наконец, слушает его и вежливо кланяется:
– Если вам здесь не показалось – можете уходить.
О, дзенкув збёры,
Пенкносци взоры,
Пане, крулёве, богине!
– A bas Ferdinand Septié me! [Долой Фердинанда Седьмого!].
– Здоровье госпожи Кастеллас! Фанданго! Фазан!
– Ты предал польское дело, собака!
– Пейте, голубчики! Пейте, дорогие испанцы! Доны, гранды и сеньоры, луженые рты, пейте!