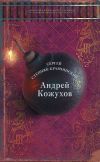Текст книги "Смерть Вазир-Мухтара"

Автор книги: Юрий Тынянов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
– Его превосходительство главнокомандующий, – спросил сипло Родофиникин, – будет принимать участие в комитете?
– Он будет членом его, – ответил Грибоедов.
Родофиникин опять склонил голову. Может быть, и хорошо, что не директором. И тогда Паскевич… Но тогда конец Паскевичу… Хорошо. Директор? Родофиникин не спрашивал, кто будет директором. Он только поглядел на Грибоедова исподлобья.
– Это очень ново, – сказал он.
Он встал.
Встал и Грибоедов. И вдруг Родофиникин – не похлопал, о нет – прикоснулся покровительственно к борту сюртука.
– Я буду говорить с Карлом Васильевичем, – сказал он важно. – А когда ж это именно стало ясно, разорение Кастелласа-то? – Он наморщил лоб.
– Для меня – с самого начала, Константин Константинович.
И Грибоедов откланялся.
Спустя полчаса постучался к Родофиникину надменный лакей. Он протянул ему карточку. Карточка была английская: доктор Макниль, член английской миссии в Тебризе.
– Проси, – сказал рассеянно Родофиникин.
22
Бойтесь тихих людей, которыми овладел гнев, и унылых людей, одержимых удачей. Вот на легкой пролетке едет такой человек, вот его мчат наемные лошади. Радость, похожая на презрение, раздувает его ноздри. Это улыбка самодовольствия.
Внезапная первая радость никому не мешает – это когда еще неизвестно: удача или неудача, это радость действователя.
Но когда важное дело близится к успешному концу, – дела этого более не существует. Только трудно удерживать силу в узком теле, и рот слишком тонок для такой улыбки. Такова улыбка самодовольствия. Она делает человека беззащитным.
Как щекотку, тело его помнит глубокий, медленный поклон старому греку.
Все это легко, торговался же он с самим Аббасом-Мирзой. Без достославного русского войска он завоевывает новые земли.
Удача несет его. Он едет к какому-то генералу обедать. Все его нынче зовут. Все идет прекрасно.
23
Предадимся судьбе. Только в Новом Свете мы можем найти безопасное прибежище.
Колумб
С самого приезда подхватили его какие-то генералы и сенаторы, и Настасья Федоровна могла быть спокойна: Александр ничего не проживал в Петербурге, жил как птица небесная.
В особенности возлюбил его генерал Сухозанет, начальник артиллерии гвардейского корпуса. Беспрестанно засылал ему записки, дружеского, хоть и безграмотного свойства, был у него раз в нумерах и вот теперь зазвал на обед.
Новые его знакомцы сидели за большим столом: граф Чернышев, Левашов, князь Долгоруков, князь Белосельский-Белозерский – тесть хозяина, Голенищев-Кутузов – новый санкт-петербургский военный генерал-губернатор, граф Опперман и Александр Христофорович Бенкендорф, розовый, улыбающийся.
Кого они чествовали, кому давали обед?
Разве решается этот вопрос, разве задается неприкровенно? Здесь область чувств. Все идет водоворотом, течением – на известном лице появляется довольная улыбка, и Александр Христофорович замечает, что улыбка появилась при известном имени. Может быть, имя смешное, а может быть, лицо вспомнило об отце-командире. Но улыбка распространяется на Александра Христофоровича, женственная, понимающая, и ямки появляются на розовых щеках. Эти ямки в коридоре ловит взглядом граф Чернышев, товарищ начальника Главного Штаба, и наматывает на черный ус. Звон его шпор становится мелодическим, он достигает ушей генерала Сухозанета.
Улыбка растет, она играет на плодах, на столовом серебре, на оранжевом просвете бутылок.
Так коллежский советник Грибоедов обедает у генерал-адъютанта Сухозанета.
Новые друзья едят и пьют с тем истинным удовольствием, которого нет у сухощавого Нессельрода и тонких дипломатов. Почти все они – люди военные, люди громкой команды и телесных движений. Поэтому отдых у них настоящий отдых, и смех тоже настоящий. Никакого уловления и никаких комбинаций, они хвалят напропалую.
Да и штатские. Например, Долгоруков, князь Василий, шталмейстер с гладкими волосами, долго держит бокал и щурится, прежде чем чокнуться с коллежским советником. Но, чокнувшись, он говорит просто и ласково, как-то всем существом склоняясь в сторону Грибоедова:
– Не поверите, Александр Сергеевич, как я сыграл на славе нашего Эриванского. Я спрашивал ленту для Беклемишева, долго просил, не давали. Вот в письме к князю Петру Михайловичу я и написал: Беклемишев, мол, давний друг графу Ивану Федоровичу, и представьте – на другой день, сразу уважили представление. – Он засмеялся радостно над своим ловким ходом.
Ну что ж, он лгал, но лгал как благородный придворный человек, и Грибоедову было весело именно от этого благородства лжи.
Беклемишева, о котором говорил шталмейстер, он не знал, но чувствовал вкус этого довольства, самодовольства и подчинялся. Необыкновенно легко придворная улыбка становилась настоящей.
Просто, свободно, без затей, военные люди любили его, как своего.
– Графа Ивана Федоровича я знаю давно, – сказал старый немец, инженер-генерал Опперман, – у него прекрасные способности именно инженерного свойства. Я его по училищу помню.
– Передайте, Александр Сергеевич, графу Эриванскому, – сказал Сухозанет, дотрагиваясь до борта его фрака, – чтобы он почаще писал старым друзьям, не то я писал, он не отвечает. Я сам воевал, знаю, что некогда, а все пусть напишет хоть два слова.
Сухозанет часто вскакивал с места, всё хлопотал – хозяин.
Вокруг Голенищева-Кутузова поднялся хохот, громкий, с переливами, в несколько голосов. Голенищев сам похохатывал.
– Расскажите, расскажите, Павел Васильевич, – всем расскажите, – махал на него рукой Левашов. – Здесь дам нет.
Обед был холостой. Жена Сухозанета была в то время в Москве. Голенищев разводил руками и уклонялся всем корпусом, похохатывал.
– Да я, господа, отчего же. Но только не выдавать. Я здесь ни при чем. Мне это самому рассказывали, я не за свое выдаю. – Он разгладил бобровые баки и метнул глазами направо и налево. – Александр Сергеевич пусть не взыщет. И чур меня графу не выдавать.
– Рассказывайте, чего уж там, – сказал ему пьяный Чернышев.
– Так вот, говорят о графе Иван Федоровиче… – начал Голенищев и снова метнул глазами.
Те, кто знал анекдот, опять захохотали, и Голенищев тоже хохотнул.
– Говорят, – сказал он, успокоившись, – что после взятия Эривани стояли в Ихдыре. Селение такое: Ихдыр. Вот и будто бы, – покосился он на Грибоедова, – граф там тост сказал: за здоровье прекрасных эриванок и ихдырок.
Хохот стал всеобщим – это было средоточие всего сегодняшнего обеда, выше веселье не поднималось. И все пошли чокаться к Грибоедову, как будто это он сказал остроту, хотя острота была казарменная, и вряд ли ее сказал даже Паскевич.
Все это отлично понимали, но все усердно смеялись, потому что острота означала военную славу. Когда генерал входил в славу, должно было передавать его остроты. Если их не было, их выдумывали или пользовались старыми, и все, зная об этом, принимали, однако, остроты за подлинные, потому что иначе это было бы непризнанием славы. Так бывало с Ермоловым, так теперь было с Паскевичем.
И Грибоедов тоже смеялся с военными людьми, хотя острота ему не понравилась.
А потом все, улыбаясь по привычке, стали друг друга оглядывать. Ясно обозначилась разница между старым инженером Опперманом и Голенищевым с бобровыми баками. Обнаружилось, что Александр Христофорович Бенкендорф несколько свысока слушает, что ему говорит рябой Сухозанет. Возникло ощущение чина.
Грибоедов увидел перед собою старика с красным лицом и густыми седыми усами, на которого ранее не обращал внимания. Это был генерал Депрерадович.
Генерал смотрел на него уже, видимо, долго, и это стало неприятно Грибоедову. Когда старик заметил, что Грибоедов глядит на него, он равнодушно поднял бокал, слегка кивнул Грибоедову и едва прикоснулся к вину. Он не улыбался.
За столом замешались, стали вставать, чтобы перейти в залу покурить, и генерал подошел к Грибоедову.
– Алексей Петровича видели в Москве? – спросил он просто.
– Видел, – сказал Грибоедов, смотря на проходящих в залу и показывая этим, что нужно проходить и здесь беседовать неудобно.
Генерал, не обращая внимания, спросил тихо:
– С сыном моим не встречались?
Депрерадович был серб, генерал двенадцатого года, сын его был замешан в бунте, но больше на словах, чем в действиях. Теперь он жил в ссылке, на Кавказе, старику удалось отстоять его.
Грибоедов с ним не встречался.
– Засвидетельствуйте мое почтение его сиятельству.
Генерал прошел в залу. На красном лице было спокойствие, презрения или высокомерия на нем никакого не было. В зале сидели уже свободно, курили чубуки, и Чернышев с Левашовым расстегнули мундиры.
Левашов, маленький, в выпуклом жилете, с веселым лицом, говорил о хозяине дома. Сухозанет в это время отозвал тестя в угол и разводил руками, он оправдывался в чем-то. Толстый старый князь слушал его с заметным принуждением и поглядывал рассеянно на канапе – там сидели старики: Опперман и Депрерадович.
Левашов говорил, обводя всех значительным взглядом.
– Наш хозяин молодеет, он вспомнил старые привычки. Сегодняшний обед тому доказательством: sans dames [без дам].
Засмеялись. Сухозанет был выскочка, его двигала по службе жена, княжна Белосельская-Белозерская. В свете говорили о нем и то и се, а главным образом, о странных привычках его молодости. Но Сухозанет уже верхним чутьем почуял, что смех неспроста, упустил старого князя и присоединился к компании.
Старик присел в кресло и зажевал губами. В углу шел громкий спор между Депрерадовичем и стариком Опперманом. Опперман удивлялся военному счастью Паскевича.
– С шестью тысячами инфантерии, двумя кавалерии и несколькими орудиями разбить всю армию, воля ваша, это хорошее дело.
Депрерадович сказал громко, как говорят глухие, на всю залу:
– Но ведь Мадатов разбил перед тем весь авангард, десять тысяч Аббаса-Мирзы и ничего почти не потерял людьми, при Елисаветполе.
Бенкендорф посмотрел на генерала, сощурясь:
– Генерал Мадатов мало мог повлиять на эту победу.
– Артиллерия, артиллерия решила! – крикнул туда Сухозанет.
В это время князь Белосельский спросил равнодушно Чернышева:
– Уже вступили, граф, в свои владения?
Чернышев побагровел. Он запутал в дело о бунте своего двоюродного брата, сам судил его и упек в каторгу, чтобы завладеть громадным родовым майоратом, но дело как-то запуталось, кузен на каторгу пошел, а майорат всё не давался в руки.
На минуту замолчали.
Странные люди окружали Грибоедова, со странными людьми он сегодня обедал и улыбался им.
Суетливый хозяин, Сухозанет, был простой литовец. Постный и рябой вид его напоминал серые интендантские склады, провинциальный плац, ученье. Два с лишним года назад, в день четырнадцатого декабря, он командовал артиллерией на Сенатской площади, и пятнадцатого декабря оказался генерал-адъютантом.
Левашов, Чернышев и Бенкендорф были судьи. Они допрашивали и судили бунтовщиков. Два года назад, в унылом здании Главного Штаба Левашов протягивал допросный лист арестованному коллежскому советнику Грибоедову – для подписи. Коллежский советник Грибоедов, может быть, был членом Общества. Тогда Левашов был бледен, и рот его был брезглив, теперь этот рот был мокрый от вина и улыбался. Они сидели рядом. А напротив был Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, человек простой и крепкий, с такими жесткими густыми баками, словно они были из мехового магазина. Этот человек рассказывал грубые, но веселые анекдоты. Он распоряжался тому два с лишним года, летом, на кронверке Петропавловской крепости повешением пяти человек, троих из которых хорошо знал коллежский советник Грибоедов. Один из его знакомых сорвался тогда с виселицы, разбил себе нос в кровь, и Павел Васильевич крикнул, не потерявшись:
– Вешать снова! – Потому что он был военный, деловой человек, грубый, но прямой, находчивый.
Василий Долгоруков вдруг сказал, взглянув искоса на Грибоедова:
– Но правду говорят, будто характер у графа совсем изменился.
Все поглядели на Грибоедова.
– От величия может голова завертеться. – Старик Белосельский тяжело поглядел на Чернышева и Левашова.
– Нет, нет, – любезно успокоил Левашов, – просто я знаю Иван Федоровича, он порывчивый человек, человек, может быть, иногда вспыльчивый, но когда говорят, что он будто трактует все человечество как тварь, я прямо скажу: я не согласен. Не верю.
Теперь они уж поругивали его. Теперь они как бы говорили Грибоедову: ты напиши графу – мы его хвалим и любим, поем аллилуйя, но пускай не возносится, потому что и мы, в случае чего…
Голенищев-Кутузов выступил на защиту.
– Ну, это вздор, – буркнул он. – Я по себе знаю: легко ли тут с этим, там с тем управиться. Поневоле печенка разыграется…
Тьфу, Скалозуб, а кто ж тут Молчалин?
Ну что ж, дело ясное, дело простое: он играл Молчалина.
Грибоедов посмотрел на белые руки и красное лицо Голенищева и сказал почтительно и тихо чью-то чужую фразу, им где-то слышанную, сказал точь-в-точь, как слышал:
– Что Иван Федорович от природы порывчив, это верно, и тут ничего не поделаешь. Mais grandi, comme il est, de pouvoir et de réputation, il est bien loin dávoir adopté les vices d’un parvenu [Но, возвеличившись во власти и славе, он, однако же, очень далек от того, чтобы обрести пороки выскочки].
А между тем этого-то слова как раз и не хватало.
Это слово висело в воздухе, оно чуть не сорвалось уже у старого князя; и стали словно виднее баки Голенищева, и нафабренный ус Чернышева, и выпуклый жилет Левашова, и румяные щеки Бенкендорфа.
Была пропасть между молодым человеком в черном фраке и людьми среднего возраста в военных ментиках и сюртуках: это было слово parvenu.
Они выскочки, они выскочили разом и вдруг на сцену историческую, жадно рылись уже два года на памятной площади, чтоб отыскать хоть еще один клок своей шерсти на ней и снова, и снова вписать свое имя в важный день.
На этом они основывали свое значение и беспощадно, наперерыв требовали одобрения. Но они об этом вовсе и не думали, у них был свой глазомер и обзор. Просто Голенищев и Левашов с ним согласились.
– Вот то-то и я говорю, – одобрительно мотнул Голенищев.
И Левашов тоже мелко закивал.
Для Бенкендорфа был выскочкой Чернышев, для Чернышева – Голенищев, для Голенищева – Левашов, для всех них был выскочкой молчаливый свойственник Паскевича. Только старый князь тусклыми глазами побежал по всем и по Грибоедову. Он ничего не сказал. Для него все они были выскочки, и за одного такого он выдал дочь-перезрелку.
Бенкендорф встал и отвел Грибоедова в сторону со всею свободою светского человека и временщика. Тотчас Грибоедов, смотря один на один в ямочки щек, стал молчалив и прост.
– Я патриот, – сказал Бенкендорф, улыбаясь, – и потому ни слова о заслугах графа. Но мне хотелось бы поговорить о моем брате.
У брата Бенкендорфа, генерала, были какие-то неприятности с Паскевичем.
– Константин Христофорович – благороднейший рыцарь в свете, – сказал учтиво Грибоедов.
Бенкендорф кивнул.
– Благодарю вас. Я не вмешиваюсь в причины, хотя и знаю их. Но граф, говорят, публично радовался отъезду брата.
– Я уверяю вас, что это сплетни и недоброжелательство, и только.
Бенкендорф был доволен.
– Вы знаете, завтра аудиенция для вас, и только для вас, у государя. – Потом он замялся. – Еще одна просьба, впрочем, незначительная, – сказал он и прикоснулся пальцами к пуговице грибоедовского фрака (никакой, собственно, просьбы до сих пор не было). Брату весьма хочется получить Льва и Солнце. Я надеюсь, что граф найдет это возможным.
Он улыбнулся так, как будто говорил о женских шалостях. Знаменитые ямочки воронкой заиграли на щеках. И Грибоедов тоже улыбнулся понимающей улыбкой.
Так Грибоедов обращался в атмосфере всяческих великолепий.
Так он стал важен.
24
Яростное бряцанье шпор происходило в его нумере. Войдя, он увидел офицера, который бегал по его комнате, как гиена по клетке. Увидя входящего, офицер круто остановился. Потом, не обращая внимания на Грибоедова, снова заметался.
– Я жду господина Грибоедова, – сказал он. У него было лицо оливкового цвета, нездоровое, и глаза бегали.
– К вашим услугам.
Офицер с недоверием на него поглядел. Офицер возвращал его к нумерной действительности. Офицер представился навытяжку:
– Лейб-гвардии Преображенского полка поручик Вишняков. – И рухнул в кресла.
– Чем могу…
– Без церемоний. Вы видите перед собой несчастного человека. Я пришел к вам, потому что сосед по нумерам и потому что слыхал о вас. – Он задергал в креслах правой икрой.
– Я накануне гибели. Спасите меня.
«Проигрался и сейчас будет денег просить».
– Я слушаю вас.
Офицер вытащил из обшлага лепешку и проглотил.
– Опиум, – пояснил он. – Простите, я привык. – Потом он успокоился. – Вы давеча могли меня принять за сумасшедшего. Прошу прощения.
– Позвольте, однако, узнать…
– Сейчас узнаете. Прошу у вас только об одном: всё останется между нами. Хотите – остаюсь, не хотите – исчезну навеки.
– Извольте.
– Я в последней крайности. О нет, – офицер поднял руку, хотя Грибоедов не сделал ни одного движения. – Дело не в деньгах. Я приехал с индийских границ. – Офицер зашептал с усилием: – Меня послали по секретной надобности. Англичане раскрыли. Я – сюда. Дорогою узнал, что здесь находится английский чиновник, ему поручено добиваться в министерстве моего разжалования. Министерство я знаю, ежели оно от меня отречется – а оно отречется, – я за год лишений, лихорадки… – Офицер забил себя в грудь. – Я на человека стал не похож, – сказал он хрипло и добавил совершенно спокойно: – За год командировки – наградой конечная гибель. – Он начал механически тереть лбом о руку, мало интересуясь тем, что скажет ему Грибоедов.
– Вы не знаете, какой английский чиновник имеет поручение, относящееся собственно до вас?
– Не знаю, – захрипел офицер. – Об ист-индских делах были сношения между ост-индским правлением и ихней персидской миссией.
Грибоедов подумал с минуту. Доктор Макниль убивал в Петербурге несколько зайцев. Один заяц сидит у него сейчас и хрипит, а другой…
Он прикоснулся к холодной офицерской руке, как человек, имеющий власть.
– Доверьтесь мне, всецело доверьтесь, не предпринимайте ничего отчаянного. Ждите.
Когда поручик ушел, Грибоедов сказал Сашке пойти к английскому доктору и спросить, может ли он принять его.
Сашка вернулся и доложил, что доктор вчера выехал, а на месте его квартирует самый большой итальянский артист – так говорит нумерной.
25
Стрелявший с отьня злата стола салтаны за землями.
«Слово о полку Игореве»
И дальше, и выше, и вот его метнуло на тесную аудиенцию к известному лицу.
О чем можно говорить на тесной аудиенции с известным лицом? Обо всем, что спросят. Если же лицо скажет: «Говори откровенно, так, как ты бы сказал родному отцу», нужно понимать это буквально, потому что с родным отцом полной доверенности и откровенности у человека может и не быть. Это означает другое: можно не так часто повторять: Votre Majeste [ваше величество], а говорить просто: Sire [государь].
Как говорить?
Но это совершенно известно: весело.
Повелитель седьмой части планеты имеет право укоротить расстояние между собою и дипломатическим курьером. Например, они могут оба сидеть на софе. Между ними, таким образом, не одна седьмая часть мира, а цветной штоф. Это называется: разговор en ami [дружеский]. Есть еще другой разговор: en diplomate [дипломатический].
И что же? Они сидели на софе.
– Говори со мной откровенно, так, как если бы ты говорил с родным отцом.
Николай Павлович был безус, безбород и на полтора года моложе Грибоедова. Грудь у него была обложена ватой. Он был строен, а руки слишком длинные, с большими кистями, и висели, как картонные. Он слегка горбился.
– Я уважил все представления Ивана Федоровича. Я знаю, что он даром не представит. Но боюсь его огорчить. Он представил одного солдата, некоего Пущина… из моих друзей… mes amis de quatorze [моих друзей по четырнадцатому (декабря)]. В офицерский чин. Я полагаю: рано. Пусть послужит. Я дал ему унтер-офицера.
Михаил Пущин, его «друг четырнадцатого декабря», разжалованный в солдаты, командовал взводом пионеров и отличился еще при взятии Эривани. Ширванский полк взбирался на Азбекиюкскую гору. Гора была покрыта лесом, и Пущин с пионерами двое суток неусыпно, под неприятельской пальбой, расчищал лес и прокладывал дорогу. Он был опытный инженер, которому нечего было терять более.
Грибоедов рекомендовал его Паскевичу, а Паскевич, в начале кампании не уверенный в успехе, дорожил людьми. Солдат на деле всю кампанию нес обязанности офицера. Грибоедов ходатайствовал перед Паскевичем о возведении его в офицерский чин, Паскевич подписал бумагу.
Грибоедов улыбнулся императору сострадающей улыбкой.
Пропасть была между некиим Пущиным, которого, однако, он превосходно знал, и цветной софой, на которой он сидел.
– Я понимаю, как тяжело вашему величеству принять такое решение.
– И притом некоему Бурцову, полковнику, Иван Федорович, как слышно, поручил написать историю кавказских войн. Или кому-то другому из тех… из… – И он сделал короткий жест указательным пальцем: вверх, в окно.
За окном была Нева, за Невою Петропавловская крепость, в Петропавловской крепости сидели – те. Он привык к этому жесту, и все понимали его: он показывал на шпиль собора.
Бурцов тоже был его «друг четырнадцатого декабря», сосланный, по выдержании в крепости, на Кавказ.
Какая доверенность говорить с ним о таких вещах! Николай быстро вдруг и метко взглянул на Грибоедова.
– Я получил письма, которым не доверяю. Пишут, что Иван Федорович будто стал раздражителен и заносчив свыше меры.
– Он, ваше величество, порывчив, вы это знаете. Mais grandi, comme il est, de pouvoir et de réputation, il est bien loin d’avoir adopté les vices d’un parvenu [Но получив власть и репутацию, он не приобрел пороки выскочки].
Николай, отвоевавший престол и сидевший на нем при живом законном наследнике, был немного в том же роде. Он смотрел на Грибоедова внимательно, осмотрел его сразу всего, скользнул вверх и вниз и остановился взглядом на очках. Взгляд был неопределенный, как бы смущенный, быстрый и, как начинали поговаривать, был похож на взгляд Петра Великого. Осмотром Грибоедова он остался доволен. Он кивнул. Потом сказал важно:
– Теперь хочу от вас услышать по вашей части. У меня к вам полная доверенность.
Грибоедов склонил голову и увидел начищенные сапоги Николая.
– Меня заботит уже давно обстоятельство важности чрезвычайной. Иван Федорович же ничего мне об этом не пишет.
Он сказал то, о чем ему три дня назад говорил князь Петр Волконский и для чего он вызвал Грибоедова, но так, как будто всё придумал сам.
– В Персии занято двадцать пять тысяч войска. Три провинции, – он забыл их названия, – под моим ружьем. Это необходимо, чтобы иметь заклад. Войска нужны Иван Федоровичу в Турции. Сражаться sur deux faces [на два фронта] невозможно. Иван Федорович имел об этом с вами суждение?
Будучи недурным фронтовым генералом, он плохо разбирался в планах кампании. Каждая задержка и неисправность казались ему неустранимыми, а победе он радовался, как случайности. Важность голоса он вырабатывал с трудом в течение двух лет и боялся сомнения в себе. Так он вел себя с военным министром и с ужасом знал, что старик Волконский понимает его. Поэтому он полюбил внезапные решения, которых сам немного пугался. Разговор начинал с кавалергардской фамильярности, а к концу отталкивал совершенным холодом. Или наоборот. Он привык, как женщина, много думать о том, что о нем говорят и что, думают, и поэтому обращение его было не мужское. Пять или шесть раз на день он менял мундиры.
– Передайте на словах Ивану Федоровичу, чтобы он во всем надеялся на меня. Моральное здоровье его после победы над персиянами восстановится. Физические недуги полечит после победы над турками. Вам мы скоро приищем дело. Я уже говорил с Карлом Васильевичем.
Говорил он быстро и отрывисто – фразу за фразой. Легко укоротить расстояние от седьмой части планеты до софы, но потом требуется особая, механическая легкость слов, иначе расстояние чрезмерно укоротится. Требуется неопределительность взгляда. Требуется, чтобы коллежский советник думал, что собеседник обо всем думает сам, что он уверен в победе над турками и уверен в коллежском советнике.
И Грибоедов вдруг необыкновенно просто спросил:
– О чем, ваше величество?
Но император посмотрел уже решительно туманно. Он не знал, приличен ли вопрос, и принял по привычке озабоченный вид: нужно было кончать аудиенцию; надлежало поставить какой-то point, точку. Этот point должен был одновременно показать расстояние и расположить. Требовалось: оказать знак доверенности и осадить.
Николай вышел из озабоченного состояния.
– Признаюсь, entre nous deux soit dit [между нами говоря], – сказал он и улыбнулся. – Я уже опасаться начинал во время наших негоциаций с персиянами.
– Опасаться неудачи, ваше величество?
– О, напротив, – и Николай посмотрел поверх Грибоедова, – напротив, я опасался чрезмерной удачи. – Склонив глаза до уровня коллежского советника, он остался доволен его удивлением. – В Персии могло подняться возмущение черни. – Он холодно приподнял бровь. – Я же признаю законных государей. Династия Каджаров должна царствовать. Он смотрел куда-то в окно, поверх Грибоедова, как будто никого перед ним не было.
Ермолов разрабатывал персидский план войны против России. Николай боялся, чтоб не свергли шаха с престола.
– Каджары в Персии не народны, – сказал коллежский советник и спохватился.
Николай, не отвечая, не смотря на него, кивнул еле заметно. Аудиенция кончилась.
Длинноносые штиблеты, расшаркиваясь, столкнулись и так легко пошли по паркету.
Совершенные ляжки в белых лосинах остались на цветочном штофе.
26
Всё идёт прекрасно, не так ли?
Вот стоит апрель на дворе, вот предстоит большая удача. Вот человек почти забыл, что самой природой предназначено ему не верить людям, вот он простил любовницу, которая ему изменила, вот он думает о другой, еще девочке. Всё принадлежит ему. Он не изменился, не правда ли? Он только повеселел?
Правда, большая власть ему готовится, но ведь он-то – тот же самый?
Кто сказал, что он стал самодоволен и важен и даже потолстел? Это Пушкин сказал где-то в обществе или, кажется, Сеньковский?
Что он как бы раздулся, стал выше ростом и немного задирает плечи?
Почему это сказали и кто это сказал?
Никто этого, может быть, даже и не говорил.
Может быть, он стал только более близорук, и потому он кажется надменным.
Не так ли?
Он всё тот же.
Только теперь пошли важные дела, ему некогда всматриваться в мелочи, в мягкие, и нежные, и незрелые мелочи.
Всё идет прекрасно, он не чувствует ничего дурного, не правда ли?
Он вот полюбил по вечерам распить бутылку вина вдвоем с зеленым и заморенным офицером, у которого несчастье в Индии.
Он предупредил это несчастье, он замолвил слово Нессельроду, и тот пошутил.
Приятно сознавать, что спас человека. Это приятнее, чем подать милостыню нищему на улице. И он не придает этому никакого значения.
Офицер сидит и дрожащими пальцами наливает себе вино. Он еще запуган. У него неприятности.
Приятно самому не пить, а наблюдать другого.
Офицер поет безобразную песню, тихо:
Я иду…
Куда?
В… Кострому…
А зачем?
И он усмехается.
Когда офицер напивается и мало что понимает, Грибоедов говорит ему тихо, но так, чтобы он расслышал:
– Я уезжаю скоро на Кавказ. Но вы оставайтесь здесь, – он повышает голос, – или можете уехать к себе в деревню.
И офицер соглашается.
27
Он поехал в министерство.
В большой приемной он просидел всего минуты две. Потом дверь кабинета широко распахнулась, и зеленый, какой-то съежившийся, выбежал оттуда поручик Вишняков, придерживая саблю. Он бежал, выгнув голову вперед, на цыпочках, широкими, неслышными шагами, как будто прыгал через лужи.
Грибоедов негромко его окликнул:
– Поручик…
Тогда поручик остановился и посмотрел на Грибоедова. Он постучал перед ним зубами.
– Ммм. С кем имею честь? – И, забыв что-то или не узнав Грибоедова, не обратив на него ни малейшего внимания, повернулся, перепрыгнул последнюю лужу и скрылся в дверях.
Грибоедов услышал, как брякнула сабля за дверью.
Дверь опять распахнулась. Из кабинета вышел чиновник и попросил Грибоедова.
Нессельрод стоял у стола, без очков. Лицо у него было серое, без улыбки, а глаза, выпуклые, жидкие, растекались во все стороны. Он был в гневе. Родофиникин сидел в креслах. Потом Нессельрод надел очки и улыбнулся Грибоедову. Начались странные разговоры.
– Мы вам одолжены тем, что трактат был подписан только тогда, когда персияне внесли уже первые… суммы… куруры. – Нессельрод махнул ручкой. – Вы знаете, любезнейший Александр Сергеевич, наш граф Эриванский награжден миллионом.
Это сказал без надобности Родофиникин.
У руководителей был какой-то разброд, в глазах и словах. Они не ожидали ответа, а говорили в воздух, точно ждали чего-то или кого-то.
– Государь говорил мне о вас. – Нессельрод наконец остановил свои глаза. Он потер зябкие ручки и взглянул на Родофиникина. – Мы нашли наконец место, достойное вас.
Грибоедов вытянул губы гусем. Он сидел, наклонившись вперед, поджав под кресла ноги, и не мигал.
– Место важное, единственное, – Нессельрод вздохнул. – Место поверенного в наших делах в Персии. – Он поднял значительно палец.
И ни слова о Кавказе, о Закавказской Мануфактурной Компании. А ведь он пришел сюда, чтобы услышать именно о проекте, который…
Он взглянул на Родофиникина, а тот был седой, почтенный, учтивый. Нужно было тотчас же, тут же рассердиться, стукнуть кулаком по столу и разом покончить с министерством иностранных и престранных дел.
Но он не мог.
Человек, сидевший на его месте, в зеленом чиновничьем вицмундире, сказал его голосом, довольно сухо:
– Русский поверенный в делах ныне в Персии невозможен.
Нессельрод и Родофиникин смотрели на него, и выражение у них было выжидательное. И он вспомнил о другой казенной комнате, о той военной и судебной комиссии, где заседали Левашов с Чернышевым; и те так же тогда смотрели на него и ждали, когда он прорвется.
– Потому что англичане содержат в Персии своего посла, а все дело в Персии теперь на том стоит, чтоб шагу не уступать английскому послу.
Руководители переглянулись.
– Государю надлежит там иметь своего полномочного посла, а не поверенного в делах. – Грибоедов слушал свой голос, голос ему не нравился. Он был невыразителен. – Я же и по чину своему на этот пост назначен быть не могу. И притом же я автор и музыкант. Следственно, мне нужен читатель и слушатель. Что же я найду в Персии? – И с надменностью, как будто он гордится тем, что чин его мал, он откинулся в креслах и заложил ногу на ногу.
Он был неприступен – чин коллежского советника его охранял. А музыка и авторство были смешные занятия в глазах начальства, и он нарочно, назло это им сказал.