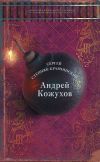Текст книги "Смерть Вазир-Мухтара"

Автор книги: Юрий Тынянов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
– Ммм.
– Кто это избил его так безобразно? – спросил Грибоедов беспомощно и с отвращением. – Мерзавцы.
– Известно кто, ваше превосходительство, – на базаре, – ответил столь же тихо и как-то важно казак.
Доктор Аделунг возился уже над Сашкой. Он смыл теплой водой кровь, присмотрелся к голове и прикоснулся к пульсу, аккуратно, как писец, помедливший на красной строке.
– Ничего нет опасного, – сказал он Грибоедову. – Нужно дать ему водки.
Влили в Сашкины губы водки, и Сашка, чистый, в белых бинтах, смирно лежал на своей постели. Грибоедов не отходил от него. Он поил его с ложки и смотрел на него с тем отчуждением и боязнью, которая бывает в таких случаях только у самых близких людей. Сашка вскоре заснул. Грибоедов просидел над ним до самого вечера.
Сашка был его молочный брат. Он помнил его маленьким мальчиком в синем казакине. Мальчик был с туманными глазами, желтыми цыплячьими волосами и вздернутым носом. Он стоял неподвижно посредине барской комнаты, словно ждал, что его толкнут сейчас. И Грибоедов толкал его. Сашка не плакал.
Грибоедов глядел в окно на четырехугольный двор с белеными стенами.
Саша Одоевский, его кузен, приезжал тогда, и они запрягали Сашку и долго его гоняли, а Сашка, как гонялый зверь, мчался туда и сюда, натыкался на кресла, пока маменька Настасья Федоровна не выпроваживала его в людскую. Саша Одоевский теперь в кандалах, а Сашка забинтован.
И он вспомнил, что папенька словно сторонился Сашки, словно даже побаивался его и хмурился, бывало, завидя его в комнатах, а маменька точно назло зазывала Сашку. Он вспомнил косой папенькин взгляд. И посмотрел на покатый лоб, на тонкие Сашкины губы; неужели Сашка и впрямь – его единокровный брат? Словно что-то в людской говорили об этом при нем, маленьком, – или словно спорил кто-то, няню поддразнивали, и няня плакала?
И еще дальше – теплые колени няни, Сашкиной матери, и важное, певучее вразумление:
– Ай, Александр Сергеевич, заводач!
Нина сидит в Тебризе и мучается. Он виноват, телом виноват. Пусть спасутся все любимые им когда-то: Саша Одоевский, Нина, Фаддей, Катя и – Сашка. Пусть спасутся они, пусть их жизнь будет тихая, незаметная, пусть они спокойно пройдут ее. Потому что, если отмечен кто-нибудь, нет тому покою, и спасаться он должен на особый манер.
– Как я человек казенный, – хрипло сказал Сашка.
Грибоедов прислушался.
– Необразованность, – заявил Сашка.
– Спи, чего расходился? Заводач, – сказал Грибоедов.
Сашка успокоился.
Уже свечу зажгли, и заглянул Мальцов: ему нужен был Грибоедов.
– Рази? – спросил тоненько Сашка. – Рази мы уже уезжаем из городу Тегерану?
8
Вечером Грибоедов писал письма: Нине, матери, Саше Одоевскому. Письмо к матери он отложил в сторону. Отложил и письмо к Саше. Саша сидел в сибирском каземате, и нужно было ждать случая – годы.
Потом он принялся за письмо Паскевичу:
«Почтеннейший мой покровитель, граф Иван Федорович.
Как вы могли хотя одну минуту подумать, что я упускаю из виду мою должность и не даю вам знать о моих действиях… Я всякую мелочь, касательно моих дел, довожу до вашего сведения, и по очень простой причине, что у меня нет других дел, кроме тех, которые до вас касаются… Вот вам депеша Булгарина об вас, можете себе представить, как это меня радует: “…это суворовские замашки… Герой нынешней войны, наш Ахилл – Паскевич Эриванский. Честь ему и слава. Вот уже с 1827 он гремит победами”. – А я прибавлю, с 1826. Впрочем, посылаю вам листочек в оригинале. Я для того списал, что рука его нечеткая…»
И писал, и писал, и писал. Потом остановился вдруг и приписал: «Главное». Подчеркнул и разом:
«Благодетель мой бесценный. Теперь без дальних предисловий просто бросаюсь к вам в ноги, и если бы с вами был вместе, сделал бы это и осыпал бы руки ваши слезами… Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского… У престола Бога нет Дибичей и Чернышевых…»
9
Сашка проболел неделю. Его избили действительно довольно сильно. Все эти дни Грибоедов заходил к нему и подолгу сидел.
Мало-помалу Сашка рассказал в чем дело, и дело было не так просто. Здесь была не только необразованность.
Сашка, будучи казенным человеком, гулял по базару. Он не интересовался никаким товаром и ничего не хотел купить, но приценивался ко всему. Так он ущупал рукою кусок какой-то ткани и поднял его с прилавка, чтобы посмотреть на свет, для наблюдения. Может быть, он отошел шага на два с куском, так как у самой лавочки было темновато. Он не собирался не то что стащить этот кусок, но даже и купить его. Просто в рядах на Москве все барыни делали так же, самого тонкого образования. По персиянской серости торговец закричал. Что он кричал, Сашка не понял, но понял одно: торговец ругма-ругается. Сашка двинулся к лавочке – положить кусок нестоящей материи и обругать лавочника. Тут разные шарабарщики закричали, и особенно много кричал сапожник, тощий, как конь, тогда как Сашка даже не подходил близко к его лавочке, потому что от его товару идет смрад и кругом грязь: обрезки и хлам. В это время подбежали двое сарбазов в длинных волосьях и враз ударили палками по Сашкиной спине. Сашка сказал им, что он человек казенный, из русского посольства, и его господин – главный, поставленный над всем здешним городом, а палочки их, может, пройдутся по их же пяткам.
В ответ на это сарбазы на чистом русском языке закричали ему: «Сволочь! Гнида московская!» – и уж стали бить его палками почем зря. Шарабарщики тоже начали его хлестать, кто чем, а он всё стоял бодро.
Потом, когда у него немного затуманилось ясное зрение, будто бы появился персиянский офицер, который на чистом русском языке сказал сарбазам: «Это что? Это что такое?» Потом он будто бы им сказал: «Не в очередь в караул» – и прибавил как бы: «Хану доложу». Больше он не помнил ничего, а принесли его к дому сарбазы уже чисто персиянского вида.
– Московская гнида? – спросил Грибоедов.
И он написал шаху предложение о выдаче Самсон-хана и употребил при этом половину титулов шахских, что означало требование.
10
Оправившись, Сашка повеселел.
Он встрепанной белокурой птицей бродил по трем дворам и затевал разговоры с казаками.
– Вы, служба, родились, конечно, в Донских областях, – говорил он молодому казаку, – вам рано, как говорится, забрили лоб и отдали под барабан. Мое же дело – казенное, я по статской части. Я более интересуюсь хорошим разговором, и когда мы с Александром Сергеевичем вернемся в Петербург, то уж будет: музыка, разговоры и гостей без конца. Другому казаку он даже сказал как-то покровительственно: – Мне вас даже, служба, хочется спросить: что у вас в жизни впереди? Сегодня барабан, завтра барабан. Время вы не можете проводить, как хотите. А я скоро получаю вольную.
Эта неосновательность и болтливость была вовсе не свойственна Сашке. Никакой вольной Грибоедов, по-видимому, не собирался ему давать. И казаки хмурились, когда он болтался по двору. Он стал размахивать руками, чего с ним ранее не бывало. Его как-то взмывало. Он часто повторял, что он человек казенный, что он теперь видел Персию и может в будущем очень пригодиться. Кому? – оставалось неизвестным.
Вернее всего, ему было стыдно казаков, которые видели его в избитом состоянии, и он растерялся. Раз, выйдя за ворота и отойдя малую толику в сторону, он повстречал того русско-персиянского офицера, который избавил его от палок русских сарбазов.
Сашка прошел, не подавая виду, но офицер остановился.
– Постой, любезный, – сказал он и сразу покраснел.
Сашка возразил, что он человек казенный и стоять с офицером не может по закону. Но офицер, видимо, и сам заробел. Он сказал, не глядя на Сашку:
– У меня дело самонужное. Не могу ль я повидаться с кем-либо из господ чинов российской миссии?
Сашка осмотрел его всего.
– А для чего-с? – спросил он отрывисто.
– Это дело я смог бы объяснить кому-либо из чинов, – ответил офицер вежливо.
– Как я теперь казенный человек… – сказал Сашка.
11
– Хабар-дар! Хабар-дар!
Верблюжий погонщик так ловко вел свой караван по базару, что чуть не задавил трех бедняков.
Бедняки кричали пронзительно:
– Я-Али!
Они влезли в самую лавку агенгера, кузнеца. Кузнец с щипцами в руках кричал на них и толкал их вон. Молотки звенели, визжали напильники челонгеров, слесарей. Погонщики ругались, нищие кричали, и какой-то сарбаз стащил поэтому кусок мяса у мясника.
Мясник схватил камень, служивший ему вместо гири, и пустил в удирающего сарбаза. Он попал прямо в полку художника, где стояли расписные калямданы, чернильницы. Художник, рассвирепев, выскочил из лавочки, по дороге ему попался эзгиль и арбуз в корзине у продавца, он схватил арбуз и метнул им в мясника.
Шла драка. Нищих избивали лоты, а лотов кусали за икры голодные, ошпаренные собаки.
– Хабар-дар! Хабар-дар!
Толпа слуг, спереди и сзади окружавших парадную колымагу, били кулаками в спины прохожих – чтоб расступились.
В кофейной сидели посетители и смотрели на мясника, художника и челонгеров. Они пили кофе из маленьких чашечек и разговаривали.
Крытые базары, полутемные, с чашками куполов, растянулись на версты. Сквозь дыры в куполах било солнце, и солнечные столбы как бы подпирали купола.
На базарах дрались с особым ожесточением именно в эти дни.
Погонщик был виноват перед нищими, нищие перед агенгером, сарбаз перед мясником, мясник перед художником, художник перед фруктовщиком.
Толпы нищих и лотов бродили по базару. Все были виноваты. А посетители кофейной пили кофе и разговаривали. Среди важных прений о делах государственных визири пьют кофе, чай, курят кальяны. Многочисленные пишхедметы всегда при них в комнатах, ибо невозможен без этого ташаххюс. Визири рассуждают громогласно, при открытых окнах и дверях. Стоящие на дворе ферраши прислушиваются. Потом слова выползают на улицу и гуляют по базарам.
Посетители кофейной говорили о новостях.
Ковер в Персии – мебель и кофейная – газета. Кадий, пришедший сюда, – суровая официальная статья, прихлебывающая кофе, два старика – статьи забавные, они курят кальяны, один купец – хроника, а другой, потолще, – объявление о товарах.
– Самых лучших ковров у меня нет, из Хорасана не присылают, но лучшие ковры у меня есть, и они стоят недорого. И они еще лучше хорасанских.
– Мелик-уттуджар суконщиков берет себе после мухаррема сразу трех сига. Когда у него будет время для своих агда? Нравы у нас портятся. Мой отец имел только четырех агда и ни одной сига, и у него хватало времени для всех.
– Английский хаким-баши раздавал очки и перочинные ножички. Он прислал мне очки на дом, но я их не ношу, потому что еще хуже вижу в них.
– Я скажу вам, – говорит кадий, – с тем, чтобы вы никому не говорили: две жены Алаяр-хана перешли к русскому Вазир-Мухтару. Они чистокровные персиянки, и они ночью ушли в русское посольство и сидят там.
– Мы уже слышали, мы уже слышали. Но они неверные, и говорят, что они из Караклиса. Они неверные, – говорит старик.
– Торговля упала, – говорит купец, – и я дал обет резать себя в дни ашуры.
– У меня сын дал обет, – говорит беспечно старик, – и я нанял еще одного. А другой сын будет изображать Езида, да будет проклято его имя.
Близок печальный месяц мухаррем, когда убили святого имама Хуссейна. Будут резать себя саблями давшие обет. Будут окрашены кровью белые саваны, в которые они облекутся. Проткнут себя иглами и ущемят замками свое мясо. Пеплом посыплют себе головы. И актера, который будет изображать проклятого Ибн-Саада, въехавшего на черном коне, чуть не растерзают эти же вот старики и купцы, которые пьют кофе из чашечек так спокойно. И, засветив восковые свечи, во второй день ашуры будут искать по дворам исчезнувшего пророка, останков его.
А пока они пьют кофе.
Вести о Вазир-Мухтаре скудны на базаре, как хорасанские ковры. Ковров не получить из Хорасана, там возмущение, можно обойтись и без них. Никто уже не помнит, что слугу-кяфира избили на базаре. Кяфиры – чужие люди, и с ними ведут дела чиновники. Товары стали хуже, лоты бродят толпами, не стало житья от лотов.
Каждый день на базаре палачи бьют воров по пяткам, отрезают правые руки, вспарывают животы.
12
Визиты были отданы не совсем удачно: к Абуль-Хасан-хану он попал к третьему, надо бы ко второму. С этим ташаххюсом можно было поистине потерять голову. Зато – за него двое других.
Кое-кто из высокопоставленных не захотел удостоить ответным посещением. И ладно. Дело на том и кончено.
Шах поддавался, шах уплатит восьмой курур сполна. На приватной аудиенции, когда шах весил на пуд меньше, чем на официальной, он сказал ему: «Вы мой эмин, вы мой вазир, все мои вазиры – ваши слуги, во всех делах ваших прямо адресуйтесь к шаху, шах ни в чем вам не откажет», и еще, и еще. Положим, что это форма пустая, но чутьем можно было понять: будет восьмой курур.
Пленные были много неприятнее. Прежде всего не все они были пленными. Многие жили уж здесь по десять – пятнадцать лет, а происходили из провинций, которые были русскими завоеваны без году неделя. Но трактат должен был быть исполнен. Влияние русское должно было быть утверждено, иначе непонятно, зачем он здесь сидел.
Он представлял российскую державу на Востоке, а это не безделица. Тысячи семейств переходили, изменяли жизнь свою – он выводил их из Персии, как некогда вывел Моисей из Египта евреев. Все же надоедали они, путались целый день.
Раз ночью две женщины попросили казаков пропустить их в посольство для важных разговоров. Казаки не хотели. Вызвали Мальцова.
Женщины оказались – одна армянкой, другая немкой. Они были похищены недавно и доставлены в гарем Алаяр-хана. Обе происходили из Караклиса и хотели вернуться на родину. Уйти им удалось через Алаяр-ханова евнуха, которого они подкупили.
Мальцов приказал доложить Грибоедову. Грибоедов, не вставая с постели, распорядился: принять, поместить во втором дворе, отвести им особое помещение. Алаяр-хан по силе трактата был то же, что и любой лавочник. Ему не мешает подумать о русском трактате.
Назавтра пришел к Грибоедову Ходжа-Мирза-Якуб.
Евнуху шахскому было поручено просить Грибоедова уступить жен Алаяр-хана. Он просидел недолго, и разговор был короткий.
Грибоедов посоветовал Алаяр-хану обратиться в российское министерство иностранных дел, к господину Нессельроду. Может быть, он сделает исключение в трактате для Алаяр-хана. Ходжа-Мирза-Якуб посмотрел в зеркала, увидел себя и Грибоедова, подумал немного, потом медленно поднялся, поклонился вежливо и ушел.
13
Когда Самсон узнал, что Грибоедов добивается дестхата о его выдаче, он никому ничего не сказал. Он подтянулся только, подвязался покрепче и пошел для чего-то осматривать свой дом.
Стройка была крепкая.
– Белить нужно, – сказал Самсон деду-дворнику и ткнул пальцем в облупившуюся белую скорлупу на стене.
Он ковырнул ее пальцем, скорлупа стала в нежных трещинах, и трещина поползла далее. Он осмотрел забор.
– Забор чинить, подпоры новые ставить.
Лужи на дворе его огорчили:
– Мостить надо.
И назавтра же стали белить дом.
Когда дом починили штукатуры и плотники и поправили забор, Самсон послал за Скрыплевым.
– Садись, – сказал он ему.
Скрыплев присел на край стула.
– Мне с тобой трудно говорить, – сказал Самсон, – и мой разговор недолгий. Только ты не хитри. Хитрить со мною ни к чему. Я кое-кого поумней пересиживал. – И только тогда взглянул на белобрысые волосы и крупные веснушки.
Скрыплев посапывал и молчал.
– Ты петь умеешь? – спросил серьезно Самсон.
– Петь? – Прапорщик удивился, и лицо у него стало обыкновенное, как всегда. – Н-нет, не умею.
– Знаю, что не умеешь, – сказал Самсон, – но если говорить не хочешь, так, может, попоешь?
– Прошу вас не шутить, ваше превосходительство, – сказал сипло прапорщик.
– А я шучу, – сказал Самсон, – я всё шучу. Всё как ни на есть. Всю жизнь шутил, а ты за меня отшучиваться будешь. Ну и хорошо. Помолчи. Я первый говорить буду. Есть о выводе дестхат.
Прапорщик опять удивился и опять стал как всегда.
– Выводить нас будут в Россию, под почетным караулом. Тебя, как командира, простят и дадут тебе в награждение шелковую нашивочку. На шейку твою. Как ты из высоких чинов и отец твой сидит в Херсоне главным куроводом.
Прапорщика покоробило. Он встал быстро.
– Прошу вас, Самсон Яковлевич, не затрагивать…
– А я затрагиваю, – сказал Самсон, – я всех затрагиваю и на твое прошение не гляжу. Ты прошение, чтобы не затрагивать, напиши на листочке и дай мне.
Скрыплев двинулся вон из комнаты.
– Не спеши, Астафий Василич. Ты это прошение изготовь, я подпишу, и мы его превосходительству главному Грибоедову вместе отправим. Что ж в одиночку!
Прапорщик уже не спешил. Он стоял, и кадык ходил у него над воротником.
Самсон помолчал.
– Я паршивую овцу в баранте держать не стану, – сказал он ровно, – и уходи на все четыре стороны. Я тебя не держу. Сегодня же собирай хламишко свой. Тебе дед подсобит, да я еще на дорогу тебе рыбьих мехов подарю. Зейнаб сюда зови.
Прапорщик двинулся.
– Не то постой, – сказал Самсон. – Может, не отпускать тебя? Ты, пожалуй, болтать станешь. Птица ты великая, беглый его императорского величества прапорщик. Тебе ж пропитание достать нужно будет. – Он смотрел на прапорщичьи ноги. – Продашь, пожалуй. Нет, лучше я тебя в яму посажу. Здесь ямы хороши. Посидишь годка два и подохнешь. Посадить тебя разве в яму? Дед тебя по-раскольницкому отпоет. Не то попа позвать можно.
Но прапорщик молчал. Белобрысое существо с яркими домашними веснушками, российский прапорщик Евстафий Васильевич Скрыплев прислушивался к словам Самсона, как к словам, не относящимся к нему. Словно он попал на театр, и там шло представление: переодетый ханом мужик ругал кого-то. Случайно кто-то это и был он сам. Персидские ямы, оскорбление: старого отца звали куроводом, какие-то рыбьи меха – все путалось у прапорщика, у Евстафья Василича Скрыплева, у Сташи.
– Зейнаб зови, – сказал Самсон лениво.
Вошла Зейнаб и стала почему-то у двери. Самсон оглядел ее и усмехнулся.
– Не нагуляла еще брюха. Ничего.
Зейнаб на него глядела очень ясно.
– Твой муж уезжает отсюда, – сказал он по-персидски. – К себе домой. Ты у меня жить будешь. Перебирайся в андерун. Сегодня же.
Зейнаб не заплакала, не испугалась.
– Ты поняла? Муж твой хараб. Я другого тебе мужа найду. Не плачь.
Она и не плакала.
– Моя вина, – сказал по-русски Самсон. – Загубил девку.
Он не подозвал ее и не приласкал. Она опостылела ему почему-то сразу же после замужества. Она была его дочь, но ни разу после свадьбы она уже не проводила рукой по его лицу.
– Что ж ты стоишь? Уходи. – Он махнул рукой.
– Я не хочу, чтобы муж уезжал, – сказала Зейнаб. – Сделай так, чтобы он остался.
– Уходи прочь. – Самсон встал и показал ей кулак. Не хан стоял в комнате, а беглый вахмистр Самсон Яковлев. – Уйди!
Зейнаб стояла так, как когда-то стояла ее мать-армянка, которую он убил, – подалась назад и не уходила.
– Убью, сволочь! – крикнул Самсон.
Он ударил ее кулаком в плечо, и, дрожа, потому что ничего уже не видел, а кулак ходил по своей воле, он вдруг разжал пальцы, схватил ее за волосы и бросил в дверь. Потом отшвырнул ее сапогом и прошел, топая, к скрыплевской половине. Он постоял у коричневой, обитой коленкором двери, сопя и тарахтя.
У двери он остановился. Он сжался, подтянулся. Он метнул кулаком в дверь, как в пустое место. Дверь ничего, не поддавалась. Тогда, отступив с отвращением, так же все сжавшись, он медленно отошел от двери и стал бить стекла в галерее. Он метал кулаком в стекло, как в пустое место, и стекло разбрызгивало, как мису с водой. Дойдя до последней рамы, он сунул в нее локтем, потому что руки у него были окровавлены.
Он стоял у конца галереи, там, где она выходила на балкон, и смотрел, как падает кровь с его рук. Капли вздувались на красной ладони, потом текли к пальцам и медленно, толстыми струйками падали с них.
– Куроводы, – сказал он тихо.
14
Месяц уже истекал с того дня, как приехал он в Тегеран. Курур будет, кажется, выплачен.
В сущности говоря, он был прежде всего честный и дельный чиновник. Хоть он и ругал Паскевича и Нессельрода, он уважал их все-таки. Потому и ругал, что уважал. Он, может быть, даже и был рад своему подчинению: вот и Тейрань пройдена, да как еще пройдена – восьмой курур будет получен. Его карьер теперь обеспечен. Фаддей и маменька рады будут, а о страхах он никому не скажет.
Ведь вот как всё оборачивалось.
Что такое Тейрань?
Это просто город Тегеран, это служебное усердие, благородная жажда служебных подвигов. Да и подвиги-то какие? Делопроизводство по большей части.
Маменька Настасья Федоровна знала о его честолюбии. Вкус служебной субординации был у него на губах. Еще немного, и он ощутил жажду покровительства, хотелось ему представить к крестишку доктора Аделунга. Он даже написал предобродушнейшее письмо об этом Паскевичу.
«Он меня об этом не просит, но еще в бытность мою в Тифлисе он очень желал быть лично известным вашему сиятельству. Все его знают за самого благонамеренного и расторопного человека… Мне самому смешно, когда вспоминаю свой собственный стих из „Горя от ума“:“Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, / Ну как не порадеть родному человечку”».
Иногда уже навертывалась шуточка: он повнимательнее относился к своим привычкам. А все оттого, что заметил, как Мальцов с добродушием, как будто так уж Богом положено, мирился с тем, например, что он вначале рассеянно слушал всякую бумагу, а потом заставлял повторять. Привычка, дескать, начальника.
Таков-то он был. Осанку свою и статуру он разок уж как-то оценил вдруг совершенно со стороны: что это очень полезно в персиянской политике. Ему нравилось уже, что при каждом поступке он сообразовался с мирным трактатом. Трактат был вполовину его рук дело, но теперь он вырос до размеров необычайных: шутка сказать, ничего не поделаешь, трактат!
Он несколько досадовал, что иногда какой-то провор толкал его на не совсем обдуманные поступки, например, перед шахом следовало просидеть поменее, ну хоть десять минут. Что за рассеянность дурацкая. Ведь это чудом только кстати вышло. Только с дервишем некстати, а все остальное кстати. Днем он, впрочем, скоро прощал себе и объяснял дело неопытностью. Вообще же он держался трактата. Были служебные недоразумения с Нессельродом, и, возможно, дело кончится отставкой.
По ночам же он смотрел на мебель, на ковры. Молился. Случилось раз – заплакал. Таков уж он был. Старел он быстро.
15
Всё дальше близкие предметы, и день кажется годом, и Сашку били на базаре чуть не в прошлом году.
Воздух разреженный, и в редком воздухе он делает шаг, а ему кажется, что прошел версту.
Дестхат о выдаче Самсона шел по путям медленным, бумагами, переговорами, и вел их Мальцов.
Путался у миссии прапорщик Скрыплев, и Мальцов вел с ним переговоры.
Можно подождать и в Тебризе разрешения сего конфликта.
Все-таки он медлил.
16
Наконец дал ему шах прощальную аудиенцию. Он не томил старика больше. И старик прислал ему орден Льва и Солнца первой степени, а Мальцову и Аделунгу – второй. Ордена были изрядной работы.
Рустам-бек и Дадаш-бек хлопотали: укладывались вещи, стучали во дворе молотки, заколачивались ящики, чистилась в конюшне сбруя. Была выволочена карета во двор, и казаки ее мыли мочалой и мылом старательно, и она блестела. Сашка стоял над коврами и медленно, лениво, словно нанося оскорбление, выколачивал их.
Завтра они уезжали из Тегерана.
17
Грибоедов сидел у Мальцова. Они ходили теперь, в остатние дни, друг к другу в гости: с третьего двора на первый. Это делало русскую миссию похожей на усадьбу, из которой выезжают на зиму. Мальцов оставался в Тегеране для ведения дел.
Грибоедов что-то говорил незначащее, когда послышался клекот марширующих солдатских ног и звук барабана. Потом барабан замолчал, и слышны были только шаги. Вдруг защекотал где-то невдалеке высокий голос:
Солдатская душечка…
И подхватили ровно, по-солдатски, а шаги аккомпанировали:
Задушевный друг…
Грибоедов вздрогнул. Он прислушался. Чайную ложечку, которую подносил уже к губам, так и не поднес и, не обращая никакого внимания на Мальцова и доктора, вышел. Он прошел в ворота, и казаки взяли на караул. Шли по улице сарбазы в парадной форме. Шли они, не ловя ртом ворон, как персиянские сарбазы, а грудью вперед, как русские гвардейцы. И в каком-то казачьем синем мундире, перехваченном золотым кушаком, в высокой персидской шапке шел впереди, с обнаженною, как на параде, саблей – командир. Густая канитель была у него на эполетах, как у русского генерала.
Он прошел мимо ворот легко и прямо и только глазом скосил на людей, стоявших в воротах. Но он увидел Грибоедова, и Грибоедов увидел его.
Проходили мимо солдаты, загорелые, молодые и старые. Один улыбнулся. Выправка у него была превосходная. Прошли. Снова застучал барабан. Так прошел мимо него со своим батальоном Самсон. Попрощаться, спеть на прощанье.
В смешном положении оказался Грибоедов.
Он не вернулся во флигель к Мальцову, и чай его стыл там. Он прошел к себе, на задний двор. Он стоял над закрытым чемоданом. Чемодан распирало от вещей.
Грибоедов подумал и вдруг всунул ключик. Крышка отскочила, точно этого и ждала. Вывалились две книги, второпях сунутые поверх белья. Он посмотрел на них, как на старых знакомых, встретившихся в неудобное время. Одна из них была философия Джерандо, другая – книжка «Вестника Европы». Он листнул для чего-то. «Игорь, или Война половецкая, рассуждение П. С. Арцыбашева». Он поскорее зарылся в чемодан, вытащил какие-то бумаги. Пересмотрев, очинил перо и сел писать.
Появилась точность, которой давно не наблюдали в Вазир-Мухтаре: он сам написал отношение к шаху, сам его порвал и написал другое.
Он требовал немедленной выдачи Самсона Яковлева сына Макинцева, беглого российского вахмистра, называвшегося Самсон-ханом.
Он более не думал ни о Нессельроде, ни об Англии, не вспоминал о Петербурге, он думал о беглом вахмистре. Книжки лежали на полу, и чемодан был раскрыт.
Уперся в точку. Бродил, бродил, была и любовь, и слава, и словесность русская, и государство, а остался беглый вахмистр. Было дело до него.
Он отложил отъезд на день.