Текст книги "Гражданский арест. Статьи, не попавшие в Сеть (сборник)"
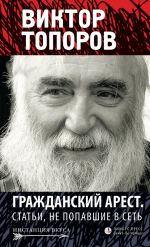
Автор книги: Виктор Топоров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Вместе с политикой
Фантомные боги
[34]34
Постскриптум (журнал, СПБ). 1999. № 3.
[Закрыть]
В американском фантастическом романе средней руки пара-тройка тысяч беглецов с планеты Земля попадает на воображаемую планету Эрна, по многим параметрам схожую с исторической родиной. Вот только жить на ней, оказывается, нельзя: планета начинает убивать пришельцев, поодиночке и группами, причем бесчинствуют здесь не звери и не аборигены, а некие мистические силы. Чтобы выжить, догадывается один из пришельцев, необходимо приспособиться к здешней материализованной паранойе, а чтобы приспособиться – отказаться от земного опыта в его главных (в том числе и гуманистических) ипостасях, отказаться от техники и оружия, но также и от культуры, цивилизации, вероучений и исторической памяти. И он взрывает космический корабль, на котором складировано все, привезенное с Земли. За что его, впрочем, тут же и ликвидируют товарищи по несчастью. Однако планета, приняв жертву, позволяет землянам уцелеть, а их начинающей складываться заново цивилизации – и в какой-то мере расцвести.
У них, напомню, не остается буквально ничего, кроме того, что можно передать – извращая на каждом новом этапе – в устной традиции. Цивилизация стартует практически с нуля – и оказывается вдвойне беззащитна перед смилостивившейся, но не ставшей от этого менее кровожадной планетой. Здесь обитают, вернее, здесь вновь и вновь возникают из местной ауры бесчисленные демоны – сосущие душу, питающиеся сильными чувствами и особенно остро реагирующие на страх. На запах страха. Откуда они берутся и что им можно противопоставить, пришельцы с Земли до поры до времени не понимают. Но вот выясняется, что коллективные страхи – коллективное бессознательное – пришельцев вызывают к жизни и столь же мистических заступников, своего рода племенных или местных божков, причем могущество каждого из них прямо пропорционально числу уверовавших в него и интенсивности их веры. Вынужденно пришельцы вспоминают и о христианстве как о самой универсальной земной религии и начинают поклоняться оберегающему их Христу. Который Христом является, конечно, только по имени. А местные демоны проникают меж тем в иерархию христианских священнослужителей и возглавляют ее – так что потомки землян в конце концов сами перестают понимать, во что верят и кому поклоняются, – на планете Эрна им удается выжить, удается приспособиться – и на том спасибо. Интуитивно они осознают, что возвращение к первоистокам – подлинным первоистокам – обернется для них неминуемой гибелью.
Американка, сочинившая все это (с явной оглядкой на Лема) у себя не то в Огайо, не то в Алабаме лишь для затравки, лишь в качестве научно-фантастической рамки, в которую вписаны вполне банальные и непоправимо-сентиментальные приключения однозначно земных, узнаваемо североамериканских персонажей, едва ли догадывается о том, что создала недурную эвристическую модель, описывающую мировоззрение, психологию и практику советского человека. Советского интеллигента, если выразиться точнее. Интеллигента в обеих ипостасях – и статусной, которая связана прежде всего с умственным трудом, и сущностной, которая замыкается на рефлексию (непременно в конце концов оборачивающуюся самооправданием и автоапологией). Функциональность иррациональной веры – иррациональные боги как истинные – и извращение, развенчание, низведение принципа божественности до уровня голой утилитарности. Беспринципная подмена всего и вся возведена, по сути дела, в единственный принцип. Выживание первично, самооправдание вторично. Историческая память – лишь в искаженной устной традиции и непременно в интересах злобы дня. (Переписывание истории в оруэлловском Министерстве правды, на мой взгляд, недопонято: историю переписывают не власти, а интеллигенция, и не по приказу властей, а во спасение себя любимой.) Цеховые, групповые, стратовые, клановые, наконец, просто компанейские божки – и каждый из них тем могущественнее, чем больше страхов – индивидуальных и коллективных – в него закачано. Институт священнослужителей – от младшего редактора (а ведь какой дрянью были, как правило, эти младшие редакторы!) до главного авгура. Наконец, тирания – но не только Тирана и касты тиранов (внутренней партии), а самой экосистемы: абсолютная обязательность набора магических пассов и заклинаний в минимальном объеме (и слава Богу, слава здешнему богу, что востребован лишь минимальный объем) и варьируемость той же магической практики в не столько предписанных, сколько угаданных рамках. И главное: не выговариваемое вслух, но всеобщее – и хотя бы поэтому справедливое – мнение: иначе жить нельзя. А другая (и куда более памятная) формула: «так жить нельзя» – всего лишь интеллектуальная провокация, пряная приправа к сравнительно сытному, но безнадежно пресному блюду.
Планету СССР нельзя было ни облагородить, ни изменить, но только уничтожить. Однако ее уничтожение обернулось бы и для нас самих всеобщей гибелью – и до поры до времени мы интуитивно осознавали это. И все же решили (одни решили, другие возмечтали, а третьи сделали) ее уничтожить. Но, конечно же, не уничтожили. В противном случае нас с тобой, читатель малотиражного журнала, просто не было бы. Но мы живы, и жив СССР, фантомный, согласен, – ну, а мы что, не фантомны? Все десятилетие так называемых реформ обернулось химерами – во всех сферах жизни и на любом уровне, но в плане интеллектуальном, в плане идейном более всего. И самым призрачным из существ, обитающих на полуразрушенной планете, оказался интеллигент. Интеллектуал. Элитарий. Прораб перестройки.
***
Настроился ли ты, читатель, на надлежащую волну или весь твой опыт яростно глушит ее? Что ж, поломай для начала голову над дюжиной тестов.
Тест № 1. Евтушенко – замечательный поэт. Булгаков – замечательный писатель. Аверинцев – замечательный ученый.
Не нравится? Тогда попробуем так:
Евтушенко – замечательный советский поэт. Булгаков – замечательный советский писатель. Аверинцев – замечательный советский ученый.
Тоже не нравится? Ну, тебе не угодишь! А если так:
Евтушенко – советское дерьмо. Булгаков – замечательный писатель. Аверинцев – замечательный ученый.
Если такая формула тебя устраивает, то добавь в нее и замечательного гаранта Конституции – ты все равно безнадежен.
Тест № 2. Академик Лысенко – великий ученый. Академик Заславская – великий ученый. Академик Сахаров – великий ученый.
У академика Лысенко по большому счету не вышло ничего. У академика Заславской и вовсе ничего не вышло. У академика Сахарова что-то – в плане создания водородной бомбы – вышло, но ведь лучше не выходило бы, не правда ли?
Тест № 3. Юрий Афанасьев: 1) руководитель Всесоюзной пионерской организации; 2) вдохновенный трибун, один из вождей Межрегиональной депутатской группы; 3) ректор и приватизатор (читай: владелец) Историко-архивного института, вместе с ВПШ переименованного в Гуманитарный университет; 4) демагог и доктринер, переквалифицировавшийся в резонера.
Ненужное попробуй вычеркнуть.
Тест № 4. Василий Аксенов – вынужденный эмигрант. Василий Бетаки – вынужденный эмигрант. Владимир Войнович – вынужденный эмигрант. Анатолий Гладилин – вынужденный эмигрант. Даниил Дар – вынужденный эмигрант. Евгений Евтушенко – дерьмо. Александр Жолковский – вынужденный эмигрант. Руфь Зернова – вынужденная эмигрантка. Фазиль Искандер – гений. Александр Кушнер – гений. Эдуард Лимонов – невынужденный реэмигрант и дерьмо. Владимир Марамзин – вынужденный эмигрант и дерьмо. Жорж Нива – лучший друг вынужденных эмигрантов. Александр Осповат – вынужденный эмигрант. Борис Парамонов – вынужденный эмигрант, дерьмо и гений…
Доведи до конца алфавита.
Тест № 5. От «Юности» отпочковалась «Новая юность», от «Литературного обозрения» – «Новое литературное обозрение», от «Известий» – «Новые известия». Сейчас аналогичный процесс идет в «Новом мире». Как будет называться отпочковавшийся от него журнал?
Тест № 6. Падва Резник это: 1) имя и фамилия? 2) контаминация? 3) диффамация? 4) профессия?
5) национальность? 6) натура? 7) чин? 8) должность? 9) звание или, может быть, призвание?
Тест № 7. А. – бывший стукач. Б. – бывший стукач. В. – бывший стукач. Г. – бывший стукач. Д. – бывший стукач…
Раскрой инициалы, доведи до конца алфавита, по собственному разумению вычеркивая слово «бывший».
Тест № 8. Академик А. Н. Яковлев провозгласил себя правоверным буддистом.
Что это: 1) задание ЦРУ? 2) задание ФСБ? 3) озарение? 4) старческий маразм? 5) поручение ЦК КПСС?
6) естественная духовная эволюция? 7) личная просьба М. С. Горбачева? 8) личная просьба Б. Н. Ельцина? 9) прочее?
Тест № 9. Жванецкий. Задорнов. Пугачева. Ростропович. Шифрин.
Вычеркни одну фамилию.
Тест № 10. Настаиваешь ли ты на выдаче Анатолия Собчака прокурору Скуратову или же готов поддержать кандидатуру первого на выборах президента страны (во втором случае назови предположительную дату выборов и обрисуй круг основных претендентов)?
Тест № 11. Следует ли сжечь русский перевод книги «Майн Кампф» на костре?
Тест № 12. Как ты поступишь, будучи поставлен перед выбором – снять крест или надеть трусы:
1) снимешь крест? 2) наденешь трусы? 3) проапеллируешь к городовому (и на чьей стороне в этой ситуации окажется городовой)?
***
Утром 5 октября 1993 года – на следующий день после расстрела парламента – мне позвонил малознакомый литератор и мелкий литературный функционер Лев Гаврилов и пригласил на собрание актива творческих союзов Питера, которое было назначено на тот же вечер в помещении Дома кино. Почему он это сделал – не знаю и даже не догадываюсь, ни до того, ни после мы не сказали друг другу ни слова, да даже и не здороваемся, оставаясь формально незнакомыми. Расстрелянный накануне из танковых орудий (так я воспринимал это тогда, и ощущение не стало с годами ни глуше, ни слабее), я вознамерился пойти на собрание. Яростный протест творческой интеллигенции Петербурга против кровавого ельцинского «Выборга» – на такое я если и не рассчитывал, зная коллег и полуколлег, то хотя бы смутно надеялся. Капля в море, конечно, если не капля против ветра, но что нам еще оставалось?
Нам…
В зал набилось человек пятьсот, в основном киношников и околокиношников. Одно за другим пошли истерические выступления с требованиями к Борису Николаевичу ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Стрелять! Сажать! Разгонять! Запрещать! Давить гадину, как накануне с телеэкрана выразился лидер партии фермеров, журналист и председатель Московского союза писателей Юрий Черниченко. А у нас выступили кинорежиссер Аранович (он вел собрание), композитор Успенский, актер Басилашвили, кто-то еще. Зал молчал, томился (многие, как я понял, – в ожидании каких-то фильмов: собрание было приурочено к открытию сезона в Доме кино – 5 октября как-никак). Писатель Михаил Чулаки зачитал подготовленную им резолюцию – все в том же людоедском духе. Кто за? Руки подняли многие, правда, не все. Кто против? Я поднял руку и, оглядевшись по сторонам, обнаружил, что нахожусь в одиночестве. Кто воздержался? – то ли по инерции, то ли для проформы поинтересовался председательствующий. Не воздержался, как выяснилось, тоже никто. Тогда Аранович, обратившись к залу, заявил:
– Один человек проголосовал против. Мы не можем смириться с таким голосованием. Предлагаю вам подняться на сцену и разъяснить свою позицию.
Я поднялся на сцену и разъяснил свою позицию.
– Нельзя призывать к казням и расправам, – сказал я. – Нельзя и прощать их властям. Для любого из нас это означает гражданскую смерть, а для творцов – и смерть творческую.
Зал секунд на двадцать затих, затем из разных концов одновременно послышались крики: кто это такой? откуда он взялся?
Я представился и пояснил, что являюсь членом Союза писателей.
– Писатель Топоров!.. Что еще за писатель Топоров!.. Что он написал?.. Мы такого не знаем! – заорали кто в унисон, кто вразнобой уже несколько десятков человек.
Со многими в зале я был знаком, остальные наверняка видели меня «по ящику» (в тот год я мелькал там довольно часто) или хотя бы знали фамилию.
– Кто вы такой и откуда вы здесь? – зловещим голосом сказал Аранович.
– Я же не спрашиваю ни у кого из вас, что за фильмы вы сняли и какие роли сыграли, – возразил я. – Да это и не имеет значения. Здесь собрание актива творческих союзов, а я член Союза писателей, и довольно.
– Это так? – все тем же страшным голосом спросил Аранович у первого секретаря Союза писателей Чулаки.
Лишившись дара речи, Чулаки кивнул. Будь его воля, членом Союза писателей я оставался бы последние минуты. Сейчас он, кстати, сохраняя за собой тогдашнюю должность, является и уполномоченным по правам человека.
И тут зал окончательно сорвался на крик. Кричали разное, но в основном многократно повторялись две фразы: «Позор!» и «Пошел ты на х…, Топоров!» Запомнилась мне и еще одна, прозвучавшая, правда, только единожды: «Такие, как Топоров, и убивали нас в Белом доме!»
Их… В Белом доме… И конечно же, такие, как я…
Я простоял на сцене минут пять, ожидая, пока ведущий утихомирит собрание. Ведущий не спешил, явно наслаждаясь эффектом коллективной площадной брани. Никуда не спешил и я. Стоять на сцене под градом оскорблений было хорошо и легко: я понимал, что совершаю гражданский поступок, впервые, а может быть, и единственный раз в жизни. Бессмысленный; не исключено, смешной; но гражданский. И, судя по тому, как развивались события в первые сутки после расстрела (позднее в прессе скажут: обстрела) Белого дома, поступок, в достаточной мере рискованный. Поэтому и толпа в пятьсот представителей творческих союзов не пугала меня и даже не удручала, а в основном потешала. Хотя, конечно, врагу не пожелаешь такой потехи.
Наконец режиссер-постановщик «Торпедоносцев» и «Противостояния» насытился услышанным.
– Я запрещаю вам впредь бывать в Доме кино, – обратился он ко мне.
Пожав плечами, я сошел со сцены и направился на свое место в зале.
Не потому, что мне так уж хотелось досидеть до конца, – нет. Честно говоря, я все же надеялся, что найдется хоть кто-нибудь, кто меня поддержит. То есть не поддержит – в поддержке я на тот момент не нуждался, – а вслед за мной так или иначе осудит это безумие.
Не нашлось. Матерная брань сопровождала меня по дороге к своему креслу в зале, матерная брань не прекратилась и потом. Выждав еще пять минут (по часам), я встал и направился на выход. Когда я был уже у дверей, Аранович (по-видимому, подслеповатый), уставившись туда, где я недавно сидел, и радостно осклабясь, объявил:
– Видите, публика просит вас покинуть зал.
– Я и сам ухожу, – ответил я от дверей. – А слова, обращенные ко мне, предлагаю включить в резолюцию, адресованную Ельцину.
Я вышел, ожидая, что меня догонят и изобьют. Но этого не случилось. Я прошел километр от Дома кино до своей улицы Чехова, прихватив по дороге водки и пива, но никто не напал на меня даже в темной подворотне. Я просидел ночь за стаканом, ожидая, что за мной придут, но за мной не пришли.
Как только непосредственная угроза его личной власти отпала, президент (вернее, уже узурпатор) утратил малейшую кровожадность – и это сразу же распространилось сверху вниз по всем инстанциям. Все – и применительно ко мне тоже все – кончилось полным пшиком. Уже наутро мне позвонили трое сидевших накануне в зале Дома кино и поблагодарили за «отважное выступление». Потом позвонили еще десятка полтора, узнавшие о происшедшем с чужих слов. Даже чисто количественно это было маловато, да и люди звонили мне именно что чужие. Прошло какое-то время – и «позорная» точка зрения на белодомовскую трагедию, высказанная тогда, стала общепринятой. А сегодня, скорее всего, люди, бывшие на том собрании, весь этот эпизод – и собственные чувства, и собственную брань – забыли. Аранович вскоре запутался в темных дачных делах с Собчаком и Алексеем Германом, а потом умер. В Дом кино меня, впрочем, стали всячески зазывать еще при нем, а уж после… «Я лично перед вами извиняюсь от нашего общего имени, Аранович давно умер, о чем вообще разговор», – убеждала меня, названивая по телефону, какая-то референтша Союза кинематографистов.
Да и действительно – о чем? Израиль Меттер на знаменитом собрании единственный зааплодировал выступлению Зощенко – и гордился потом этим полвека. А живи я сам в сталинские времена, хватило бы у меня духу на такое выступление или нет? Вопрос не столько гипотетический, сколько академический – меня наверняка посадили бы гораздо раньше. Без всякого выступления и, не исключено, без какой бы то ни было вины. Так или иначе, 5 октября 1993 года я совершил гражданский поступок – и за это прощаю себе многое. А мои, с позволения сказать, коллеги – прощаю ли я им?
Бог простит…
***
По городу ходит, тряся расчесанными на прямой пробор седыми кудрями, старый ученый.
У него репутация порядочного человека, бесспорно заслуженная. Порядочного русского человека, если точнее. «Русский человек, но порядочный», – говорили о нем в научных кругах за глаза. Русский, но порядочный человек был, естественно, и человеком партийным. Партийным, но порядочным. Этим человеком «разбавляли» всевозможные комиссии и редколлегии – он и сейчас возглавляет одну из них: чисто виртуальную и исключительно по инерции. Однако его (редкий случай!) терпят и теперь, когда функциональная надобность в нем отпала. Ну, не считают серьезным ученым – так и никогда не считали. Зато сколько он в свое время сделал для Лотмана! и для Эткинда! и для Л. Я. Гинзбург!.. и как настрадался, когда его – русского, но порядочного, партийного, но порядочного – за очередной приступ не то самаритянства, не то ротозейства с очередной должности с глухим треском выкидывали!
«Если бы жидов в России пускали в профессоры, то все профессоры были бы жидами», – предрек устами Передонова Федор Сологуб. История государственного антисемитизма в СССР уже написана – и, как всякую историю, ее написали победители. С историей еврейского Сопротивления дело обстоит заметно хуже: здесь много темных пятен. Темных потому, возможно, что позорных, но и темных потому, что иные страницы (и целые архивы) остаются строжайшим образом засекречены. Или, не исключено, законсервированы на черный день… На обсуждении очередной трагедии Михаила Шатрова Исидор Шток (тоже не татарин) сказал: «Давно пора разрешить частную торговлю, чтобы евреи прекратили наконец сочинять пьесы про Ленина». И действительно, тот же Шатров занимается сейчас, правда, не частной торговлей, но капитальным строительством. Однако это, скорее, исключение из общего правила. Если не пьесы, то романы, если не про Ленина, то про Николая II – или про того же Ленина-Сталина, но с противоположным знаком, – продолжают изливаться бурным потоком; диссертации на все мыслимые и вчера еще немыслимые темы штурмуют и берут приступом уже упраздненную ВАК; признанный вождь отечественной сексологии (и социологии: у нас их по-прежнему путают – как этику и эстетику), уже в академиках, перестал наконец скрывать собственные сексуальные предпочтения, но с прежним апломбом инструктирует гетеросексуалов; Москва, Хайфа и Брайтон-Бич слились в праздник, который всегда с нами и повсюду… Так что дело все-таки не в запрете на частную торговлю.
Во власти «один я русский, а все остальные – жванецкие» (мэр Москвы Лужков), и даже РПЦ, скрежеща зубами, перестает отличать эллина от иудея…
Меня часто обвиняют в антисемитизме (хотя применительно ко мне речь может идти только о национальной самокритике), даже – как некто Рейтблат – в «неуклюже скрываемом антисемитизме». Меж тем совершенно ясно, что разговор о еврейском преобладании в определенных сферах деятельности и о специфических, не всегда безобидных, формах утверждения этого преобладания – разговор, в годы советской власти с ее неявным, но несомненным государственным антисемитизмом абсолютно недопустимый, сегодня, когда евреи перестали скрывать или хотя бы маскировать свое еврейство и, напротив, принялись его всячески выпячивать, – разговор этот сегодня необходим и неизбежен. Табуирование (или истерически-слезливая, с оглядкой на холокост и с апелляцией к городовому трактовка) этой темы представляет собой страусову политику; такой подход в нынешних условиях не сокращает, а множит число юдофобов – уже подлинных, а не мнимых, – причем множит его в геометрической прогрессии. Мы живем не в Германии, где запрет на тему обусловлен исторически (хотя и там он рано или поздно будет нарушен, причем грубым взрывом долго томящейся под спудом энергии); у нас вина России перед своим еврейством и вина еврейства перед Россией находятся в шатком и все более раскачиваемом равновесии; у нас не то чтобы вызрел новый государственный антисемитизм (чего пока нет, того нет, несмотря на истеричные или пьяные откровения партийных функционеров, депутатов или кандидатов в оные), но создается для него все более и более благодатная почва. И создается она, в числе прочих, и самими евреями, особенно преуспевающими, раскрученными, торжествующими, – но отказывающимися от какой бы то ни было рефлексии по поводу национальной (а в данном случае и мафиозной) природы своего успеха; более того, категорически возбраняющими подобную рефлексию всем остальным. Отсюда самоизоляция неевреев, понимаемая ими как попытка культурного самосохранения. Все это грозит обернуться трагедией – и для всей страны, и для еврейства.
Тридцать лет назад разнообразно преуспевающий пятидесятилетний мужчина – известный ученый, переводчик, издатель и меценат – сказал мне, начинающему двадцатилетнему поэту-переводчику:
– Знаете, Витя, я ведь помогаю только евреям. Потому что если не я, то кто же еще им поможет?
– А вы уверены, Ефим Григорьевич, что так рассуждаете вы один? – возразил я.
Помощь не состоялась. Впрочем, вдумываясь в разговор тридцатилетней давности, я начинаю сомневаться в том, что она была предложена.
И вот сегодня тот же разнообразно преуспевающий человек, уже отметив восьмидесятилетие, уже успев «пострадать», эмигрировать и – хотя бы наездами – вернуться, уже выпустив здесь одну за другой все «выстраданные» книги и получив за одну из них самую престижную питерскую премию (правда, и здесь не обошлось без жульнической помощи со стороны номинационной комиссии и жюри), рассказывает с телеэкрана о том, как долгими десятилетиями его гнобила и гробила советская власть. «Вам ведь всю жизнь везло?» – спрашивает простодушный интервьюер. «Это мне-то везло! Да меня всю жизнь травили! Мне жить не давали!» И в доказательство тезиса о травле приводится такой пример: будучи доцентом педвуза, наш герой сравнил в ходе лекции Бориса Полевого (автора «Повести о настоящем человеке», если кто забыл) с Джеком Лондоном – и его чуть не выгнали с работы, поскольку, дескать, он оскорбил этим сравнением замечательного советского писателя. Правда, все же не выгнали (выгнали позже, профессором, и за другое, добавлю, вполне благородное поведение), но речь не об этом: сегодня нашему гуру обидно, но ничуть не стыдно.
Сравнение Полевого с Джеком Лондоном – это ведь не просто глупость, это – приспособленчество, это угодничество, но за приспособленчество ему не стыдно. Ему обидно, что столь изысканное приспособленчество, столь проникновенное угодничество не нашло у надзирающих инстанций должного понимания, а лучше бы – поощрения! Но и самому ломать себя через колено, судя по всему, будущему профессору трех университетов не пришлось.
***
С проявлениями подобной обиды во всей откровенности сталкиваешься нынче не так часто – наш гуру все же подзасиделся за бугром, – а вот лет восемь, лет десять назад… Складывалось впечатление, будто именно эта обида интеллектуёв, прикормленных властью, и стала едва ли не главной причиной разразившейся тогда перестройки: власть кормила от пуза, но нехотя; кормить кормила, а праздника из процесса кормления не устраивала… Одного сослала послом в Канаду, другому не сразу дала членкора, третьего не захотела выпустить в капстраны (кроме как навсегда), четвертого… пятого… Перечень подобных обид можно множить и множить – важно, что это были именно такие обиды; принципиальных расхождений по более глобальным вопросам как-то не просматривалось. Не было со стороны интеллектуальной элиты ненависти, не было нелюбви, была обида из-за того, что ее ценят, а значит, и любят недостаточно. Или даже не так: недостаточно убедительно демонстрируют бесспорно заслуженную будущими «прорабами» любовь.
По инерции эту обиду перенесли и на М. С. Горбачева, который своих прорабов как раз любил и холил. А заодно – и на строй модернизированного социализма с человеческим лицом, который сами же и проповедовали и который пытался, уже создав его, удержать от обрушения горемычный Президент СССР. Да и черт с ним, с Горбачевым. У нас Ельцин на примете имеется – вот и поруководим…
И руководят. До сих пор руководят. Время от времени недоуменно разводя руками.
Ах они, наивные…
Летом 1998 года получил огласку такой эпизод. Правозащитник и парламентарий Сергей Адамович Ковалев сыграл на московской улице в «лохотрон». Проиграл все, что при нем было, и попросил, чтобы ему поверили в долг. В долг уличные жулики бывшему уполномоченному по правам человека в ранге федерального министра поверили. Ковалев опомнился, лишь проиграв две тысячи долларов и тысячу триста рублей. Как честный человек Сергей Адамович съездил домой за деньгами, рассчитался с жуликами – и тут же обратился с жалобой на них в милицию и прокуратуру. Разумеется, это символическая история – причем в малейшей своей детали, включая долларовый загашник и обращение в «органы». Впрочем, история могла бы принять и несколько неожиданный, хотя тоже символический оборот – окажись жулики чеченцами, они простили бы данному «лоху» проигрыш в знак уважения и признательности?..
Или не простили бы?..
Юрий Батурин полетел в космос. А раньше по здоровью не пускали, и он обижался. Понадобилось стать помощником президента по национальной безопасности, секретарем Советов безопасности и обороны, понадобилось активно поучаствовать в разрушении ВПК, включая, естественно, и космическую науку, чтобы затем, провалив все, что ему было поручено, и будучи лишь в порядке уступки общественному мнению отправленным в отставку, самому полететь в космос, избыв тем самым давнишнюю обиду. А по возвращении Батурин станет – уже объявлено – обозревателем «Новой газеты», а там, вернувшись «во власть», глядишь, и главным начальником космического департамента и поруководит им вплоть до окончательной ликвидации. Да и то сказать: стране не до жиру.
В одном и том же номере «Московских новостей» два писателя-эмигранта – Василий Аксенов и Анатолий Гладилин – словно сговорившись, напечатали по заметке, в которых значилось: зря вы, дорогие, но неразумные россияне, ноете: сортов колбасы в Москве сейчас больше, чем в Париже. Обида за колбасу? Или, может быть, обида на колбасу? Но вряд ли: оба еще в Москве славились желанием и умением хорошо пожить, включая выпить и закусить. Здесь обида скорее другого свойства: колбасу получили, а нас читать не хотите.
Правда, колбасу (равную парижской) получили сравнительно немногие, но вот читать – их обоих, во всяком случае – не хочет никто.
Такой вот обидный парадокс.
А третий эмигрант – лауреат Букеровской премии Георгий Владимов – во всех газетах рассказывает о том, как юным суворовцем отправился он утешать опального Зощенко. И как за это – шесть лет спустя – отправили в лагеря мать будущего создателя «Большой руды». Но не то беда, что, рассказывая, повторяется, а повторяясь, путается в деталях: оказывается, он излагает сюжет своего будущего романа. А когда этот роман будет написан и издан, кому он окажется интересен? Правильно, никому. И на что начнет обижаться Владимов? Правильно: на то, что не ценим парижского ассортимента колбас.
Александр Зиновьев – эталонный, потому что описавший в своем развитии полный круг, представитель и носитель философии обиды. Его ценили, но недостаточно ценили в СССР – и он обиделся на СССР. Его оценили, но недостаточно оценили на Западе – и он обиделся на Запад. При этом политических взглядов и философских воззрений он действительно не менял: социализм отвратителен, но инвариантен, капитализм – то же самое… И все же обида первична, а философия вторична – это и есть подлинное кредо Зиновьева. А ведь это самый светлый ум из числа фантомных богов – что же говорить об остальных?
Вновь и вновь приходит на ум эпизод из «Ста лет одиночества». Старуха, страдающая грыжей, молится об избавлении от напасти – и в силу праведной жизни ее молитвы раз за разом оказываются услышаны. Одна беда: будучи особой стеснительной, она не упоминает в молитвах грыжу, докладывая исключительно о душевных терзаниях. И внемлющие ангелы ниспосылают ей с небес не необходимые на самом деле бандажи, а в данном случае никчемные душеспасительные брошюры.
Но разве не то же самое происходило и происходит с нами? Включая проблему Конституции и севрюжатины с хреном, но к данной альтернативе все-таки не сводясь.
В августе 1997 года от руки наемного убийцы пал вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич, хладнокровно расстрелянный в собственной машине при въезде на Невский с улицы Рубинштейна по дороге в Смольный. Ровно через год после гибели не самого заметного, но, бесспорно, перспективного «молодого реформатора», день в день, в стране обрушилась финансовая система: вслед за крушением рынка корпоративных ценных бумаг та же участь постигла и государственные казначейские обязательства; были объявлены решения, расцененные независимыми наблюдателями как девальвация рубля и дефолт; еще пару дней спустя пало правительство «киндер-сюрприза». Разумеется, это было всего лишь случайным совпадением, изрядно омрачившим, однако же, поминальные торжества. И разумеется, в сугубо литературном журнале был бы неуместен разговор о политическом значении, мотивах, заказчиках и исполнителях убийства, тогда как обсуждение личности убитого неизбежно показалось бы дурным тоном. В разыгравшейся трагедии и ее последствиях нас интересует исключительно стилистическая канва, причем интересует много аспектно, а не в том только смысле, что безвременно почившего главу городского КУГИ почему-то похоронили на Литераторских мостках.
Маневич погиб на взлете: у него была превосходная репутация в Питере, его вот-вот должны были забрать на повышение в столицу (по этому пути уже успел пройти его преемник по КУГИ и вице-губернатор Герман Греф), а личное неучастие в «книжном скандале» (еще один окололитературный штрих) наверняка позволило бы ему закрепиться и на московской высоте. На похороны Маневича – на которых наверняка присутствовал и заказчик убийства – всей командой прибыли «молодые реформаторы», причем главный из них – Анатолий Чубайс – назвал погибшего экономическим гением и человеком кристальной честности (во втором случае он повторился, за пару месяцев до того точно так же аттестовав находящегося ныне под следствием Альфреда Коха).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































