Текст книги "Иерусалим"
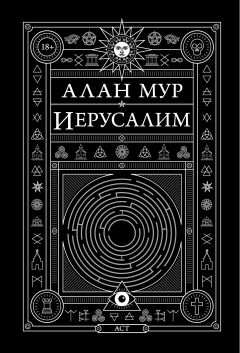
Автор книги: Алан Мур
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 108 страниц) [доступный отрывок для чтения: 35 страниц]
Чу! Радости внемли!
Паучья клавишная музыка пробиралась в холодном тумане от библиотеки на Абингтонской улице к работному дому на дороге Уэллинборо. Пока ноги стыли в грубых башмаках, Томми Уоррен затянулся последний раз «Кенситас», затем кинул тлеющий огрызок на землю, и крошечный огонек поскакал по мраморной темноте, разлетелся искрами на подмороженных булыжниках брусчатки.
В эту ноябрьскую ночь от Карнеги-холла над библиотекой прокрадывался далекий перезвон, словно от игры на сосульках. Источником его служила Безумная Мэри, концертная марафонская пианистка, ангажированная выступать в холле этим вечером, хотя ее концерты могли длиться часами. Днями. Том удивился, что ее слышно даже здесь, у больницы Святого Эдмунда, бывшего работного дома, у которого он ждал, пока где-то внутри учреждения разродится первенцем его жена Дорин. Пусть слабая и неузнаваемая, но рассыпчатая мелодия слышалась вопреки расстоянию и ватному туману.
Движение на дороге Уэллинборо в такое время было редким – где-то около часу ночи, как ему казалось, – так что было очень тихо, но Томми все-таки не мог разобрать, какую песню выколачивает из пианино Безумная Мэри. Может, «Выкатывайте бочку», а теоретически и «Люди севера, возрадуйтесь». Учитывая поздний час, Томми решил, что Безумная Мэри уже могла стать жертвой усталости и скакала от одной песни к другой, не представляя, что играет или в каком городе находится.
То, как он теперь стоял в вихрящейся тьме и слушал откуда-то издалека старую песенку, что-то ему напоминало, но он сразу об этом позабыл, голову занимали другие мысли. Сейчас у него на уме была только Дорин, в больнице за спиной, в родах, которые как будто собирались тянуться целую вечность – прямо как тарарам Безумной Мэри. Том сомневался, что живот его жены последние месяцы распирала музыка, хотя, судя по воплю, достойному волынки, который Дорин издавала десять минут назад, вполне могло оказаться и так. Причем Дорин наверняка закатила крик мелодичней безбожной какофонии, которую бренчала Безумная Мэри, но теперь Томми задумался, что за мелодия созревала во время беременности супруги – слезливая баллада или боевой марш? «Мы соберем лилии» или «Британские гренадеры»? Девочка или мальчик? Главное, лишь бы не какая-нибудь причудливая импровизация Безумной Мэри, когда никто понятия не имеет, что играют. Лишь бы это не люди севера выкатывали бочки и не британские гренадеры собирали лилии. Лишь бы не ребус. Их и без того у Уорренов и Верналлов народилось за годы в достатке – куда больше, чем они заслужили. Неужели для разнообразия у них с Дорин не мог появиться нормальный ребенок – не безумный, не талантливый, не то и другое сразу? И если это судьба распределяет квоту проблемных детей, неужели не настала очередь для другой семьи понести бремя? Люди со здоровыми родственниками только отлынивают от общего дела, так рассуждал Томми.
Из большого серого облака, в которое будто бы погрузился Нортгемптон, выплыла одинокая большая серая машина, поднимая светом фар перед собой брызги цвета мочи, и скрылась снова. Тому показалось, что это «Хамбер Хоук», но он мог и ошибаться. Он мало что знал об автомобилях, не считая того, что их сейчас уже засилье, и конца-края этому не предвиделось. Конь с телегой отправились на выход и не оглядывались. В пивоварне Фиппса в Эрлс-Бартон, где работал Томми, еще держали старых ломовых лошадей – дымящихся, фыркающих шайрских кобыл; не животных, а потные локомотивы. Но есть компании и больше, как «Уотни», у которых грузовики занимались доставками по всей стране, тогда как «Фиппс» по-прежнему местная. Том мог представить, что еще лет десять – и «Фиппс» вытеснят с рынка, если в начальстве не образумятся. Тогда в Эрлс-Бартон уже не найдешь ни работы, ни коней. Том бы не сказал, что сейчас самое лучшее время привести в мир ребенка.
Он вывернул голову с набриолиненными волосами через плечо, окинул взглядом двор работного дома, где стоял, и подумал, что, по справедливости, и худшим время язык назвать не повернется. Война окончена, хоть еще и остались пайки, и спустя восемь лет после Дня Победы появились обнадеживающие признаки, что Англия снова возвращается в седло. Не успела еще упасть последняя бомба, а Уинни Черчилля прогнали голосованием, чтобы Клем Эттли вернул все на круги своя. Верно, пока что Черчилль снова на посту и трубит во все колокола, как денационализирует стальную промышленность, железные дороги и все прочее, но за годы после войны народ уже добился столько хорошего, что к былым временам все равно не откатишься. Есть теперь и Национальное здравоохранение, и Национальное страхование, и дети могут ходить в школу за так, пока им не исполнится – сколько, семнадцать, восемнадцать? А то и дольше, если экзамены сдадут.
Не то что Томми: он заслужил стипендию за успехи в математике и теоретически поступил бы в Грамматическую школу, да только мама и папа Томми, старики Том и Мэй, ни за что не могли себе ее позволить. Ни книги, ни форму, ни канцелярию, ни, конечно же, огромную дыру, которую бы проело дальнейшее обучение Тома. Пришлось бросать учебу в тринадцать, искать работу и по пятничным вечерам приносить домой жалованье. Не то чтобы он хотя бы на миг чувствовал себя ущемленным или хотя бы даже от нечего делать воображал, что бы с ним сталось, согласись он на стипендию. На первом месте у Томми стояла семья, и потому он делал все, что должен был, и жил со спокойной душой. Нет, он нисколько не жалел об упущенных шансах. Просто радовался, что у его мальца жизнь будет лучше. Или девчонки. Тут никогда не угадаешь, хотя, сказать по правде, надеялся Том на мальчика.
Он походил перед больницей туда-сюда, притопнул ногами, чтобы не застаивалась кровь. Каждый выдох становился на зябком воздухе индейским сигналом к сбору, а прямо через улицу из тумана, как история о призраках, проступал черный бок церкви Святого Эдмунда. Над дымкой во дворе за оградой торчали покосившиеся надгробия – каменные изголовья уличного дормитория, между которыми расстелилась сырая серебристая перина испарений. Высокие полуночные тисы стали столбами с бельевыми веревками, где сушилась серая отжатая пелена холодной мглы. Ни луны, ни звезд. Со стороны городского центра долетал дрожащий рефрен, напоминавший «Университетский флаг», которым размахивали перед «Старым быком и кустом».
Почему он предпочитал мальчика? У его братьев и сестры уже родились мальчики, которые сохранят их фамилию. Сестричка Лу, на шесть лет старше его и на целый фут короче, родила сперва двух девочек, но со своим мужчиной, Альбертом, принесла наконец на свет и мальчишку, уже лет двенадцать назад. Уолт – младший брат Тома и гордость черного рынка, – женился незадолго до конца войны и уже воспитывал двух мальцов. Даже юный Фрэнк – и тот обогнал Томми на пути к алтарю, и всего год назад у него родился сынишка. Если бы Томми – в конце концов старший из всех – остался бездетным до сорока, этого ему бы никогда не спустила Мэй, его мама. Мэй Минни Уоррен, старая сушеная кошелка с голосом, что кулак докера, которым она, и сомневаться нечего, забила бы Тома до смерти, если б они с Дорин не приняли смену и не продолжили род Уорренов. Томми боялся мамы – а впрочем, ее боялись все.
Он помнил, как на свадебную ночь Уолта в 1947 году – или около того – мама поймала его с Фрэнком в коридоре у кассы – а дело было в дансхолле на Золотой улице. Она встала у распашной двери, пока вокруг входили и выходили люди, так что ей приходилось перекрикивать гремящую музыку – играла группа под управлением Джонни, младшего брата Мэй и дяди Томми, – там-то мама и зачитала ему с Фрэнком ультиматум. В руке она держала полпирога со свининой, который взяла со стола с угощениями, а вторая его половина была у нее во рту – комки жирной сдобы, толченого розового мяса и желтоватого желе липли к жерновам немногих оставшихся зубов или брызгали в съестной пене, поливая Тома с его младшим братом, пока они тряслись перед этой женщиной – да не женщиной, а рождественским тортом со стрихнином.
– Ну вот, Уолтер с Лу женились и с моей шеи слезли, теперь и вам пора брать ноги в руки и искать себе ту, кто от вас нос не поворотит, сладкие вы мои. Не потерплю, чтоб пошли пересуды, будто я вырастила пару дурачков, за которых все мамка должна делать. Тебе уже за тридцать, Томми, а тебе, Фрэнк, двадцать пять стукнет. Того гляди, спрашивать начнут, что с вами не так.
Это было больше шести лет назад. Томми уже исполнилось тридцать шесть, и пока он не повстречал два-три года назад Дорин, и сам начал задумываться, что же с ним не так. Не то чтобы он никогда ни с кем не встречался – была одна-две девушки, но ничего из этого не вышло. Отчасти потому, что Том был застенчив. Не такой проказливый авантюрист, как его сестричка Лу. Не мог зачаровать птиц в небесах и продать им доли в облачных квартирах, как Уолтер, не умел раскованно, на грани неприличия шутить с девушками, как Фрэнк. Том, по своим собственным прикидкам, был самым умным из родных. Не мудрым, как Лу, не находчивым, как Уолт, или даже не ушлым, как Фрэнк, но зато Томми много знал. А чего он не знал, – как употребить свою ученость себе же на пользу, и когда речь заходила о женщинах, то он терялся и, хоть что ты делай, не понимал, с чего и начинать.
Из валов тумана проплыла еще машина – похоже, тупоносый «Моррис Минор», – на сей раз на запад, в противоположном направлении, нежели предыдущий автомобиль. Пыхтя мимо него, она плеснула жидким светом фар по грубому темному известняку оградки кругом церкви Святого Эдмунда, а потом остались только яркие крысьи глазки задних отражателей, словно пятившихся от Тома в мглистый уголок центра Нортгемптона. Словно бы приветствуя гостя, Безумная Мэри наиграла смелую вариацию «О маленький город Берлингтон» – а может, «Берти из Вифлеема».
Томми все еще думал о предыдущих опытах с девушками – вернее, их отсутствии. Когда Томми был подростком еще в тридцатых, незадолго до смерти папы, его сердце ненадолго покорила дочка Рона Бэйлисса, в то время капитана Тома в Бригаде мальчиков. Он состоял в 18-й роте, которая раз в неделю собиралась на тренировку в большом зале на втором этаже старой церкви на улице Колледжа. Так как Том был не только самым застенчивым, но и втайне самым религиозным членом семьи, регулярные посещения церкви и маршей с оркестром раз в месяц его вполне устраивали, а стоило ему положить глаз на Лиз Бэйлисс, так он только приобрел очередной стимул. Она была красавицей и в обществе занимала положение выше Тома, но он знал, что и сам не дурен собой, а на своей родной Зеленой улице даже сходил за франта. Так что набрался смелости и однажды воскресным утром после церкви спросил ее, не сходит ли она с ним в театр.
Один Господь знает, почему он брякнул «театр». Том в жизни не бывал в театре, просто решил, что это звучит культурно и впечатляюще. Он в любом случае не ожидал, что она ответит «с радостью», так что только промямлил: «О, славно. Тогда увидимся в четверг», – даже не зная, что в этот день стоит в репертуаре. Оказалось, что Макси Миллер, и в этом конкретном случае комик исполнял далеко не свою приличную программу.
Черт возьми. Это были одновременно самые смешные и позорные полчаса в жизни Томми. Стоило ему увидеть на афишах имя Миллера, как Томми пришел в ужас, зная, что это последнее место на земле, куда можно вести такую благочестивую баптистку, как Лиз Бэйлисс, но к этому моменту он уже купил билеты, и пути назад не было. Кроме того, он слышал, что время от времени Макс Миллер устраивает чистый вечер, так что решил, что еще может выйти сухим из воды. Так он, по крайней мере, думал, пока Макс не вышел на сцену в белом костюме, расшитом большими красными розами из парчи, одаривая зрителей скверной улыбкой на ангельском личике под полями белого котелка.
– Любите ли вы курорты, дамы? Да, еще бы. Сам-то я их обожаю, что уж там. Был той неделей в Кенте, дамы и господа, и словами не передать, как же там славно. Вышел я на прогулку, прогулку по утесам, и погода попросту шептала. Гулял я по узенькой тропинке, с отвесной пропастью по одну руку – и ох, дамы и господа, дух захватывало от высоты, волны так и бились о скалы в сотне футов под ногами. Тропинка – она, ну, неширокая, один человек по ней еще пройдет, но двум уж никак не разойтись, и только представьте себе, дамы и господа, только представьте себе мое замешательство, когда кто бы вы думали вышел мне навстречу? Юная леди в летнем платье – и была она раскрасавицей, дамы и господа, скажу вам прямо. Ну, вы и сами понимаете мою дилемму. Замер я как истукан, смотрю на нее, смотрю на скалы внизу – и не знаю, как и поступить. Говорю как есть, я и не знал, то ли занять ее проход, то ли просто покончить с собой на месте.
В кресле рядом с Томом Лиз Бэйлисс побелела, как шляпа Миллера. Пока театр вокруг покатывался со смеху, Том изо всех сил пытался поддерживать такую же оскорбленную мину, как у его компаньонки, и не трястись, как кипящий чайник, от сдерживаемого веселья. Еще через двадцать минут, когда по щекам Тома в уголки перекошенных от отчаяния губ уже сбегали слезы, Лиз спросила его голосом холодным, как мраморное надгробие, не соизволит ли он сопроводить ее к выходу и домой. В тот вечер он ее видел более-менее в последний раз, поскольку после такого ему стало стыдно часто появляться в своей Бригаде или церкви.
В обе стороны от него тянулась дорога Уэллинборо, в ее забродившей темноте через долгие промежутки висели слабые электрические фонари, словно огни на мачтах прибрежных рыбацких лодок. В освещении такой дороги от них не было толку, тем более в туманную ночь, но все же они лучше газовых фонарей, что еще применялись в некоторых частях Боро – например, на Зеленой улице, где в одиночестве жила его мать вовсе без электричества. Томми представил ее – скалящаяся скала в стонущем кресле подле камина, лущит горох, а у ее все еще маленьких, но обезображенных фурункулами ножек лежит кот Джим, шипящий газ окрашивает тени комнаты в зеленый цвет глухой крапивы. В следующей раз при встрече с матерью Том надеялся поднять перед собой ее внука, как щит, чтобы загородиться от нападок. Ну, или, очевидно, внучку, хотя сын наверняка будет побольше и потому подольше сдержит мать.
Из-за пустой дороги один раз ударил колокол Святого Эдмунда, хотя Том и не понял, час сейчас или полвторого. Он прищурился на колокольню через клоки тумана и подумал, что не очень-то жалел, что так долго не бывал в церкви с самого случая с Лиз Бэйлисс. Том все еще верил в Бога, загробную жизнь и все такое прочее, но на войне пришел к мысли, что Бог и загробная жизнь – не такие, как рассказывают в церкви. В том, как там одеваются, говорят и вообще себя ведут, много заносчивости и зазнайства. А что Тому сразу понравилось в Библии еще в детстве – что Иисус был плотником, а значит, с большими руками в мозолях, пах опилками и если попадал молотком по пальцу, то говорил «чтоб тебя», как и все. Если Иисус – сын Бога, то кажется, что и папка вел себя примерно так же, когда приколачивал планеты и звезды. Работяга; самый трудолюбивый работяга из всех, который в любимейших притчах из Библии всегда отдавал предпочтение трудягам и беднякам. Тот же мужиковатый и рукастый Бог, о котором в стародавние времена проповедовал Филип Доддридж на Замковом Холме. Томми не слышал той же задорной неотесанности в набожных моралях викариев, не чувствовал того же свойского тепла на полированных скамьях. Сегодня, хотя вера Тома не поколебалась ни на дюйм, он предпочитал молиться в одиночестве и у алтаря погрубее – в своих мыслях. Он не ходил в церковь, не считая похорон, свадеб и – если сегодня все пройдет как положено – крестин. Когда молился, он не двигал губами.
Во многом из-за войны, конечно, как же без этого. Ушли на нее четыре брата, вернулись только три. Ему до сих пор было грустно вспоминать о Джеке, и в то время он не представлял, как семья Уорренов переживет потерю – хотя, конечно, ее переживают все. Как иначе. И с войной так же. Сперва для всех невообразимо, что может быть иной образ жизни, что они оправятся – от бомб, от убитых родственников. Никто не мог представить себе ничего, кроме новых страданий, только еще хуже. Тогда о будущем Томми и мыслить не смел, честно не ожидал, что когда-нибудь его увидит.
И вот спустя восемь лет он здесь – женатый человек в ожидании первенца. Что же до будущего – теперь Томми ни о чем другом и не думал. После войны жизнь изменилась. Ничто не похоже на прежние времена, и сама Англия стала другой страной. У них новая молодая королева – ее в газетах уже сравнивали с Доброй королевой Бесс, – и даже у обычного рабочего народа появились телевизоры, чтобы посмотреть коронацию. Они как в «Путешествие в космос» [50]50
Journey Into Space – научно-фантастическая радиопередача 50-х годов на BBC.
[Закрыть] попали – так бурно налетел на них современный мир, как будто конец войны убрал какое-то великое препятствие и наконец дал двадцатому веку наверстать самого себя. Первый ребенок Тома и Дорин – а они уже заговорили и о втором – станет одним из новых елизаветинцев, о которых теперь только и разговоров. Они увидят такую жизнь, о какой Том и не мечтал, столько всего к этому времени узнают и откроют ученые. Получат все возможности, каких не получил Том или был вынужден отвергнуть из-за обстоятельств.
В густеющей серости Безумная Мэри все еще слала ему серенады вроде «Мой старик сказал – вперед, солдаты-христиане» [51]51
Смесь шлягера дансхоллов «Мой старик сказал «Cледуй за старым фургоном» (My old man said Follow the van, 1919) и гимна XIX века «Вперед, Христово воинство» (Onward, Christian soldiers, 1865).
[Закрыть]; голосок ее пианино казался тоненьким и далеким, словно сломанная музыкальная шкатулка, что завелась сама собой в соседней комнате. Том снова вспомнил свою стипендию по математике, от которой отказался, чтобы взамен устроиться в пивоварню. Да он и вправду не обижался за то, что упустил образование ради помощи семье, но все же скучал по радости, которую ему доставляли цифры и сложение, когда он их только учил.
Это все его дедушка Снежок – вот в кого у него способности к счету. Хотя старик скончался в 1926 году, когда Тому было девять (сойдя с ума и объевшись цветами из вазы, если верить маме Томми), они вдвоем хорошо ладили, и в последние два года жизни дедушки Том проводил почти каждую субботу у него дома в мрачной узкой расщелине улицы Форта. Пока бабушка Лу стряпала на темной кухне, Снежок и юный Том скандировали на все лады таблицу умножения, сидя в гостиной. Геометрия – вот еще в чем дедушка наставлял Томми: грубые круги, обведенные вокруг донышка молочных бутылок крошечным огрызком карандаша, листы оберточной бумаги, накрывающие чайный столик так, что не видно даже бордовой скатерти. Снежок рассказывал внуку, что свои знания почерпнул от собственного отца, прадедушки Тома Эрнеста Верналла, который когда-то в викторианские времена восстанавливал фрески в соборе Святого Павла. Снежок говорил, что он со своей сестрой – двоюродной бабкой Томми, Турсой – слушали уроки папы, пока тот лежал в санатории. Только несколько лет спустя, доняв маму вконец, Томми узнал, что санаторием тем был Бедлам – когда его еще не перенесли из Ламбета.
Сейчас, шаря в кармане плаща в поисках пачки «Кенситас», он вспомнил вечер, когда они разучивали умножение на восемь и девять. Дедушка обратил внимание, что все результаты умножения на девять, если сложить их цифры, всегда равнялись девяти: один плюс восемь, два плюс семь, три плюс шесть и так далее, до самого конца. Воспоминание пахло фруктовым кексом, отчего Том решил, что бабка в тот день пекла на кухне. Тогда его это привело в восторг – открытие про девятку, – и шутки ради он сложил цифры в ответах при умножении на восемь. Сперва, очевидно, шла просто восьмерка, но следующий ответ – шестнадцать – был единица плюс шестерка, а значит, равнялся семи. Дальше – двадцать четыре, два плюс четыре равно шести, тогда как тридцать два таким же образом превращалось в пять. Томми осознавал с растущим интересом, что его колонка сложений пойдет от восьми к единице (восьмью восемь – шестьдесят четыре, где шесть и четыре складывались в десять, а единица и ноль давали в сумме просто единицу), а потом начал отсчет заново, на этот раз начиная с цифры девять (девятью восемь – семьдесят два, семь и два давали девять). Эта цифровая последовательность, от одного до девяти, повторялась снова и снова – предположительно, до бесконечности. Тут-то дедушка Тома и обратил внимание, что та же последовательность встречается в случае умножения на один, только в обратном направлении, и тогда они оба призадумались.
Достав короткую сигарету без фильтра из пачки красного, черного и белого цветов с лощеным и прилизанным символом-дворецким, Том закурил ее с помощью «Капитана Уэбба» и выкинул прогоревшую спичку в приблизительном направлении невидимой канавы, где она и скрылась в холодном паре, ползающем у ног. Сигаретная пачка с дворецким и коробок с отважным усатым каботажником вернулись в карман дождевика. Там их поджидала шоколадка «Пять мальчишек Фрая» с квинтетом ребят на фантике, застывших в разных эмоциональных выражениях. Из-за современной рекламы и этих упаковок выходило, что он носил в кармане семь маленьких человечков – только чтобы закурить и позже перекусить квадратиком шоколада, если захочется заморить червячка.
В тот памятный день под тридцать лет назад Том с дедушкой принялись споро складывать цифры в ответах ко всей таблице умножения. Он помнил свое возбуждение – на него со сдобным духом гвоздики, засахаренных апельсиновых корок и лечебной мази для растирания Снежка пахнуло будоражащей, чистой радостью открытия. Как выяснилось, таблица умножения на два, если сложить все элементы результатов, давала результат в виде закономерности, когда сперва получаешь все четные цифры – два, четыре, шесть, восемь, – затем – все нечетные: один (один плюс ноль), три (один плюс два), пять и так далее до девяти (восемнадцать, или один плюс восемь). Памятуя, что умножение на единицу и восьмерку дало цифровые последовательности, которые были зеркальными отражениями друг друга, Снежок и юный Том перешли к умножению на семь, где и выяснили, что сперва все суммированные ответы проходили через нечетные цифры – семь, пять (один плюс четыре), три (два плюс один), один (два плюс восемь, то есть десятка, цифры которой равнялись единице), – а затем пробегали через все четные. Восемь (три плюс пять), шесть (четыре плюс два) и так далее, пока снова не начинался отсчет нечетных цифр. Семерка работала в точности как двойка, только порядок был вывернут наизнанку.
Цифра три – которая, если складывать перемноженный результат, просто бесконечно давала три, шесть, девять, три, шесть, девять, – побраталась с цифрой шесть, которая давала шесть, три, девять, шесть, три, девять. Цифра четыре показала последовательность, которая сперва виделась сложной тем, что вела параллельный счет между четными и нечетными вперемежку. Таким образом получаешь четыре, затем восемь, затем три (или один плюс два), затем семь (один плюс шесть), затем два (два плюс ноль), шесть (два плюс четыре), один (два плюс восемь, что складывалось в десять, или один плюс ноль), пять (тридцать два, или три плюс два) и так далее и тому подобное. Таблица умножения на пять – теперь уже без сюрпризов – делала то же самое в обратном порядке. Она точно так же чередовала два ряда, в этот раз от меньшего к большему, а не наоборот, так что последовательность в данном случае была пять, один, шесть, два, семь (два плюс пять), три (три плюс ноль), восемь (три плюс пять) и далее в том же духе. Томми с дедушкой переглянулись и расхохотались, так что даже бабушка Луиза вышла с кухни посмотреть, что такого случилось.
А случилось то, что в цифрах ответов на таблицы умножения от одного до восьми скрывались закономерности. Все они были симметричны: единица отражала восьмерку, двойка отражала семерку, тройка работала точно так же, как шестерка, четверка – как пятерка. Только та, что разожгла интерес исследователей, девятка, оставалась как будто единственной цифрой без близнеца, цифрой, которая, сколько ни перемножай, давала один и тот же неизменный результат.
Восьмилетний Том попытался объяснить все это ничего не понимающей бабке, когда ни с того ни с сего дедушка издал ликующий возглас, схватил карандаш-коротышку и начертал слепыми линиями на тонкой и блестящей оберточной бумаге, захламляющей стол, два круга – один внутри другого. Желтым от табака «Кабестан» указательным пальцем Снежок многозначительно ткнул в рисунок, глядя на Томми из-под зимних кустов бровей, чтобы удостовериться, понял его внук или нет. Глаза старика горели так, что напомнили Томми во фруктовой духоте печки и панибратстве математической игры, которую они разгадывали, что его дедушка, по словам многих, включая мамку Томми, безумен. А если подумать, то не многих, а всех. Его дедушка только улыбался и еще раз с силой ткнул в загадочный чертеж. Но на изображении Снежка были только два концентрических круга, как автомобильная покрышка или нимб ангела сверху. Томми, прищурившись, рассматривал простую фигуру несколько минут, или ему так показалось, прежде чем осознал, что перед его глазами цифра ноль.
И тут как будто в голове включился свет. Ноль – единственная цифра, не считая девяти, которая не меняется при умножении. Все простые цифры между нулем и девяткой при сложении их результатов умножения представляли последовательности, находящиеся в идеальной симметрии. Словно чтобы лишний раз это подчеркнуть, дедушка Тома снова взял карандаш и написал десять цифр в кольце между внешней и внутренней окружностями нуля, как по краю циферблата. Ноль находился приблизительно там, где на нормальных часах было место единице, и цифры продолжали идти по часовой стрелке, оставляя пробелы на местах, где обычно полагалось находиться шести и двенадцати. В результате каждая цифра теперь находилась на том же горизонтальном уровне, что и ее близнец-отражение, и девятка в верхней левой секции была наравне с нулем в верхней правой. Восемь и один были друг напротив друга на десяти минутах, семь и два – диаметрально противоположны, каждая на отметке четверти часа, шесть и три – под ними, а пять и четыре смотрели друг на друга внизу, одна – на двадцати пяти минутах, другая – на без двадцати пяти. Просто загляденье. В одной простой вспышке перед разумом Томми разоблачилась тайная закономерность, что скрывалась все это время под поверхностью.
Ни Том, ни его дед понятия не имели, что может значить их открытие, как не умели придумать никакого полезного приложения для него. Разумеется, это так ослепительно очевидно, стоит раз увидеть, что более чем вероятно – уже множество людей ранее натыкались на этот факт. Но и не важно. В тот момент Том пребывал в сдобно-изюмной и изумительной атмосфере торжества и откровения, которой не знал ни до, ни после. Его дед натянул кривую улыбку – скорее скорбную, чем ликующую, – и снова ткнул черным ногтем в пустое пространство, ограниченное внутренним кольцом нуля.
– Ноль есть тор. Это, значит, как бы фигура с дыркой, как спасательный круг. Или как дымоход, если смотреть снизу или сверху. И посреди нуля, в трубе дымохода, хранится все ничто. Присматривай за ничем, мало ́й, а то оно всюду расползется, не успеешь глазом моргнуть. Тогда уже дымохода не будет, только дыра. И не будет спасательного круга, не будет тора. Не будет ничего.
На этом Снежок Верналл враз то ли разозлился, то ли огорчился. Скомкал клочок бумаги с нарисованным переосмысленным циферблатом и швырнул в огонь. Том не понял ни слова из того, о чем только что говорил дедушка, и наверняка казался испуганным внезапной переменой в настроении старика. Бабка Луиза, которой как будто были знакомы эти скачки настроения, сказала: «Так, ну хватит с вас на сегодня счета. Малыш Томми – дуй домой, пока мамка не стала волноваться. Деду Снежка повидаешь в другую субботу». Она даже не провожала Тома – возможно, потому что знала: взрыв неминуем. Не успел Том прикрыть старую входную дверь и выйти на улицу Форта, как услышал яростные вопли, а сразу за ними – звон разбитого стекла. Скорее всего, жертвой стало окно или зеркало – дедушка был известен подозрительным отношением к зеркалам. Том заспешил по улице Форта, которая, хоть день еще не перевалил к сумеркам, теперь вспоминалась Тому зловеще мрачной. Впрочем, теперь он припоминал, что это было в двадцатых, задолго до того, как снесли Деструктор мусора в Боро, чтобы очистить место для многоквартирников на Банной улице, так что разрешилась хотя бы эта загадка.
Том затянулся «Кенситас» и выпустил нечаянное кольцо, почти мгновенно слившееся с зябкими вьющимися клубами, окружавшими его на дороге Уэллинборо. Он пожалел, что рядом никого нет, чтобы это увидеть. Что рядом нет Дорин.
Расплываясь от городского центра на запад, направо от Тома, по-прежнему продолжалось блуждающее и звенящее выступление концертантки-марафонщицы, ноты болтались на нечастых нитях ветра, как стеклянные подвески, что стекают с хрустальных люстр. Мелодия по-прежнему о чем-то ему напоминала – может, о какой-то другой похожей ночи, какой-то другой музыке, плывущей в другом тумане? Воспоминание, как и сам туман, утекало между пальцами, и он отпустил его и взамен задумался, как дела у Дорин. Вряд ли она была в настроении оценить колечко Томми, даже если бы его видела. Наверняка у нее другое на уме.
Он вернется. Еще сигарета-другая – и он вернется, сядет в маленькой бежевой приемной поближе к входным дверям бывшего работного дома, где хотя бы согреется. Посидит, притоптывая ногой по полированному паркету, в плаще и демобилизационном костюме [52]52
Выдавался солдату после окончания Второй мировой войны. Хотя одежда была хорошего качества, из-за малого количества людям часто доставались костюмы не того размера, из-за чего костюм стал предметом шуток и вошел в культуру Великобритании.
[Закрыть], как остальные парни, чьи жены рожали в ту же ночь, семнадцатого, и которые уже ждали внутри. Томми побыл с ними какое-то время сразу после того, как привез Дорин в больницу и ее забрали в родильную палату, но недолго продержался – тишина вдруг стала действовать на нервы – и тихо ускользнул под каким-то предлогом. Он ничего не имел против остальных мужиков, просто у них всех было мало общего, не считая того, что девять месяцев назад им выпала удачная ночка. Они же не собирались сидеть и распространяться о своих надеждах, страхах и мечтаниях, как актеры в кино. В реальной жизни так не делается. В реальной жизни у людей не бывает особых надежд, страхов и мечтаний, в отличие от персонажа из кино или книги. В реальной жизни эти вещи не так уж важны для истории, как в литературе. Мечты, надежды – это все не важно, и если кто о них заговорит, то остальные подумают – он себя кем возомнил, Рональдом Колманом, что ли, весь такой чувствительный, с длинными ресницами, черно-серебряный за сигаретным дымом на утреннем сеансе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































