Текст книги "Иерусалим"
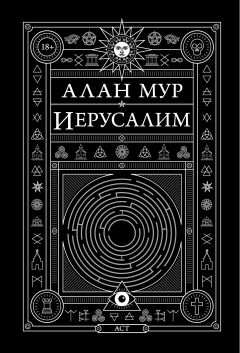
Автор книги: Алан Мур
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 108 страниц) [доступный отрывок для чтения: 35 страниц]
Дорога Уэллинборо напоминала речное русло, по которому к востоку – Абингтону, парку и Уэстон-Фавелл – потоком мглы струился пар, как перепачканное овечье руно. Охваченные ночью лавки и пабы превратились в норы полевок, вырытые в берегах ниже уровня воды и скрывающие темные товары. На глазах Томми из спустившегося на землю облака вынырнул щукой одинокий «Форд Англия», затем уплыл в направлении городского центра, пробиваясь против течения тумана и вопреки непрестанному концерту Безумной Мэри. «Форд Англия» стал единственным автомобилем, который Томми узнал точно, по тонкому наклонному курсиву – слово «курсив» он запомнил из уроков каллиграфии в школе, вот оно и пристало. Сливочная и васильковая окраска машины исчезла в устричных течениях, захлестнувших Абингтонскую площадь и статую Чарльза Брэдлоу, и Томми снова остался один, шаркая башмаками по каменистому и асфальтовому дну бурлящего течения, втягивая туман через последние полдюйма «Кенситас» и вальяжно выдувая их через нос.
Он знал, что тридцать шесть – уже сравнительно поздно, чтобы заводить семью, но все же не слишком. Том знавал мужчин и куда старше, приводивших на свет первенца. Но все же, когда оба младших брата уже обзавелись детьми, ему казалось, что больше откладывать нельзя. Если он не стал взрослым мужчиной, готовым растить ребенка, сейчас, после всего, через что прошел, то ему не быть таким уже никогда. Хотя война отняла у него Джека, все же она придала Тому какую-то доселе незнакомую уверенность, чувство, что если он уж сумел все это пережить, то Томми Уоррен ничем не хуже других. Он вернулся домой из Франции с новой искоркой в глазах, новой поступью и со вкусом в одежде. Он одевался не дорого и кричаще, совсем нет. Но со вкусом.
Он помнил свое возвращение – как подъезжал к Замковой станции на поезде, битком набитом детьми, матерями, бизнесменами и десятками парней в униформе вроде него с Уолтом и Фрэнком. Ехать можно было только стоя, и всю дорогу от Юстонского вокзала Том с братьями торчали в коридоре еще с парой дюжин человек, качались и жаловались, пока мимо проносились Лейтон-Баззард, Блетчли, Волвертон. Насколько помнил Томми, он травил байки с Уолтером – в этом соревновании нельзя было и надеяться выиграть. Он как раз рассказывал Уолту про ночь, когда британское дурачье в погонах высших чинов перепилось и въехало на танке прямо в арсенал под охраной Тома, так что он даже не мог пристрелить высокооплачиваемых хихикающих мерзавцев из страха взорвать снаряды. В этот момент повествования, сразу после Волвертона, к ним в тесном дергающемся коридоре пристроился здоровый янки – джи-ай [53]53
Принятое название американских солдат, произошедшее от слов government issue – «государственного образца».
[Закрыть], который сел на поезд в Уотфорде и сходил в Ковентри.
Иногда янки были ничего, с ними можно было и посмеяться, но по большей части они только действовали Тому на нервы, как и всем, кого он знал. На фронте была поговорка: когда прилетают Люфтваффе – бегут англичане, когда прилетают RAF [54]54
Королевские военно-воздушные силы.
[Закрыть] – бегут немцы. А когда прилетают американцы – бегут все. Наглые засранцы поддерживали Гитлера до самого 1942-го, а потом пришли на войну позже всех и забрали всю славу, даже когда влезли прямиком в ловушку колбасников и наверняка оттянули конец войны своей «Битвой за выступ», или операцией «Осенний туман», как ее гордо звали фрицы. Но в тылу их солдаты были еще хуже – по крайней мере, белые. Темныши-то были на вес золота, лучше ребят на всем фронте не найдешь, и Томми помнил, как был дома в увольнении и видел, как владелец «Черного льва» вышвырнул белых американцев, когда они начали жаловаться на черных, с которыми были вынуждены делить «салун». «Эти ниггеры в углу», – так они их звали. Некоторые американцы были нешуточными гербертами, и тот, что подвалил в поезде к Томми и его братьям, оказался точно из них.
С самого начала он похвалялся, насколько у янки оклад больше, чем у англичан, насколько больше пайки и все такое. Уолтер мудро кивнул и не смолчал: «Ну, это по-честному, ведь у вас и рты больше», – но джи-ай балаболил без умолку, будто и не заметил подначки Уолта. Начал рассказывать – шепотом из-за присутствия в коридоре дам, – как много американской армии выделили резинок. Так как его полк дислоцировался в Англии, парень все равно что сказал, что их выдали для использования с английскими девушками, а британские мужики не могли спустить ему это с рук так легко. Томми видел выражение в глазах братьев – наверное, такое же появилось и в его собственных. Уолтер улыбался во весь рот с огоньком во взгляде – а это всегда было дурным знаком, – а Фрэнк просто затих с натянутой усмешкой на худощавом лице, а значит, янки, несмотря на свой рост, напрашивался на взбучку, если не прекратит шлепать языком. Он говорил не с кем-нибудь, а с Уорренами, которые завоевали себе доброе имя, пока освобождали порученный им клочок Франции, которые потеряли брата – самого красивого из них, – и которым за все это выдали гору медалей, что им даром не сдалась. Приняв опасное молчание за уважение или благоговение, джи-ай решил подкрепить свое бахвальство, выудив американскую армейскую жестянку, в которой держал презервативы, отжав крышечку и представив на обозрение не меньше двух десятков средств предохранения. Том вскользь поинтересовался, не пишут ли американцы на резине задорные слоганы, как на боках бомб. «За тебя, принцесса Лиз!», или что-нибудь в этом духе. Уолтер заглянул в открытую жестянку и заметил: «Вижу, у тебя многовато осталось». Фрэнк скрежетал зубами и сжал кулак, готовый уже врезать, и как раз тут поезд налетел на кочку, так что вагон задребезжал и закачался.
Презики выстрелили в воздух, как искры римской свечи, упав резиновым дождем на плечи банкиров, в ранцы школьников и на шляпки дам. Янки покраснел, как Россия, ползал на четвереньках, извинялся перед женщинами, вылавливая упаковочки между их каблуков и упихивая обратно в жестянку. Уолтер начал напевать «Когда джонни вернутся домой – ура!» [55]55
«Джонни» – сленговое название презервативов. When Johnny comes marching home – популярная американская песня Гражданской войны.
[Закрыть], и все в вагоне, за исключением янки, смеялись так, как не смеялись с самого 1939-го.
Том чуть не обжег губу, последний раз затянувшись сигаретой, затем метнул уголек в невидимый кювет за своим предшественником. Тогда были особые времена – когда они только вернулись домой с войны. Форсили каждый вечер пятницы, знаменитые братцы Уоррены в своих костюмчиках – но только старший Томми с подходящим платком в нагрудном кармане. Дефиле от паба к пабу, лязг и звон одноруких бандитов, рассыпающихся перед ними фруктами и колокольчиками, обожающие улыбки пышногрудых хозяек таверн – военные герои, как жаль вашего красавца брата. Бесплатный алкоголь из дозаторов, Уолтер травит шутки и продает дешевые колготки – мисс, ими пользовались всего раз, и то монашка. Фрэнк лыбится, Томми краснеет и еле удерживается от смеха, когда они обходят сцепившихся лесбиянок на Мэйорхолд, и луна, как отшвартованная шапка «Гиннесса», плывет над Боро, словно луч театрального прожектора.
Снежный рождественский сочельник, когда Уолт нашел на рынке пустой ящик из-под яблок, запряг в него какими-то веревками Фрэнка с Томми, а затем втиснул свой толстый зад, чтобы его волочили по городскому центру, как два оленя рождественского деда. «Хо-хо-хо, засранцы! Но!» Они ввалились в Гранд-отель и купили себе выпить, по бокалу на брата, а счет им выставили больше чем на фунт. Под руководством Уолта Фрэнк и Том разошлись по сторонам широкого вестибюля отеля и начали скатывать огромный дорогой ковер, обращаясь к людям на пути, чтобы они приподнимали свои стулья и столы. Вылетел управляющий или еще какая-то шишка, потребовал ответа у Уолта, какого дьявола они творят, на что Уолт отвечал, что они забирают ковер, раз уж за него заплатили. Уносить ноги пришлось быстро и без половика, но, к счастью, ящик из-под яблок так и стоял на привязи у фонарного столба перед входом. Они неслись, как на санях, по всей Золотой улице с синими и зелеными лицами от гирлянд, вдоль Лошадиной Ярмарки, домой на Зеленую улицу к заждавшейся матери. Гитлер помер и все было просто здорово.
Конечно, не считая Джека. Томми вспомнил, неожиданно вздрогнув от страшной ностальгии, как прошел рождественский ритуал семейства Уорренов в первый год после смерти Джека. Семья собралась в зале, как собиралась каждый год, сколько они себя помнили. Мама Томми с натугой стащила изящный ночной горшок из фарфора – не меньше фута шириной, вылепленный во времена задниц потолще, – с верхотурья на старом стеклянном серванте, который стоял у них раньше. На глазах Фрэнка, Уолта, Луи и Томми мама набузовала в посуду до самого края гротескную и неразборчивую смесь алкогольных напитков; остатки из ошеломительно разнообразного репертуара бутылок, что нашлись в их пьющем домохозяйстве. Наполненный переливающимся бледно-золотым компотом из виски, джина, рома, водки, бренди, а то и – кто знает – скипидара, лакированный белый кубок – остается только надеяться, не применявшийся по прямому назначению, – торжественно пустили из рук в руки по семейному кругу, причем руки для этого нужны были обе, и сильные. Очевидно, пить из емкости, не предназначенной для такого применения, было невозможно – по крайней мере, не пожертвовав передом рубашки, и утечки с каждым кругом по комнате и по все более неловким и неслаженным рукам становились только хуже. Во всех предшествующих случаях, когда исполнялся этот ритуал, в его скверности было какое-то великолепие: он казался и комичным, и доблестным, словно они гордились тем, какие они возмутительные и отвратительные чудовища, за которых их почитали представители высших классов. Чувствовался в этом какой-то ужасный размах, но только не после гибели Джека. Та доказала, что они все-таки не могучие и бессмертные огры, неуязвимые во хмелю. Просто шайка блюющих и рыдающих пьянчуг, которые лишились брата; лишились сына. Том не припоминал, повторяли ли они рождественский ритуал после того горького года победы.
Через дорогу Уэллинборо часы Святого Эдмунда пробили дважды, обозначив два часа ночи, и явно спугнули какую-то задремавшую птичку – по крайней мере, если судить по смачной капле голубиного помета, бесшумно шлепнувшего из туманов над головой, разукрасив при приземлении лацкан его плаща жидким мелом и икрой. Том простонал, чертыхнулся и выудил чистый платок из кармана, где не было спичек, папирос или шоколадок, и торопливо стер белое месиво, пока не осталось только бледное влажное пятно. Запомнив на будущее выстирать использованную тряпицу прежде, чем сморкаться, он сунул ее обратно в дождевик.
Конечно, долго послевоенное упоение не продлилось. Не то чтобы все стало плохо, вовсе нет. Просто времена изменились, как обычно и бывает. Сперва Уолт нашел себе красотку и женился, что и привело к нотациям мамы Тому и Фрэнку, когда она перекрикивала шум, который поднял ансамбль дяди Джона в дансхолле на Золотой улице, и втолковывала, что пора им найти себе пару, не то хуже будет. Фрэнк, который не лез за словом в карман и не тянул кота за хвост, быстрее Томми среагировал на ультиматум матери. Не стушевался и нашел рыженькую оторву, что давала прикурить не хуже него, и они обвенчались в 1950-м, после чего Том в одиночку понес тяжесть ворчливого неодобрения мамы.
Томми помнил, как в этот период искал убежища и совета у старшей сестрички, при малейшем поводе заглядывая в Дастон к Лу, ее мужу Альберту и их детям. Лу, как и всегда, была радушной хозяйкой, приносила чашку чая в их уютный просторный зал, слушала о его несчастье, склонив голову набок, как плюшевая сова. «Твоя беда, братец, что ты ходишь других посмотреть, а не себя показать. Я не говорю, что нужно уметь забалтывать, как наш Уолт, или пошлить, как наш шалопай Фрэнк, но будь позаметнее, а то ведь девушки и не знают, что ты есть. Без толку ждать, пока они тебя найдут, девушки не такие. То есть ты собой хорош, одет всегда с иголочки. Даже танцевать умеешь. Не понимаю, что с тобой может быть не так», – голос Лу, тихий и смеющийся, звучал с очаровательной хрипотцой – почти как жужжание или гул, что из-за небольшого роста сестры наводило Томми на мысли об ульях, меде и, продолжая ассоциацию, воскресном чаепитии. На нее всегда можно было положиться, что она и на правильный путь наставит, и при этом настроение поднимет. Иногда Том видел в Лу проблески той, кем наверняка была их мама в молодости, прежде чем потеряла первого ребенка из-за дифтерии и ожесточилась, стала смертоведкой.
Единственный случай, что Том мог припомнить в связи с работой его матери с рождением и смертью, касался всего одного утра в детстве, но тем не менее оставил впечатление на всю жизнь. Скончался мистер Партридж – большой грузный мужчина, который жил в нескольких дверях от их дома на Зеленой улице, – но он оказался слишком толст, чтобы вынести его из дверей главной спальни, где он умер. Томми наблюдал с конца Зеленой улицы, где та пересекается со Слоновьим переулком, как его мама руководила на дороге разборкой окна на втором этаже дома и затем спуском огромного и почти лилового мистера Партриджа на лебедке в катафалк с лошадью в упряжи, терпеливо ожидавшей внизу. Конечно, с ритуальными услугами от «Коопа» в эти дни смертоведкам не остается никакой работы. Мама Тома ушла на покой в конце 1945 года. Когда не стало Джека, она, видимо, уже была по горло сыта смертью, а с маячившим на горизонте Национальным здравоохранением, пожалуй, решила, что недолго ждать, и когда проблемы рождения разрешатся сами собой.
В эти дни большинство женщин с первенцем рожали здесь, в больнице. Естественно, еще остались акушерки для следующих детей или жителей деревенской глуши, но все эти акушерки работали на Национальное здравоохранение. Не вольнонаемницы, как его мама, и никто их больше не называл смертоведками. Тому казалось, что в целом это к лучшему. Он человек современный, и был вполне доволен, что жена сейчас разрешается в современной палате, под присмотром настоящих врачей, а не в темной спаленке со старой страшной каргой, вроде его матери, над душой. У Дорин и так хватало опасений насчет мамы Томми, и если Мэй еще и сунет нос в рождение первого ребенка, то это точно станет последней каплей. Томми передернулся от одной мысли – а впрочем, может, всего лишь из-за ноябрьского вечера.
Именно Дорин спасла Томми от участи холостяка и осуждения мамы. За то, как он ее нашел, надо было благодарить удачу. Все, как и говорила Лу, – он был слишком робок с девушками и не умел пустить в ход обаяние, как Уолт или Фрэнк. Единственной надеждой Тома оставалось найти кого-то еще застенчивей себя, и в Дорин он увидел именно это – его идеальное дополнение. Вторую половину. Как и Том, она была застенчива не из-за трусости или слабости. Под ее сдержанностью чувствовался хребет; она просто предпочитала тихую жизнь без суматохи, точно как и он сам. Она – как и он, и любой другой, повидавший окопы, – предпочитала не высовываться и просто делать свое дело, не привлекая лишнего внимания. Даже чудо, что он ее вообще заметил – съежившуюся за компанией шумных и хохочущих подружек с работы, словно со страха, что кто-нибудь заприметит ее красоту: жидкие голубые глаза, слегка вытянутое лицо и волосы – русые, как кора, курчавые, как волна. Ее свечение, как на экране, туманность черт, как на мини-афише. Он сказал, как только они познакомились, что она похожа на кинозвезду. Она только поджала губки в улыбочке и цокнула языком, ответив, что не дело быть таким сентиментальным.
Они поженились в 1952 году, и, хотя с точки зрения места им было логичнее отправиться на Зеленую улицу и жить с его мамой, никому этого не хотелось. Ни маме Томми, ни самому Томми, и уж тем более не Дорин. Она оказалась единственной из всех, кого встречал Томми, кто, несмотря на робкую и скромную натуру, не мирился с притеснениями или запугивающими манерами Мэй Уоррен. Том и Дорин предпочли остаться на дороге Святого Андрея с ее матерью, Кларой, и другими членами ее семьи, что там проживали – по крайней мере, проживали до недавнего времени. Хотя мысль о том, чтобы они с Дорин жили с мамой Тома, будто пришла прямиком из кошмара, эти последние два года у основания Ручейной улицы и Алого Колодца оказались ненамного лучше.
Хотя, конечно, не из-за мамы Дорин, как было бы на Зеленой улице с Мэй. Клара Свон работала в прислуге и осталась благопристойной и религиозной женщиной с тихим нравом, и, хотя она могла быть и строгой, и суровой, если того потребуют обстоятельства, почти во всем оставалась полной противоположностью Мэй Уоррен – тонкая и статная, тогда как его мать была коренастой и дородной. Нет, Томми отлично поладил с мамой Дорин, как и со всеми ее братьями и сестрой, их супругами и детьми. Просто их всех было до недавнего времени слишком много, а дом – слишком маленьким.
Конечно, старший брат Джеймс женился и съехал раньше, чем появился Том, но места все равно было впритык, все толкались. Во-первых, сама мама Дорин, которой принадлежал дом – по крайней мере, ее имя было указано в учетной книге. Потом сестра Дорин, Эмма, и ее муж Тед, с двумя детьми, Джоном и маленькой Айлин. Эмма, старше Дорин, была первой женщиной-проводницей в Англии, и именно на железной дороге она познакомилась со своим удалым мужем-машинистом, Тедом, который чистил зубы сажей. Затем младший брат, Альф, – водитель автобуса, его жена Квин и их младенец – малыш Джим. С Томми и Дорин выходило, что в тесный домик на три спальни битком набивался десяток человек.
Первые несколько месяцев Дорин и Том устроились, как могли, на диване в зале. Эмме и Теду с двумя детьми досталась передняя спальня, выходящая на улицу, Кларе – маленькая спаленка по соседству, над гостиной, Альф и Квин жили в самой маленькой комнатушке – в задней части дома над кухней. Малыш Джим спал в ящике гардероба. По ночам было тесно и неловко, но вечерами, сразу после чая, – того хуже, когда все возвращались домой с работы и собирались в гостиной слушать радио. Между Тедом и Эммой целыми днями могла висеть враждебная тишина, когда они только метали друг в друга взгляды над бутербродами из консервированной трески и под фирменные фразочки шоу «Снова он»: «Дас ист говорит Фюнф», «Уступите велосипеду» и «Не забывайте о ныряльщике» [56]56
Шоу на радио BBC It’s That Man Again, 1939–1949. «Dis iss Funf speaking» – фраза немецкого шпиона в исполнении Джека Трейна, надолго стала популярным приветствием в телефонном разговоре. «Don’t forget about diver» – фраза, с которой появлялся и уходил персонаж Глубоководного ныряльщика Дэна, с фразой «Mind my bike» в сопровождении звонка появлялся комик Джек Уорнер – обе фразы вошли в обиход.
[Закрыть]. Альф каждый вечер приходил вымотанный из-за того, что вставал водить автобусы в самую рань, и скоро уже храпел на циновке перед камином, точно огромный кот в водительской униформе. Его жена Квин – она же по совпадению сестра Теда, мужа Эммы, – в большинстве случаев просто сидела у камина и плакала. И как ее не понять. А малыш Джим наверху вылезал из своего ящика гардероба и колотил по полу, иногда часами напролет. И его тоже можно было понять, бедолагу, он вообще жил в гардеробе. Если от этого ум за разум не зайдет, то Том и не знал, от чего еще. Беда малыша Джима была в том, что он был слишком умен. В семье Свонов или Уорренов никого не назовешь тугодумом, но малыш Джим был из нового поколения, а по ним с самого начало было видно, что они не лыком шиты, особенно малыш Джим. К трем годам он уже дважды умудрился сбежать из дома и уйти на четыре квартала, прежде чем его задерживала и водворяла на место полиция. Впрочем, учитывая, какой опасной может быть детская жизнь на дороге Святого Андрея, наверняка для него было бы гораздо лучше, если бы его оставили, где нашли.
Опять же, это не потому, что взрослые в доме пренебрегали своими обязанностями – просто их было семеро, и вдобавок трое детей, все ходили друг другу по головам и путались под ногами, так что без несчастных случаев было никак не обойтись. Старший Теда и Эммы, Джон, любил сиживать на спинке кресла, пока однажды не потерял равновесие и не опрокинулся, вывалившись в окно гостиной на задний двор в ливне осколков. Потом младшая Теда и Эммы, миленькая Айлин, упала лицом в камин с раскаленными красными угольями, из-за чего пришлось мчаться очертя голову к семейному врачу – доктору Грею на Широкой улице. Дорин и ее старшая сестра Эмма в панике неслись по потемневшим окрестностям Мэйорхолд с только чудом оставшейся без шрамов малышке, запеленатой в одеяло.
К счастью, в последний год дела пошли в гору. Сперва переехали Тед с Эм, в дом дальше по дороге Святого Андрея, в Семилонге. Затем отбыли и Альф с Квин – на Бирчфилдскую дорогу в Абингтоне. Малыша Джима они, разумеется, забрали с собой, но по какой-то причине в пятилетнем возрасте он сбежал и из нового дома и преодолел около двух миль оживленных дорог, найдя без сопровождения путь обратно в Боро и дом бабули. Том подумывал, что, наверное, Джим, как иногда путаются свежевылупившиеся утята, перепутал с мамой свой гардероб. Так или иначе, положительной стороной стало то, что теперь в доме на дороге Святого Андрея жили только Клара, Том и Дорин. Тому и Дорин перешла большая спальня, которую освободили Тед и Эмма, и без мельтешащих вокруг людей их ребенок придет в новый, безопасный дом. И в безопасный мир – по крайней мере, на это все надеялись.
Том спрятал щетинистый подбородок, прищурившись на лацкан. Он все еще видел пятно, оставшееся от помета, и угрюмо смирился с тем, что придется оттирать его дома с «Бораксом».
Лично ему казалось, что в общем мир стал безопаснее – хотя, очевидно, не от птичьего помета. Война закончилась, и он сомневался, что в этот раз даже гансы сумеют раздуть ее снова, особенно после того, как проиграли полстраны коммунистам. Очевидно, есть еще Корея, но его малец – если это будет малец – все же вырастет не для того, чтобы его забрали в армию, как Томми, или чтобы трястись ночами под столом в гостиной во время авианалетов, как провела войну Дорин, будучи на десять лет младше Томми. Да и вообще, разве не стали говорить после бомбы, которую янки сбросили на Хиросиму, что если и будет Третья мировая война, то она закончится за пять минут? Хотя это, признаться, не самая веселая мысль. Тома подмывало закурить еще одну сигарету «Кенситас», но раз у него осталось всего пять, и он не знал, насколько их придется растягивать, то решил перебиться.
Черчилль позаботился о том, чтобы в прошлом году первая бомба появилась у Британии, и Франция тоже настроилась на такую. У русских и янки их уже сотни, но Том не сказал бы, чтобы это сильно его заботило. Ему думалось, они будут как газ, которого все так боялись на войне, а бедняжке Дорин даже пришлось раз бежать домой на дорогу Святого Андрея из Спенсеровской школы, когда она забыла противогаз. В конце концов никому не хватило дури его применить, даже Гитлер не решился, и эти атомные бомбы – то же самое. Никому не хватит дури. Впрочем, конечно, янки уже один раз хватило, но Тому в ожидании рождения первого ребенка и так хватало, о чем волноваться, так что он решил выкинуть эту мысль из головы.
Тут слабый ветерок с запада неожиданно поднажал и затрепал плащом Томми. На секунду спихнул туман от закрытого паба – «Парящего орла», сразу за работным домом слева от Томми. Высунулся из дымки оранжевый клюв тукана на жестяной рекламе «Гиннесса», прикрученной на стене снаружи, и снова скрылся. Еще ветер принес возобновившийся каскад нот Безумной Мэри в Карнеги-холле – ее помесные мелодии дребезжали, как чокнутая мебель на роликах, скача по ухабам дороги Уэллинборо. Музыка была обычным попурри; не сиди под старым крестом ни с кем, кроме меня, нет-нет-нет,[57]57
Смесь песни «Не сиди под яблоней» (Don’t sit under the apple tree, 1942) и гимна «Старый крест» (Old rugged cross, 1912).
[Закрыть] – и вдруг Мэри заиграла всего одну мелодию, внятно и ясно, хоть и выдержала только несколько аккордов, прежде чем снова ухнуть в клавишный суп.
А мелодия та была «Шепот травы».
И тут все сложилось. Томми сразу понял, о чем все это время ему напоминала необычная музыка в завивающейся тьме: то происшествие пять, почти шесть лет назад, в первые месяцы 1948 года – вскоре после того, как женился Уолтер, – когда Томми пошел выпить в старом «Синем якоре» в Меловом переулке. Теперь на него нахлынула черно-белая волна нечетких от пива снимков, запечатленных печальных моментов из пьяной прогулки на заплетающихся ногах под бешеное сопровождение пианино и аккордеона в тумане, и Томми поразился, как не вспомнил об этом раньше. Как можно забыть тот странный, пугающий случай, все страхи и вопросы, которые он бросил в лицо Томми и его семье? Наверное, в его защиту можно сказать, что голова у него была занята – мыслями о Дорин и карапузе, – но даже при этом сложно было поверить, что подобная ночь так легко выскользнет из памяти.
Томми закурил очередную сигарету прежде, чем вспомнил, что хотел их растягивать, затем задрал воротник, словно злодей или брошенный любовник в кино – на такое двусмысленное настроение его навели туман и воспоминания. Жесткий край ворота терся возле ушей о щетину прически с выбритыми висками – прически, которую Томми сохранил с армейских времен и освежал каждую неделю. Он брал фольгу из сигаретной пачки, сворачивал ее на обычном коричневом пенни и полировал о короткий волос на затылке, пока монета не засияет как флорин, – этому фокусу его научил Уолт. Но, в отличие от Уолта, Тому никогда не хватало духу выдавать отчеканенный на темечке двухшиллинговый за настоящие деньги. Либо не хватало духу, либо было в избытке честности.
Тем вечером несколько лет назад Том и его младший брат Фрэнк пошли в «Синий якорь», который стоял выше церкви Доддриджа в Меловом переулке, почти на Бристольской улице. Паб стал излюбленным местом семьи, потому что его предыдущие владельцы были прадедушкой и прабабушкой Томми и Фрэнка по линии матери. Их бабуля Луиза, которая умерла в конце тридцатых, в молодости была пышногрудой дочкой хозяина, разносившей напитки в «Синем якоре» в 1880-х, когда на огонек с одной из долгих прогулок из Ламбета заглянул Снежок Верналл. Не пересохни у дедушки Тома горло или пройди он еще двадцать ярдов до «Золотого льва», не было бы ни Мэй, ни Томми, ни младенца, который прямо сейчас протискивался на свет божий в больнице за его спиной. Это объясняло теплое расположение семьи к заведению до времени, пока его не снесли несколько лет назад. Короче говоря, они с Фрэнком сидели в кабаке, закладывали пинты, и, хотя вечер выдался славным, настроение было безжизненным и подавленным – по крайней мере, у Тома. Отчасти, очевидно, они скучали по Уолту – он полугодом ранее женился, и это означало, что трех мушкетеров усекли до двух. А без неистощимого потока шутеек Уолтера оставалось больше времени сидеть и грустить по четвертому мушкетеру – их Джеку, их покойному д’Артаньяну с могилкой во Франции и именем на монументе у церкви Петра.
Как бы то ни было, Томми в тот вечер в «Синем якоре» погрузился в себя. Они с Фрэнком натолкнулись на пару ребят, которых Фрэнк знал по работе, а Том – разве что шапочно, и Том почувствовал себя на отшибе, начал подумывать о другом пабе. Он извинился перед Фрэнком, потом оставил его болтать с приятелями, а сам надел куртку и вышел в Меловой переулок. Тогда было как сегодня – и туман, и прочее, – но когда ты в Боро, а не на процветающей дороге Уэллинборо, то все еще страшнее. Даже от церкви Святого Эдмунда через улицу, с мрачными надгробиями в полночь, не бывает таких мурашек, как в некоторых уголках в Боро среди бела дня.
Оторвавшись и оказавшись наедине с собой, Том решил направиться в ближайшую пивную, где он кого-то да узнает – то есть в «Черный лев» на Замковом Холме. Хотя у заведения не было таких семейных ассоциаций, как в случае «Синего якоря», в каком-то смысле в прошедшие годы оно было еще более постоянным центром внимания для клана Уорренов. По крайней мере с тех пор, как мама и папа Томми переехали на Зеленую улицу и их дом оказался всего лишь ниже по холму, за поляной у задних ворот брусчатого двора «Черного льва». Стоявший с незапамятных времен подле церкви Святого Петра, тот оказался удобным местом сборов после семейных похорон или крестин, а будучи всего в двух минутах ходьбы, стал идеальным заведением для того, чтобы заскочить почти в любое время дня и ночи. Летом старые ворота открывались на поросший лютиками и травой склон за пивной и церковью Святого Петра, где мама Тома часто сиживала на скрипучей завалинке, припорошенной изумрудной плесенью, и выпивала с еще живыми подругами: старушками в таких же, как у нее, черных чепчиках, пальто и настроении. Как раз в такой милый вечер длинных теней на глазах у Мэй умерла ее лучшая подруга, Элси Шарп, когда сделала щедрый глоток стаута прямо из бутылки и в процессе проглотила живого шмеля, который в этом время полз внутри бурого стеклянного горлышка. Когда горло ужалили изнутри, оно распухло и закрылось, и через жуткую минуту Элси лежала мертвой под пеньем птиц и лимонным кордиалом света, рассеивающимся над вокзалом.
Выйдя из «Синего якоря», Томми свернул налево и направился по Меловому переулку на Замковый Холм. В окне церкви Доддриджа горел свет – наверное, в помещениях собрался какой-нибудь кружок, – а бросив взгляд высоко на каменную стену, Томми разглядел двери для погрузки на половине высоты церкви. Вместе с непреходящей любовью к математике Том унаследовал от помешанного деда глубокий интерес к истории, особенно ее местному аспекту. Но несмотря на это, он так и не нашел удовлетворительного ответа, что там делали эти непрактично высокие двери. Самое подходящее, что он узнал, – прежде чем преподобный Филип Доддридж прибыл на Замковый Холм и переделал здание в дом собраний нонконформистов, его, похоже, использовали для чего-то другого – какого-нибудь предприятия, где требовалась разгрузка и доставка товаров лебедкой на второй этаж. И все же что-то в этом объяснении не нравилось Тому, отчего двери оставались вечным вопросительным знаком на его мысленной карте местности и туманного прошлого Боро.
Да и сам Доддридж, подумал Томми, проходя вдоль часовни и прилегающего кладбища, был загадкой не хуже своей церкви. Не в том смысле, что о нем было что-то неизвестно, а в том, как он сумел добиться таких долговечных перемен в религиозном мировосприятии страны и как он это сделал на крошечном участке в крысиных норах Боро.
Смерть королевы Анны в 1714 году подготовила почву для Филипа Доддриджа – тогда молодого человека двадцати семи лет, – чтобы он прибыл сюда, на Замковый Холм, одним рождественским сочельником пятнадцать лет спустя и принял здешний приход. Анна Стюарт во время своего правления пыталась задавить нонконформистов. Когда она умерла, священник, который объявил об этом, процитировал Псалтырь: «Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она». Это стало сигналом к празднованию для всех диссентеров и нонконформистов, ведь это значило, что скоро на трон взойдет Георг I из Ганноверской династии, поклявшийся поддержать их дело. Все-все мелкие группки – остатки индепендентов, моравского братства – традиции, происходящей от лоллардов Джона Уиклифа 1300-х, – уже наверняка вскрывали шампанское при мысли, что теперь-то разойдутся вовсю, и прибытие Доддриджа в Нортгемптон было частью этих событий. Оглядываясь назад из нынешнего дня, можно сказать, что и главной.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































