Текст книги "Иерусалим"
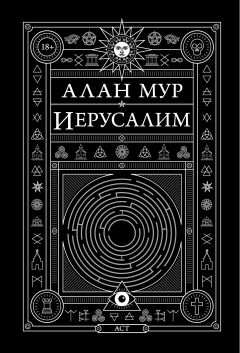
Автор книги: Алан Мур
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 108 страниц) [доступный отрывок для чтения: 35 страниц]
Сам Мик был более-менее на стороне Джека. В «Бесстыдниках» хотя бы честно показывали существование на окраине общества, в отличие от «Хлеба» – с хламидиями или без. И неужели Альма всерьез рассчитывала, что комедия положений воспроизведет ее собственный мрачный и исполненный праведного гнева взгляд на общество? Да это как если бы Достоевский написал серию «Спасибо за покупку» [64]64
Комедийный сериал «Are You Being Served?» (1972–1983) о работниках магазина одежды, находящегося в большом супермаркете.
[Закрыть]. «Мистер Хамфрис, вы свободны?» – «Никто из нас не свободен, дорогая миссис Слокам, если только не при совершении убийства».
Нет, единственный минус сериала для Мика был в том, что чем дольше тот шел, тем больше напоминал о странной тревоге, которую Мик пытался забыть во время просмотра. Эта самая маленькая фигурка, что звала из верхнего угла гостиной в доме 17 по дороге Святого Андрея, – что это может значить, как не то, что он умер и его забрал в некую загробную жизнь – кто, какой-то ангел?
Ну, еще это может значить, что у него ум за разум зашел. Крыша поехала. В клане Верналлов и его ответвлениях, вроде Уорренов, об этом забывать не стоит. Разве не сошел с ума дедушка отца, а потом и Одри, кузина отца? Все говорили, что это семейное, и если подойти к вопросу рационально, это и есть более вероятная причина необычных воспоминаний и ощущений Мика, чем то, что его вознес в рай ангел. К тому же, чем дольше он думал о человечке, сидевшем в углу, тем меньше тот напоминал ангела. Слишком маленький, в простой одежде – розовом кардигане, голубой юбке и коротких носочках. Девочка. Теперь Мик вспомнил, что увиденный гомункул был маленькой девочкой со светлыми волосами с челкой. На вид он не дал бы ей больше десяти и уж точно не принял бы за ангела. Ни крыльев, ни нимба – хотя что-то странное все-таки было, что-то на шее – длинный шарф? Меховой шарф, точно. Весь в крови. С маленькими отрубленными головами. Твою мать.
Ему не хотелось сходить с ума, не хотелось, чтобы семья, дети и друзья видели его в таком состоянии, переживали из-за того, что все реже посещают то заведение, куда его отправят. Если ты Альма или работаешь в профессии, в которой безумие – желательный аксессуар, что-то вроде психо-ювелирки, то и с этим можно жить. Но на Дворе Мартина с ним не протянешь. В ремонтном бизнесе не было места для притягивающей взгляды эксцентричности. Тут же станешь клиентом фармацевтической лоботомии Нацздрава, после чего твоя талия расширится, а способности думать, говорить и реагировать на раздражители пропорционально сократятся. Эта идея не казалась Мику перспективной или вообще выносимой, но в тот момент он рассматривал ее как серьезную вероятность. Чувствовал, как из-под половиц памяти напирают тысячи неправдоподобных подробностей, не менее тревожных и невообразимых, чем окровавленный меховой шарф девочки, как они так и ждут, чтобы проломиться и захлестнуть его счастливую обывательскую жизнь. Подобные идеи не вместятся в мир Мика. Они его разломают, уничтожат. Мик с новой решимостью вернулся к серии «Бесстыдников». Что угодно, лишь бы не видеть упрямый образ маленькой девочки с меховыми бусами смерти.
Часовой эпизод почти кончался, все Галлахеры собрались в общей гостиной и пытались усыпить малышей близнецов, за которыми им поручили присматривать. Мать младенцев, жертва Сероксата с эмоциональными проблемами, оставила инструкции, что близнецов можно укачать, если петь им гимны, а самый подходящий – почти повсеместно чтимый «Иерусалим» Блейка и Перри. Семья в очередной раз коверкает всеми любимый стандарт без всякого заметного эффекта на воющих малышей, когда наконец возвращается домой мать. Несмотря на очки-консервы сварщика и ОКР, она тут же отправляет близнецов ко сну удивительно духоподъемной вариацией «Иерусалима», исполненной неожиданно тренированным и чудесным сопрано. «По травам Англии моей…» [65]65
Пер. Л. Подистова.
[Закрыть]
Вдруг откуда ни возьмись на глаза Мика навернулись слезы, так что пришлось проморгаться, пока дети не заметили. Он понятия не имел, что с ним происходит. Просто эта мелодия – то, как безыскусно шли строем ее ноты, – вдруг задела за живое. Хуже того, гимн вдруг очень уместно прозвучал в этой серии «Бесстыдников» – луч света среди продавленных диванов, синдрома Туретта и колец от чайных чашек, а его чистота и убежденность просияли только ярче и ослепительней в безнадеге окружения. Незамутненная, блистательная святость средь убожества – вот что тронуло Мика. И это почти идеально гармонировало со страшными воспоминаниями из детства, которые он пытался подавить, – кристально ясное видение прорвалось между адскими жерновами, подошло, словно ключ, ко всем внутренним замкам Мика. Подвальная дверь подсознания распахнулась изнутри, и хлынул пузырящийся поток сверхъестественного – куда полноводней, чем он представлял, – и наполнил его образами, словами и голосами, языком чужеродного опыта.
Деструктор, Бедламские Дженни, длина-ширина-когдата-долгота, Портимот ди Норан, глюки и лестница Иакова. «Это старая консерва, но каждый пузырь, что ты выпустил за жизнь, все еще внутри». Маета, Душа и Мертвецки Мертвая Банда. Деструктор. Игра зодчих правильно называется трильярд. Следи за дымоходами и средними углами. Некоторые называют это «Двадцать пять тысяч ночей». Призрачная стежка. Деструктор. Если пришельцы – значит, не созрели. Святая в двадцать пятом, где поднимается уровень воды. Англы с небес. «Вы все складываетесь в нас, а мы складываемся в него». Над петляющей дорогой висят весы. Пустая Душа – ее видно в их яростных глазах. Голые девчонки танцуют на бочонках с танином – какой чудесный день. «Пойдем обдирать яблочки в дурдоме» и Деструктор, и Деструктор, и Деструктор. Все и вся, что он любил, – все всосало, все сгинуло. Руд разбит – вот почему центр расползается. Он насилует ее на парковке, где раньше были Банные сады, и мы бежим искать привидений, над которыми измывались. Доски и нарисованные звезды на лестничных площадках, из трещин растут Шляпки Пака…
Мик резко поднялся и извинился, притворившись, что торопится в туалет. Джо спросил, не поставить ли паузу, но отец отвечал уже с лестницы, что необязательно. Заперевшись в ванной, он просидел на унитазе с опущенной крышкой добрых пять минут, прежде чем смог унять дрожь. Бесполезно. В себе это не сдержать. Надо кому-то рассказать.
Он встал и поднял крышку, символически пописал перед возвращением, по привычке помыл руки в маленькой раковине. Поднял взгляд на зеркало шкафчика и подскочил при виде обезображенного и шелушащегося лица, уже совсем забыв про несчастный случай на работе. Лицо больше походило на неубедительный грим из ужастика, и при мечущихся в голове потусторонних явлениях Мик не мог не рассмеяться от этой мысли. Но смех его, скорее, напугал, так что он осекся и спустился к семье.
Он умудрился продержаться весь вечер, вел себя нормально, ничем не выдавая чувств, хотя Джек и Кэти заметили вслух, что он ведет себя тише обычного. Только когда Мик с Кэти легли, его словно прорвало, и он рассказал все, так сбивчиво и исковеркано, что даже сам ничего не понял, куда уж было понять жене. Она спокойно выслушала его признание, как он боится, что сходит с ума, затем разумно предложила позвонить старшей сестре и выбраться с ней выпить, узнать, что обо всем этом думает Альма. Во всем, что касалось реального мира, Кэти не доверилась бы мнению золовки ни на секунду, но в случае вопросов прямиком из сумеречной зоны, которые мучали Мика, она ничье мнение не ценила выше. Рыбак рыбака. Клин клином вышибают. Кошмар кошмаром прогоняют.
Мик так и поступил. Может, он и сумасшедший, но не дурак. Он назначил встречу с сестрой в «Золотом льве» на ближайшую субботу, хотя сам не понимал, почему выбрал именно это заведение – загнивающий и неказистый кабак в самом мертвом сердце Боро на Замковой улице. Просто казалось, что это подходящее место, вот и все: подходящая нелепая дичь, чтобы поведать старшей сестре свою дикую нелепицу: о маленьком мальчике, который в три года подавился и умер – по-настоящему.
О девочке в розовом кардигане и вонючем кровавом шарфике, которая потянулась к нему из угла жаркими и липкими ручками и сказала: «Поднимайся. Поднимайся».
И забрала его наверх.
Книга вторая
Душа
Я трепещу, когда горит закат
На старой ферме под крутым холмом
И оживляет древность из времен
Реальней тех, что нам принадлежат.
В сем странном свете знаю я: близка
Твердыня та, чьи стороны – века.
Г. Ф. Лавкрафт. Из «Непрерывности» («Грибы с Юггота»)

Наверху
Здорово, здорово, как же это здорово. Мальчик вознесся под рокочущий кругом чудо-гром, словно рядом все настраивался и настраивался духовой оркестр. Так провожает мир, когда его покидаешь.
Майклу казалось, будто он дрейфует в резиновом круге под самым дымчато-желтым потолком гостиной. Он не понимал, как туда попал, и не знал, стоит ли волноваться из-за феи в углу, которая манила к себе из темной ниши всего в паре футов над головой. Хоть она и казалась знакомой, Майкл сомневался в том, стоит ли ей доверять. Сомневался даже, что раньше замечал угловых фей или слышал, чтобы о них говорили родители, хотя, конечно, говорили, иначе и быть не могло. В любом случае мысль, что в углах дома живут крошечные человечки, не казалась чем-то удивительным – не в этом искрящемся сумраке, где он плыл, осиянный изумлением.
Майкл попытался разобраться, где же находится, но не мог толком вспомнить, кем или где был, пока не очутился средь мерцания и цимбал. Хотя мысли его стали умными как никогда в жизни – говоря по правде, не то чтобы он помнил свои прежние мысли, – Майкл все же не мог сложить в голове картинку произошедшего. Кажется, ему рассказывали сказку – из тех старых известных сказок, которые знают все, – о принце, что нечаянно подавился вишенкой? Или – хоть это и кажется неправдоподобным – он сам был персонажем в сказке, возможно, даже тем самым принцем, а значит, то, как он всплывает в музыке и мраке, – лишь очередная глава повествования? Все мысли казались ошибочными, но Майкл решил, что пока не станет забивать ими голову. Взамен он перевел внимание на угол, к которому медленно, но верно приближался. Либо приближался, либо становился больше сам угол, подумал он.
Майкл не мог вспомнить, знал ли он раньше, что углы, как и этот перед ним, торчат сразу в обе стороны – так, что они одновременно торчали и углублялись, – или же это понимание пришло в голову только что. Зрительно все примерно напоминало картинки с подвохом на школьных коробках с мелками, где кубики сложены в пирамиду, но никак не понять, в какую сторону они выдаются. Теперь, разглядев угол вблизи, он понял, что в обе стороны одновременно. То, что он принял за нишу, оказалось выступом – не столько вогнутым углом гостиной, сколько торчащим углом стола с вычурной резьбой по краям там, где у потолка шел карниз. Только, конечно, если угол был как у стола, значит, он оглядывал его сверху, а не смотрел снизу. А значит, он тонул к нему, а не поднимался, чтобы стукнуться о него макушкой. А еще это значит, что гостиную вывернули наизнанку.
Мысль, что он погружался, приземлялся на угол гигантского стола, в тот момент показалась ему вполне здравой, особенно потому, что ведь тогда угловой фее было на чем стоять, тогда как до этого она казалась неубедительно прилепившейся где-то над рейкой для фотографий. Впрочем, если она внизу, почему же тогда просит Майкла тоненьким голоском скорее подниматься?
Он подозрительно пригляделся к ней и попытался понять, не из тех ли она, кто может сыграть с ним злую шутку, и решил, что все-таки да, наверняка из тех самых. Более того, чем ближе Майкл к ней подплывал, тем больше фея была похожа на какую-нибудь десятилетнюю девчонку из его района, а это означало, что она как пить дать злодейка, хулиганка с улиц Форта или Рва, которая выбьет из тебя дух одним ударом сумки, полной бутылок «Короны», что она волочет в тайник.
Как и угол, на котором – или в котором – она стояла, фея постепенно становилась больше, и вот Майкл уже мог рассмотреть ее в подробностях, а она была не просто пищащей и машущей точкой синих и розовых цветов среди мушиных пятен на потолке. Еще он увидел, что это не настоящая фея, а девчонка обычного роста, просто до этого она была очень далеко и потому казалась куда меньше, чем была на самом деле. На пару дюймов ниже ее ушей спадали светлые волосы с легчайшим оттенком рыжего, с ровной кромкой, словно ей на голову водрузили миску для пудинга и постригли вдоль краев. Если она родом из Боро, так оно наверняка и было.
Ему лениво пришло в голову, что сами собой начинают вспоминаться обрывки и частички жизни или сказки, в которой он участвовал несколькими мгновениями раньше, прежде чем обнаружил, что болтается в палевых течениях под потолком гостиной. Помнил он миски для пудинга и Боро, помнил улицу Рва, улицу Форта и бутылки «Короны». Помнил, что звали его Майкл Уоррен, его мамку – Дорин, а папку – Том. У него была сестра, Альма, которая каждый день хотя бы раз либо смешила его до колик, либо пугала до испарины. Была у него бабуля по имени Клара, которую он не боялся, и бабка по имени Мэй, которую боялся до дрожи. Успокоившись, что расставил во вразумительном порядке хотя бы эти клочки воспоминаний, Майкл снова обратился к вопросу девочки, что теперь возбужденно скакала на месте в каком-то дюйме над ним. Или под ним.
Ему показалось, что на вид ей девять или десять – для Майкла это был возраст почти что взрослого человека, – и чем ближе Майкл к ней становился, тем больше уверялся, что он в своей догадке прав. На него смотрела тощая и крепко сбитая девчонка, чуть постарше и чуть повыше его сестры Альмы, а еще – красивее и стройнее, с широким смешливым ртом, который будто вечно грозил разразиться хохотом громче, чем способно вместить ее тельце. Прав он оказался и насчет ее происхождения из Боро – или по крайней мере из какой-то похожей округи. Любой бы принял ее за местную по одежде и состоянию расцарапанных коленок. Белая кожа, загоравшая под моросью Боро, серовато светилась от въевшейся в поры железнодорожной пыли, покрывавшей в квартале всё и вся. Но, глядя на нее теперь, Майкл видел, что это тот же бледно-серый цвет, которым иногда наливаются грозовые тучи, когда можно едва-едва разглядеть готовую прорваться через них мишуру радуги. Говоря откровенно, ему показалось, что грязь ей к лицу, словно дорогие румяна или пудра, что можно отыскать только на редких и далеких островах света.
Его удивило, какое хорошее у него зрение. Он и раньше не жаловался на глаза, в отличие от мамки и сестрицы, но теперь просто видел все куда яснее, словно кто-то смахнул с очей паутину. Каждый пустяк во внешности девочки и ее одежды стал резким, как обручальный бриллиант, а приглушенные цвета платья, туфель и кардигана стали не ярче, но как будто живее, вызывали сильный отклик.
Например, вокруг ее розового джемпера, стершегося у локтей, как сетка безопасности цвета увядших роз, висело сияние клубничного мороженого за летним чаепитием, когда в витражное окошко на западной стене гостиной заглядывают последние лучи заходящего солнца. Джемпер казался таким же удачно и естественно гармоничным в паре с ее платьем темно-синего цвета, как мысль о веселых моряках, лопающих сладкую вату на променаде под светом лампочек. Ее носки цвета талого снега сбились в гармошки или сброшенные шкурки гусениц – и один сполз заметно ниже другого, – а туфли с расцарапанными носками сапожник когда-то окунул или выкрасил в старый темно-бирюзовый цвет, со слаборазличимой картой выгоревших оранжевых царапин там, где из-под краски проглядывала кожа. Изношенные ремешки с тускло-серебряными пряжками так же переполняла история, как боевые уздечки из глубокой старины с рыцарями и замками, а еще на ее плечах лежала пышная горжетка, как у герцогини. Вот она-то, когда Майкл изучил ее поближе, его вдруг и напугала.
Горжетка была сделана из двадцати четырех мертвых кроликов, нанизанных на окровавленную нитку и выхолощенных так, что они стали плоскими и пустыми наручными куклами с пришитыми лапками, головками, бархатными ушками и хвостиками-помпончиками. Их глазки были по большей части открыты – черные, как бузина или такие полуночные антиглаза, что бывают у людей на негативах фотографий. Хотя ему шарф из пушистых трупиков показался довольно жутким, в то же время было в нем что-то будоражаще-взрослое. Ведь это наверняка противозаконно, думал он, или по меньшей мере за такое можно напроситься на нагоняй, а потому шарф придавал девочке вид пленительный и авантюрный.
По-настоящему отталкивал только дух ее пушного венка, и в то же время он подсказал Майклу, что не одни только глаза ему вдруг промыли начисто. Раньше запахи не производили на него особого впечатления, по крайней мере по сравнению с насыщенным, горьким бульоном ароматов, в который он окунулся теперь. Словно по оба крыла носа целые оркестры исполняли симфонии вони. Жизнь девчонки и жизни двадцати четырех кроликов на ее шее стали историями, написанными невидимыми чернилами в воздухе – ароматами, и читал он их раздувшимися ноздрями. У кожи ее был теплый и ореховый букет, смешанный с чистоплотным запахом мыла из карболки и каким-то деликатным веянием дыхания, словно от пармских фиалок. Все это обволакивало амбре жуткого ожерелья с примесями норной грязи, кроличьего помета и зеленого сока пожеванной травы, опилочной прелости пустых болтающихся шкурок, медяного налета крови и перезревшей фруктовости, что шли теплыми волнами от высохшей коросты мяса. Зловоние всего и сразу было таким опьяняющим и таким интересным, что даже нельзя было назвать однозначно гадким. Больше походило на душистый суп из всего подряд, в вареве которого скрывался целый мир – и хорошее, и плохое одновременно. Привкус жизни и смерти, как они есть.
Майкл видел, слышал, даже думал куда яснее, чем привык за смутно вспомнившуюся жизнь прикованного к полу трехлетнего мальчика, когда чувства были сравнительно мутными, словно он видел мир через перепачканное стекло. И он больше не чувствовал себя на три года. Он чувствовал себя куда умнее и взрослее – как всегда думал, что будет себя чувствовать, когда ему исполнится, скажем, семь или восемь; а более взрослым он себя представить не мог. Он чувствовал себя совсем другим человеком. С возрастом пришло, как он и ожидал, ощущение, что он стал куда важнее, но в то же время и тревожное понимание, что теперь у него намного больше поводов для волнений.
И самой срочной из всех новых забот, пожалуй, был вопрос, почему он бултыхался у потолка с этой вонючей девчонкой. Что с ним случилось? Почему он теперь наверху, а не внизу, где провел всю жизнь? У него остались смутные воспоминания о больном горле и уюте маминых коленей, о свежем воздухе и жалких желтушниках, окопавшихся корнями в копоти между старыми кирпичами, а потом начиналась какая-то суета. Все носились туда-сюда и чего-то боялись, как в тот раз, когда бабуля распустила узел на голове и, вычесывая длинные волосы стального цвета у открытого очага, подпалила их. Но в этот раз все было словно намного хуже – даже хуже, чем бабушка Майкла с горящей головой. Это слышалось в панике женских голосов. Тут он отдаленно узнал источник бормочущего вокруг милого сердцу грома: так бы звучали пронзительные вопли его матери и бабушки, если замедлить их почти до остановки, когда звуки просто зависнут с дрожью в воздухе.
Его вдруг озарило – со зловещим звоном гонга в животе, – что беспокойство мамки и бабули может быть напрямую связано с его нынешними непонятными обстоятельствами. Расстроились они из-за Майкла – причем мысль эта была такой очевидной, что он удивился, как она тут же не пришла ему в голову. Наверное, он был в шоке, понадобилось время, чтобы привести мысли в порядок. Казалось резонным предположить, что причина его шока как раз напугала и мамку с бабулей до смерти…
Только когда в голове прозвучало это слово, Майкл с накатившим ужасом беспомощности точно понял, где он и что с ним случилось.
Он умер. Со страхом перед этим жили даже взрослые, как его мамка с папкой, и это случилось с ним, и Майкл остался в смерти одинок, как всегда того и боялся. Совсем один и все еще совсем маленький, чтобы справиться с этим огромным событием так, как, полагал он, справляются старики. Из этого падения не подхватят ничьи большие руки. Ничьи губы не поцелуют и не подуют, чтобы поскорее зажило. Он знал, что попал туда, где нет ни мам, ни пап, ни половичков у камина, ни газировки Tizer, ничегошеньки уютного или теплого – только Бог, призраки, ведьмы и дьявол. Он лишился всех, кого имел, и всего, чем был, в одно беспечное мгновение, когда всего лишь чуть отвлекся и вдруг раз – споткнулся и выпал из всей своей жизни. Майкл всхлипнул, зная, что в любой момент его размажет страшная боль и оставит только мокрое место, а потом наступит ничто – а это еще хуже, ведь его уже не будет и он больше никогда не увидит семью или друзей.
Он начал брыкаться и сопротивляться, чтобы проснуться и обнаружить, что это завораживающий сон, но отчаянная активность послужила лишь тому, что все стало еще более пугающим и необычайным. Во-первых, пустое пространство вокруг заколыхалось от движений, как медленное стеклянное желе, а во-вторых, у него вдруг стало слишком много рук и ног. Конечности – которые, как он осознал с небольшим облегчением, по-прежнему были в сине-белой пижаме и темно-красной ночнушке из тартана, – оставляли застывшими в воздухе свои идеальные копии. В одной краткой и энергичной судороге он превратился в пышный раскидистый куст из полосатой фланели, на множащихся стеблях которого распускались бледно-розовые ладони-бутоны. Майкл взвыл и увидел, как его возглас поплыл блестящей фанфарной рябью через хрустальный клей окружающего воздуха.
Из-за этого маленькая блондинка, что была то ли на углу, то ли в углу, как будто только разозлилась – пока он осознавал, что умер, успел позабыть, что она так там и стоит. Она протянула к нему свои чумазые ручонки – вверх или вниз, смотря на каком аспекте оптической иллюзии с коробки мелков хотелось сосредоточиться. Закричала на него – уже так близко, что он мог ее расслышать, а голос больше не напоминал о жуке в спичечном коробке. Вплотную Майкл смог разобрать в ее акценте скрип Боро, всех его захоженных половиц и несмазанных калиток.
– Дуй наверх! Наверх дуй, все блестет хорошо! Руку давай и кончай колготиться! А то станет ток хужей!
Он не знал, что может быть хуже смерти, но так как в этот момент едва видел девочку из-за чащи тартановых деревьев и подлеска полосатых штанов, то решил внять совету. Он застыл так неподвижно, как только мог, и через миг-другой с облегчением узнал, что, если дать срок, все лишние локти, коленки и тапочки мало-помалу исчезают из виду. Как только избыточные части тела улетучились и больше не закрывали вид на угловую фею, он опасливо потянулся навстречу ладони, которую она ему подавала сверху или снизу, и двигался при том как можно медленнее, чтобы свести к минимуму хвосты из остаточных изображений своей руки.
Ее расставленные пальцы сомкнулись на его, и он так удивился, какими реальными и твердыми они оказались, что чуть снова их не выпустил. Вместе со зрением и обонянием стало намного чувствительнее и его осязание. Он словно снял теплые варежки, привязанные к запястьям с самого рождения. Ощутил ее руку, горячую, как свежеиспеченный пирог, и скользкую от пота, как будто она слишком долго перебирала пенни в кармане. У мягких подушечек пальцев оказалась клейкая обливка, словно она ела спелые груши голыми руками и еще не успела их вымыть, если вообще когда-то мыла. Он сам не знал, чего ожидал, – наверное, что после смерти его пальцы попросту будут проходить сквозь предметы, словно сделаны из дыма, – но он точно не предвидел ничего такого липко-правдоподобного, как эти влажные крабовые лапки, цепляющиеся за запястье и смявшие мешковатый рукав халата Майкла.
Хватка у девочки была не только пугающе реальная, но и намного, намного сильнее, чем можно было подумать по ее виду. Дернув за руку, она подтащила его навстречу себе наверх – нет, вниз, – словно пыталась справиться с бьющейся рыбиной в панике. Во время этого процесса он испытал неприятное мгновение, когда глазам и животу пришлось как будто перевернуться оттого, что казалось, будто его сажают на торчащий угол стола, но перед глазами стоял вогнутый угол комнаты, где девочка вытягивала Майкла, словно из бассейна, пока сама находилась на сухом пересечении его стенок. Комната снова стала шиворот-навыворот, словно мальчика волокли через порог, после которого все, что глядит в одну сторону, оказывается, глядит в противоположную, – и в следующий миг Майкл стоял на подгибающихся коленках на том же крашеном деревянном карнизе, что и девчонка.
Эта узкая платформа обегала край большого квадратного чана десяти метров шириной, причем их зависший над пропастью козырек был нижним уровнем амфитеатра из многих рядов, поднимавшегося со всех четырех сторон ступенями, словно гигантская рамка, заключающая в себе объемную аквариумную бездну, откуда его только что и выудили. Десятиметровые марши лестниц, что вели от граней этого подобия пруда, даже в его смятенном состоянии казались неприкрыто непрактичными и смехотворными. Ступени были слишком широкими, в несколько футов от края до стенки, тогда как высота мизерной, не больше десяти сантиметров, так что сидеть на них было бы труднее, чем на бордюре. Отлогое окружение словно сделали из сосны, которую покрасили в белый, все острые углы спилили, а потом покрыли толстым и шелушащимся слоем лака – желтовато-кремовым глянцем, лежавшим нетронутым, судя по виду, с довоенных времен. Если быть откровенным до конца, чем больше он приглядывался, тем больше ступени напоминали старый резной карниз, что обегал потолок их гостиной на дороге Андрея, только амфитеатр был куда больше и перевернут вверх тормашками. Стоя спиной к прямоугольной яме, из которой его вытащили, Майкл даже видел прогалину голого дерева, где отошла краска, оставив пятно, напоминающее завалившуюся набок Британию, – точно такое же Майкл однажды заметил на декоративной полоске прямо над камином. Впрочем, то было не больше марки на конверте, а это казалось неперепрыгиваемой лужей, – но все же он не сомневался, что ее извивающиеся контуры при ближайшем рассмотрении совпадут в точности.
Несколько секунд моргая от потрясения и оглядывая сооружение, Майкл перебирал по кругу клетчатыми тапочками, пока не оказался лицом к лицу с сердитой девчонкой, стоявшей перед ним на сосновых досках в воротнике из смердящих кроликов. На деле она была всего чуть выше его самого, но одета была в обычную одежду, в то время как он – в ночное, а потому Майклу показалось, что он в довольно невыгодном положении. Осознав, что они еще держатся за руки, он их торопливо отпустил.
Хотел сказать что-нибудь вроде «Что это значит?» или «Ты кто?», но взамен раздалось «Чао, летит мальчик!», за чем немедленно последовало: «Стык тут?» Испугавшись, он вскинул пальцы к губам и пощупал их, захотел убедиться, что рот работает как положено. Подняв при этом руку, Майкл заметил, что уже не оставляет за собой изображений всякий раз, как двигается. Возможно, это происходит только в плавучем пространстве, из которого его выловили мгновение назад, но в тот момент Майкла больше беспокоила чепуха, что изливалась изо рта, когда он пытался заговорить.
Девочка смотрела на него весело, склонив голову набок и сжав широкие губы в тонкую линию, чтобы удержаться от смеха. Майкл предпринял новую попытку спросить, где они и что с ним случилось.
– Искажен, пожар страд, дети мы? О песни – я драже не поперхаю, шторм земной лучилось!
Хотя поток вздора по-прежнему приводил в расстройство, Майкл с изумлением обнаружил, что почти понял сам себя. Как и намеревался, он спросил ее, где они, вот только слова переменились и вывернулись, а в их складках запрятались новые значения. Он подумал, что сказанное им можно было приблизительно перевести как: «Скажи, пожалуйста, где это мы? Почему в этом искаженном месте мои чувства пылают, как в пожаре, почему мне здесь и страшно, и радостно одновременно, – и как подобная страда могла выпасть на нашу долю, ведь мы только дети? Объясни – я даже не понимаю, что со мной случилось. Кажется, я поперхнулся драже «Песенка», и тут меня как будто шторм унес сюда, где все словно лучится!» Это казалось вычурным и нескладным, зато, подумал он, содержало все чувства, которые он хотел передать.
Ухмыляющаяся оборванка больше не могла сдерживать веселья и расхохоталась ему в лицо – громко, но беззлобно. Из ее рта вырвались крошечные бусинки опаловой слюны, в каждой из которых отражался целый мир, и разбились о его нос. Удивительно, но девочка как будто поняла хотя бы суть того, что он пытался высказать, и, когда ее смех улегся, она предприняла, как ему показалось, искреннюю попытку ответить на все его вопросы так прямо, как она только могла.
– И тебе чао, мальчик. А я девочка Филлис Пейнтер. Я главная в нашей банде.
Сказала она это другими словами, и в них были кособокие слоги, из-за которых ему послышалось разом и «глашатай», и «горлопанка», – возможно, отсылки к тому, как много она болтала или каким низким для девочки казался ее голос, – но он без труда понял, что она говорила. Очевидно, владела своей речью лучше Майкла. Она говорила, и он слушал одновременно с напряжением и восхищением.
– Вышло так, что ты перешел через стык, порог, и выпал к нам, как все. Ты подсмехнулся конфетой, – он подозревал, тут имелось в виду, что он поперхнулся или задохнулся насмерть, но с комическими ассоциациями, словно ни смерть, ни удушение здесь не принимались всерьез.
Девочка продолжала:
– Вот я тя и дернула из самоцветника, и терь мы Наверху. Мы в Душе. Душа – эт Второй Боро. Хочешь в мою банду?
Майкл не понял почти ничего, кроме последнего предложения. Он отскочил как ужаленный. Его горячий отказ на ее предложение испортила только исковерканная речь.
– Низ качу! Вельми маня удар, от гуда я першу!
Она снова прыснула – не так громко и, как показалось ему, не так уж доброжелательно.
– Ха! Гляжу, еще Лючинка в рот не попала. Вот че все, что ты гришь, звенит неправильно. Погодь чутка, и скоро заговоришь как призракается. Но вернуть тебя туда, откуда ты пришел, уж никак нельзя. Терь жизнь у тя позади.
Она кивнула за него, и он осознал, что последнее замечание было больше, нежели просто оборотом. Она буквально говорила о том, что жизнь у него позади. Почувствовав, как встают дыбом волосы на затылке, Майкл осторожно обернулся.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































