Текст книги "Иерусалим"
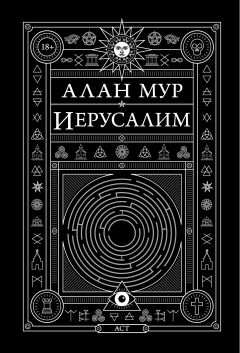
Автор книги: Алан Мур
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 108 страниц) [доступный отрывок для чтения: 35 страниц]
Прогуливаясь тем вечером мимо неухоженных захоронений, Томми подумал, что город показался молодому священнику-диссентеру привлекательным предложением – с нортгемптонской-то долгой традицией прибежища религиозных смутьянов, бунтарей и обычных безумцев. Старый Роберт Браун, образовавший сепаратистов в конце шестнадцатого столетия, похоронен на церковном дворе Святого Эгидия, а город в течение следующего века переполняли пуритане Страны святых и рантеры с их «огненными летящими свитками» [58]58
По названию программного текста одного из рантеров Эбизера Коппа (Abiezer Coppe).
[Закрыть]. С каждой крыши радикальные христиане проповедовали ересь, говорили, что нет другой жизни, кроме этой, что ада и рая не бывает, кроме как на земле, а хуже всего – твердили, что Бог в Библии изображен пастырем бедных, а не богатых. Когда Филип Доддридж вышел из метели в тот рождественский сочельник 1729 года, потирая руки от мороза и радости, у Нортгемптона уже давно устоялась репутация очага, пышущего духовными волнениями.
Евангелизм Доддриджа за девять лет до куда более воспетого Джона Уэсли стал той силой, которая к правлению Виктории преобразила почти все секты диссентеров, да и всю старую добрую англиканскую церковь заодно. И добился этого Доддридж на земле, которая даже тогда считалась самой нищей в стране, и справился всего чуть больше чем за двадцать лет, прежде чем его прибрала чахотка, когда ему еще не исполнилось и пятидесяти; справился с помощью слов – учения, текстов и гимнов. На взгляд Тома, один из его лучших – «Чу! Радости внемли!» «Идет Спаситель наш». Томми всегда думал, что Доддридж писал эти строки, глядя с Замкового Холма и, может быть, представляя, как последняя труба гремит в небесах над церковью Святого Петра чуть дальше по дороге, или воображая, как воскрешенный Иисус в лохмотьях шагает по Меловому переулку к маленькому дому собраний, широко раскинув во всепрощении окровавленные ладони. За более чем тысячу лет существования район повидал немало выдающихся людей – и Ричарда Львиное Сердце, и Кромвеля, и Томаса Бекета, да всех, – но на взгляд Тома Уоррена, Филипа Доддриджа можно смело ставить в ряд достойнейших. Самый героический сын Боро. Их душа.
Часы Святого Эдмунда пробили раз, чтобы обозначить половину третьего, и вырвали Тома из мыслей к переделанному работному дому, к «Кенситас», пригорающей впустую между заляпанных никотином пальцев. Вот это очень жалко. Он бросил тлеющий кончик его старшему туманному собрату и мыслями вернулся в февраль 1948 года, к такой же непроглядной и серой ночи.
Он вышел из Мелового переулка мимо газетной лавки, где воскресным утром брал себе газету, – когда-то здесь был «Коммерческий отель Проперта», – и пересек задушенные асфальтом булыжники мостовой и заброшенные трамвайные рельсы Холма Черного Льва по дороге к пабу, в честь которого и назвали холм. Толкнув дверь, Томми врезался в почти ощутимую стену болтовни, запахов и тепла, спертого жара тел всех тех, кто втиснулся в «Черный лев» той холодной ночью. Еще не успев снять пальто и прожаться через пресс людей к бару, Том уже радовался, что выбрал сегодня именно это место, а не остался с Фрэнком в «Синем якоре». Во «Льве» всегда было больше знакомых лиц.
Был здесь Джем Перрит, отец которого, Шериф, забивал лошадей на Конном Рынке и который жил с женой Айлин и маленькой дочкой у лесного склада – его Джем держал на Школьной улице, сразу за углом от «Черного льва», у Лошадиной Ярмарки. Насколько сейчас Том мог восстановить сцену в памяти, Джем играл в кегли за столиком в углу с Трехпалым Танком – у того на Рыбном рынке на улице Брэдшоу имелась конюшня – и Фредди Алленом. Фред был попрошайкой, его до сих пор иногда можно было встретить в Боро – он спал в арке под мостом на Лужке Фут и пробавлялся тем, что тибрил пинты молока и караваи хлеба с порогов местных. Бродяга сузил мутные глаза, прицелившись, и бросил деревянную голову сыра, но Тому казалось, что Джем Перрит и Трехпалый Танк разносят его в пух и прах. На стойку в бурлящем баре оперся Поджер Сомео, известный в округе бывший шарманщик, теперь отошедший от дела, – да и всюду, куда Томми ни смотрел, сидели местные чумазые легенды с мифическими обидами: запущенный Олимп опустившихся титанов, которые брызгали сальными шутками изо ртов, полных пенной амброзии, неуклюже копошились, как минотавры, в пачках чипсов, ища соль в синем конвертике из вощеной бумаги.
В тот вечер в пабе была представлена и семья самого Томми – по крайней мере, со стороны Верналлов. Был там дядя Тома Джонни, младший брат его мамы, вместе с тетей Селией, а в углу наедине с собой, полпинтой «Дабл Даймонд» и побитым старым аккордеоном на коленях сидела двоюродная бабка Томми Турса, к этому времени уже перевалившая за восьмой десяток и еще более не от мира сего, чем раньше. Томми поздоровался с ней и спросил, не хочет ли она еще пива, на что она ответила встревоженным взглядом, словно не узнала его, но потом все равно благодарно кивнула. Турсе нравилось играть на аккордеоне аль фреско, обходя Боро, хотя несколько лет назад, во время войны, она перенесла выступления исключительно на ночное время. А точнее, выходила на улицу играть на своем инструменте только во время затемнений, когда над головой гудели немецкие бомбардировщики, и ее угрожали арестовать работники ГО, если она не будет сидеть дома и не прекратит свой безбожный шум. Сам Том ни разу не слышал дуэты бабки с Люфтваффе, так как служил за границей. Однако его старшая сестра Лу расписывала их со слезами от смеха на щеках. «Меня послали ее найти, и честно, я тебе клянусь, она стояла в Банном ряду, глядя на большущие черные самолеты в небесах, и наигрывала на аккордеоне то короткие трели, то длинный гуд, будто налет бомбардировщиков ей – немое кино, а она – тапер. Двигатели ужасно рокочут, по всему небу эхо, а Турса стоит да наяривает в такт, такие наигрыши, будто кто-то насвистывает или приплясывает. Я даже описать не могу, но эти ее тра-ля-ля поверх страшного грохота самолетов – и не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. Но все-таки больше смеешься». Том тогда представил картину: тощая старая безумица с грибным облаком белых волос стоит и играет вразлад на затемненной улице под железной мощью немецких воздушных сил. Томми тоже стало смешно.
Когда принесли выпивку и рябую бабку Томми тоже не обделили, он подсел к тихой тетушке Селии и ее оживленному дяде Джонни, с которым хорошо ладил и на которого мог положиться, что тот составит Томми компанию до самого закрытия. Том помнил, как еще перед войной дядя Джонни Верналл присоединился выпить, когда они сидели с Уолтом, Джеком и Фрэнком в «Критерионе» на Королевской улице. Он покорил их своими байками о том, каким был расцвет того почти опустевшего паба, когда на каждом столе гостей ждали хлеб, ветчина, банка с соленьями и ломоть сыра. Приток посетителей, рассказывал дядя Джонни, более чем окупал угощения, и никто не напивался и не буянил, когда у каждого в животе что-нибудь впитывало спиртное. Четырем братьям все это казалось картиной Эдема из утраченного золотого века.
Сидя с тетей и дядей в кабинке «Черного льва», Томми спросил, как они поживают, а заодно поинтересовался о кузине Одри, к которой неровно дышали практически все члены семьи и которая играла на аккордеоне в танцевальном ансамбле под руководством ее отца. Тот самый ансамбль выступил на ура всего несколько месяцев назад на свадьбе Уолта на Золотой улице, когда мама устроила выволочку Тому и Фрэнку и где, на вкус Томми, юная кузина Одри музицировала замечательно и выглядела очаровательно, как никогда в жизни, рассыпая свинги и стандарты скачущим гостям, забившим танцпол. От Одри глаз невозможно отвести, так считали все в семье, но в тот вечер в «Черном льве» на вопрос о ней дядя Тома только покачал головой и ответил, что Одри сейчас дома и переживает подростковые перепады настроения. Том удивился, ведь Одри всегда казалась солнечной девочкой, но решил, что поведанная ему истерика связана с женской природой и ее обычными переменами, о которых, по счастью, Томми тогда почти ничего не знал. Он кивнул и посочувствовал тете и дяде, выразил уверенность, что уже через день-другой их дочка придет в себя и будет сиять пуще прежнего. Как оказалось, на этот счет он ошибался.
Балагуря с родными, Том задумался о том, как сильно любил дядю Джонни – он, как ему казалось, добавлял семье колорита своими кричащими галстуками и горчичной клеткой пиджака, своими повадками шоумена. Было в нем что-то современное – в том, как он руководил ансамблем и говорил о датах и ангажементах, – словно он смело смотрит в лицо испытаниям послевоенного мира и будущего, кипит энергией и ждет не дождется новой жизни. Если верить маме Тома, ее младший брат Джонни с самого детства бредил только сценой, горел всей этой мишурой и кутерьмой, хотя у самого него никакого таланта не было. Несомненно, потому он и стал руководителем танцевального ансамбля, раз не мог петь или играть. Когда его юная Одри оказалась такой одаренной аккордеонисткой, интерес к чему явно переняла у двоюродной бабки Турсы, Джонни наверняка был на седьмом небе от счастья. Томми часто казалось, что когда дядя Джонни стоит за кулисами и с обожанием наблюдает за выступлениями Одри, то он наверняка видит на сцене молодого себя, как в свете софитов наконец претворяются его мечты и надежды. Что ж, удачи ему. Быть может, малыш, которого Томми ожидал сейчас на дороге Уэллинборо, тоже будет хорош в том, к чему лежала душа самого Тома, – скажем, хотя бы в футболе. Томми не мог гарантировать, что, если так будет, сам не станет болеть на боковых линиях, прямо как дядя Джонни лучился гордой улыбкой во мраке и спутанных канатах закулисья.
Тетя Селия была другой – где Джонни шумел, она оставалась тиха, и не вилась над Одри так, как муж. Тетя Селия всегда казалась дружелюбной, даже по-своему веселой, но ей как будто было не о чем говорить. Она не казалась чопорной или чванливой, но если дядя Джонни откалывал свою обычную пошлую шуточку, то она только улыбалась и пряталась в лимонный тоник. Мать Томми была невысокого мнения о своей невестке и говорила, что тете Селии не хватало мозгов, но мама Томми была невысокого мнения обо всех окружающих.
В ту февральскую ночь пять или шесть лет назад он сидел в обществе дяди и тети, пока хозяин не объявил последний заказ, а они не сказали, что больше ничего не хотят. Допив, когда Томми только начинал свежую пинту, они взяли куртки и собрались домой. Идти им было недалеко. Джонни и Селия жили с Одри на Школьной улице, чуть выше по холму от Джема Перрита и его семьи, так что всего лишь за углом церкви. Томми помнил, как дядя Джонни встал со стула в кабинке и надел федору, в которой смахивал на букмекера. Джонни помог подняться тете Селии, вздохнул и сказал: «Ну что ж. Тяни не тяни, а пора. Помирать – так с музыкой», – имея в виду Одри и ее дурное настроение, и тогда это показалось не более чем невинным замечанием.
Они простились, и Том смотрел, как они выходят из задымленного паба, помещение которого было таким же туманным, как мглистая улица, показавшаяся, когда Селия и Джонни распахнули дверь «Черного льва» и вышли в ночь. Томми не торопился прикончить полстакана биттера, оставшиеся от целой пинты, лениво блуждая взглядом по бару в надежде встретить хоть какую-то приличную женщину. Не повезло. Единственным представителем женского пола в «Черном льве», не считая суки хозяина, была Мэри Джейн, драчунья, которую чаще видели на Мэйорхолд – в «Веселых курильщиках» или «Зеленом драконе», или там, или там. Один ее глаз заплыл и распух, стал фиолетовой щелочкой, да и все лицо выглядело так, будто когда-то было совсем другой формы. Она сидела и таращилась в пространство, иногда покачивая головой, словно чтобы ее прочистить, хотя непонятно, то ли из-за того, что ей врезали, то ли из-за того, как нарезалась. Даже бабушка Турса уже улизнула из паба, пока он отвернулся. Томми остался один в совершенно мужском царстве свернутых носов – в последнем отношении включая и Мэри Джейн. Хотя он и так привык по работе находиться среди мужчин, и его такая компания нервировала куда меньше, чем долгое пребывание в окружении женщин, но она была скучнее. Томми опрокинул капли на дне кружки, пожелал спокойной ночи знакомым и направился к двери, застегивая куртку.
Снаружи «Черного льва», с холодным жжением в горле, он не мог выбрать, как быстрее добраться домой, к маме на Зеленую улицу. Наконец решил пройтись у церкви Петра и срезать по переулку на улицу Петра, которая была верхним краем поляны на склоне. Так выходило немного дольше, чем спуститьсяся по Слоновьему переулку, но с хмелем и сантиментами в голове Тому захотелось прогуляться мимо церковного двора, чтобы пожелать спокойной ночи Джеку – ну или, по крайней мере, памятнику. То, что осталось от Джека, до сих пор было где-то во Франции.
Оставив паб позади, Томми поднялся по Холму Черного Льва и на Лошадиную Ярмарку, пока справа за железную ограду церкви цеплялся туман. Томми кивнул, несколько сконфуженно, военному мемориалу, торчащему из плывущего хлопкового пуха у его основания, и удивился, кто это заиграл мелодию, раздавшуюся от таверны, которую он только что покинул. Томми не сразу додумался – до того он окосел от пива, – что в «Черном льве» отродясь не было пианино, да и вообще звук доносился не сзади, а, слабый и переливающийся, летел из сгустившихся впереди теней Лошадиной Ярмарки.
Заинтригованный, Том прошел мимо узкого проулка, сбегавшего между церковью и мужским ателье Орма, по которому он намеревался срезать до улицы Петра. Теперь Тому хотелось знать, кто это шумит в такой поздний час, а также убедиться, что в районе не происходит ничего непотребного. Кроме того, проходя мимо Дома Кромвеля, Томми слышал какую-то даже исступленную мелодию куда отчетливей и в своем притупленном ступоре почти ее узнавал. Оказалось, она доносилась из горлышка Школьной улицы прямо перед ним – спотыкающийся рефрен, что плыл над мостовой с туманом и путался в заплетающихся ногах Тома, словно желая опрокинуть его.
Он помедлил у здания из коричневого камня, где лорд-протектор квартировал в ночь перед сражением на поле у Несби, и оперся рукой о шершавую стену, чтобы выровнять гуляющее равновесие. Тогда-то он и увидел, как со Школьной улицы на Лошадиную Ярмарку выбегают дядя Джонни и тетя Селия, они закрывали лица, словно плача, и висли друг у друга на руках, как два выживших после крушения поезда, карабкающихся по насыпи. Что же такого могло случиться?
Теперь, дуя на руки, чтобы согреться возле больницы, он думал, что стоило просто окликнуть тетю и дядю и спросить, что не так. Но тогда Томми промолчал. Стоял, спрятавшись в тумане, и наблюдал за парой, которая за десять минут как будто постарела на десять лет, как они ковыляли в сырых миазмах, цеплялись друг за друга и мычали, как раненые звери. Они направлялись в сторону Конного Рынка, и хлюпанье их страданий становилось тише. Том смотрел им вслед из своего укрытия и сгорал от стыда при мысли, что видел родных в беде, а сам и пальцем не пошевелил, даже не предложил помочь.
Но оно казалось таким личным, это горе дяди Джонни и тети Селии. Вот и все, что мог сказать в свое оправдание Том. Его с детства воспитывали помогать людям в тяжелую минуту, но учили и не совать нос в чужое дело, и иногда между двумя этими явлениями проходила очень тонкая граница. Так было и в ту ночь с дядей Джонни и тетей Селией. Вчуже казалось, словно в этот миг их жизнь разваливалась на части, словно сломалось что-то у них внутри, словно то, что их расстроило, настолько интимно и унизительно, что если бы вмешался кто-то посторонний, то сделал бы только хуже. Если подумать, возможно, Том подспудно понял, что Селия и Джонни и не искали помощи в своей беде. Не стучались в двери соседей, не просили вызвать пожарных или неотложную помощь. Они не подумали просто спуститься за угол к маме Тома на Зеленой улице – старшей сестре Джонни. Они не искали помощи в Боро, а направились на Золотую улицу и в центр. Позже Том узнал, что дядя Джонни и тетя Селия просидели до рассвета, разбитые, на ступенях церкви Всех Святых, под ее портиком.
Но в ту ночь он смотрел на них, пока они не скрылись из виду, затем побрел по Школьной улице, решив узнать, что происходит. Запинаясь и покачиваясь, он пошел по черной расщелине, где в 1500-х располагалась бесплатная школа, навстречу скорбной, тревожащей душу музыке, звенящей из дымки все громче с каждым неуверенным шагом Тома. Низкие ноты отражались от беспросветных окон обрабатывающих мануфактур, покрытых сажей, слева и справа от Томми, и стекла гудели, как пойманные мухи. Примерно тогда он впервые и уловил, что за мелодию играют снова и снова, выколачивают из старой джоанны где-то во мраке ближе к бывшему Зеленому переулку. Начал напевать ее про себя – знакомые слова вернулись даже раньше, чем вспомнилось название, хотя он тут же понял, что песня хорошо ему известна. Как же там было? «Зачем рассказываешь все свои секреты…»
Томми нерешительно продвигался по неосвещенной улице – сколько из страха споткнуться обо что-нибудь в тумане и полететь кубарем, столько и из страха перед тем, что он найдет в нижнем конце. Он уже знал, что музыка доносится из дома дяди Джонни, что ее играет Одри. Кто еще на всей Школьной улице может вывести такую милую мелодию? «Они похоронены под снегом…» Хоть он отлично знал ее, в тот момент никак не мог вспомнить, как же она называется. Неведение угнетало разум, а Томми шел дальше к невидимой гармонии.
Через двадцать шагов, когда он достиг пересечения с улицей Святого Петра, стало очевидно, что старый напев действительно исходит от дома его кузины через дорогу, на углу улицы Григория. Еще Том осознал, что Школьная улица опустела, не считая его самого и еще одного человека: столбом в ползучем пару, кипящем у порога дома дяди Джонни, тощая и застывшая навытяжку, как палка, закинув голову к освещенному, но завешенному окну, откуда шла музыка, стояла Турса, бабка Томми. В ее руках покоился аккордеон, словно немой и чудовищный ребенок, восковые и прозрачные пальцы одной руки отрешенно поглаживали клавиши, вверх и вниз, словно хотели успокоить молчащий инструмент и сгладить его страхи в тревожной ситуации. Турса и сама не издавала ни звука, но внимала музыке, истекающей из дома, так внимательно, что это было почти слышно. Она все продолжалась, эта мелодия, вышивая свою нить полузабытого текста на одеяле тумана. «Трава, не шепчи, не рассказывай деревьям…»
Конечно, теперь Томми вспомнил название, которое его так мучило. «Шепот травы». Многие годы это была любимая народом песня и к тому времени даже пробралась в язык, именно из-за нее стукачи получили свою кличку – по крайней мере, именно так было, по мнению Тома [59]59
Имеется в виду сленговое выражение «to grass on somebody», настучать на кого-нибудь, которое произошло от названия песни «Whispering Grass».
[Закрыть]. До этого момента Том думал, что песня, хотя и грустная, была слишком сопливой и приторной: трава и кусты беседуют друг с другом – готовая идея для Уолта Диснея. Но в стелящейся мгле на Школьной улице в ту февральскую ночь она вовсе не казалась приторной. Тому она казалась ужасной. Ужасной не оттого, что плоха или плохо сыграна, а скорее от того, словно рассказывала о каком-то ужасе, о какой-то ужасной боли, которую не залечить, о каком-то ужасном предательстве. Аккорды гремели остервенело, ноты сыпались осколками из-под невидимых пальцев. Песня словно обвиняла, а также облегчала душу – мучительное признание, которое уже невозможно забрать назад, после которого ничто не будет как прежде. Это была песня конца.
«…ведь деревьям не нужно знать». Стыд. Вот еще какое чувство, подумал теперь Том, привносила мелодия в промозглый вечерний воздух, не считая боли и злости: неодолимый стыд. Даже страшное веселье, в которое иногда ударялся припев, казалось сардоническим, казалось мстительным, казалось противоестественным. Томми было не по себе – в основном потому, что он, хоть убей, не мог представить, чтобы из такого скромного и целомудренного сосуда, как его кузина Одри, хлестал такой неожиданный поток перемешанных эмоций. Что же творилось у нее в голове, если на выходе оно звучало так лихорадочно, так пробирало до сердца? Что же она чувствовала, если от мелодии ее чувств хотелось спрятаться и сердце уходило в пятки?
Бог знает, сколько раз она уже проиграла мелодию, прежде чем Том или кто-нибудь еще отважился войти на Школьную улицу, но, пока они с бабкой стояли порознь в тумане и слушали, песня повторилась самое меньшее четыре раза, от начала до конца, прежде чем внезапно разверзлась тишина, что во многом волновала даже больше, чем предшествующая ей какофония.
Минуло несколько напряженных минут – словно чтобы убедиться, что концерт действительно закончился, – и тогда бабка Турса вдруг, ни с того ни с сего, зажала четыре ноты гармони, свисающей на протертой кожаной лямке с жилистой шеи, – четыре протяжных и тяжелых ноты, в которых Том с легким уколом тревоги признал начало «Похоронного марша» – по крайней мере, так ему в тот момент показалось. Но уже на этом траурном начале бабка осеклась, ее иссушенные пальцы отвалилились от кнопок. И Турса резко развернулась и зашагала по Школьной улице, как будто, не считая ее краткого музыкального вклада, здесь больше ничего нельзя было поделать. Спустя миг ее сухопарая фигура растворилась в холодном волнении ночи.
Теперь, переминаясь с ноги на ногу во дворе больницы Святого Эдмунда, Том понял, что тогда встретил двоюродную бабку в последний раз, где-то спустя два месяца она слегла с больными бронхами и умерла. Мысленная картина, как она уходит в туман, за колыхающийся покров тайны, – последний ее образ, что он мог вызвать в памяти. Возможно, ее короткая вариация «Похоронного марша» была пророчеством – впрочем, стоило сейчас задуматься, как он вполне мог представить эти четыре ноты началом «О мой папа», а то и еще десятка мотивов.
После ухода Турсы Том простоял там еще около пяти минут, просто уставившись на притихший дом через дорогу, из-за задернутых штор которого просеивался мягкий газовый свет. Затем поковылял по Школьной улице, по Зеленому переулку к маминому дому на Зеленой улице. Когда вернулся, Мэй уже была в постели, а Фрэнк еще не вернулся из «Якоря». Том запалил газокалильный фонарь, от той же спички раскурил папироску, затем посидел несколько минут в кресле перед тем, как лечь.
На другой стороне комнатушки, сжавшейся еще больше из-за газового огонька, у стены стояло семейное пианино, черное и полированное, как гроб. На нем были пустая ваза и большая глянцевая фотография восемь на десять в рамке с подставкой. Снимок был сделан в рекламных целях, явно профессионалом, и на нем изображался групповой портрет коллектива, которым руководил дядя Джонни. Впереди, в самой середине, – несомненно, с прицелом на то, чтобы продемонстрировать самую привлекательную черту танцевального ансамбля, – стояла кузина Одри с аккордеоном чуть ли не больше, чем она сама. Ее изящные руки лежали на клавишах так элегантно, что любому бросалась в глаза искусственность; так ей велел держать позу и аккордеон фотограф. Том легко представлял болтовню и трескотню, с которой тот делал снимок, – обязательно в игривой манере, без нее подобные мужчины как будто не могли обойтись. «Вот так, красота, а теперь улыбочка от восхитительной юной леди». А затем Одри подняла глаза к потолку – вот как на фотографии, – с комичным раздражением, отшучиваясь от комплимента – «Ну что вы!», – но и польщенная, довольная словами, хотя он и сказал их только для того, чтобы она улыбнулась. Она слегка закинула голову назад, словно обращалась к небесам, просила избавления от мужчин и их глупой гладкой лести, и было видно сильную линию подбородка, прямую черту носа, выточенную головку с темными волосами, ниспадающими на плечи отутюженной белой блузки. В тот вечер кузине было около восемнадцати лет, а снимок, на взгляд Томми, был сделан на два-три года раньше, когда Одри исполнилось пятнадцать или шестнадцать. Она казалась такой живой и насмешливой, что Том еще добрых полчаса просидел в залитой газовым светом гостиной, пытаясь уложить в голове образ девушки с фотографии с устрашающим исполнением, услышанным на Школьной улице только что.
Конечно, в следующие два-три дня Том узнал больше о том, что случилось той ночью. Если верить его маме, которая уже услышала подробный пересказ событий от младшего брата, дядя Джонни и тетя Селия вернулись из «Черного льва» на Школьную улицу и обнаружили, что их единственная дочь заперла дом, засела внутри и принялась играть на пианино одну и ту же элегию, подчеркнуто пропуская мимо ушей стук в дверь и требования впустить. Когда требования быстро переросли во встревоженные просьбы, кузина Одри, оказывается, внесла в песню и вокальный элемент, крича поверх лавины собственной игры: «Когда трава прошепчет надо мной, тогда вы вспомните». Наконец ее родители сдались и бежали в туман, по Золотой улице, и всю ночь провели под кровом портика Всех Святых, сокрушенные осознанием того кошмара, что их постиг. Их единственная дочь, их умница, красавица, талантливая дочурка, которая, как они надеялись, воплотит в будущем все их мечты, помешалась, ее ум зашел за разум. На следующее утро вызвали врачей, и Одри Верналл забрали к повороту на Берри-Вуд, в психиатрическую больницу Святого Криспина, пока она, как поведал дядя Джонни, сопротивлялась и брыкалась, выкрикивала самые разные фантастические небылицы. С тех пор она и лежит в лечебнице, а вероятнее всего, проведет там всю жизнь – позор и пятно на семье. Теперь ее имя упоминалось всуе редко.
Общим местом, естественно, стало, что проблемы Одри унаследованные – проклятие, переходящее у Верналлов из поколения в поколение, как было очевидно и по дедушке Тома Снежку, и по его бабушке Турсе.
Вот тебе и на. Семейное безумие. Замечательная тема для размышлений во время ожидания первенца, но Том приходил к выводу, что от нее не скрыться. Это просто факт – сложная лотерея рождения, когда решается, будут у ребенка русые волосы, как у Дорин, или черные, как у Тома, будут глаза зеленые или синие, будет он высокий или низкий, здорового склада или тощего, здравомыслящий или безумный. Ни у кого нет права голоса в том, какими родятся дети, но, с другой стороны, ни у кого нет права голоса ни в одном важном событии жизни. Остается только делать все, что в твоих силах. Остается только играть со сданными картами, как можешь.
Он окинул взглядом все вокруг: марлю тумана на ране ночи, ветхую церковь через улицу – ее вес и присутствие скорее ощущались, чем виднелись. Слева от Тома в темные мили до самого Уэллинборо уходило висящее колье тусклых фонарей. Справа вокруг центра ломкими прядями капризной мишуры сплетались ублюдочные рапсодии Безумной Мэри, а позади темнел реабилитированный работный дом, словно наглый бейлиф, который получил новую работу, форму и поклялся, что исправится. Том с испугом осознал, что мир уже прожил половину двадцатого века.
А еще Том начал понимать, что не только кровь и наследие определяют, каким вырастет ребенок. А все сразу. Мешанина всех частей планеты и всей ее истории, каждого факта и случая, сложивших мир, образовавших родителей ребенка, – все компоненты, что вели к появлению конкретного младенца в конкретном чреве. Ожидая, пока изольется наружу его отпрыск, добродивший в распухшем животе Дорин, Томми понял, что ни в его жизни, ни в жизни его супруги нет ни одного элемента, что не затронет их дитя, – точно так, как каждая жизненная ситуация их родителей оставила свою отметину на них самих.
К примеру, должность директора, от которой отказался Снежок Верналл, сыграла свою роль в том, какая семья и воспитание ждали ребенка. Смерть первенца Мэй от дифтерии привела к тому, что она не остановилась на двух девочках, но родила четырех мальчиков. А будь иначе, ни Томми, ни его будущего младенца вообще бы не существовало.
Потом, разумеется, война, и вся политика, что была до и после нее. Все, что предопределило, какое образование получит грядущее поколение, какими станут их улицы и дома, где они вырастут и будет ли работа, когда они вырастут. И это только из очевидного – любой и так увидит, какое это имеет воздействие на шансы детишек в жизни. А как насчет остального? Крохотные, почти невидимые события приводят к тому, что кто-то выбирает один путь, а не другой, приводят к тому, что повлияет на мир, на его ребенка, к лучшему или худшему. Как насчет них?
Том задумался о водовороте случайностей, жизней, смертей и воспоминаний, что вливается воронкой в каждую схватку Дорин, оставляя оттиск на малыше, пока он протискивается к свету: ночи воздушных налетов, дни в очереди за пособием, радиопередачи и бомбежки. Ноги женщины, на икрах которых карандашом для бровей нарисованы фальшивые швы; резинки, проливающиеся дождем на шляпы пассажиров. Могила пятнадцатилетнего немецкого снайпера у дороги во Франции. Дедушка Тома, в ярости сминающий аккуратное кольцо цифр, чтобы бросить в огонь, черная дыра, расползающаяся из середины горящего листа. Фотография Одри в рамке на пианино, с неестественной позой, легкомысленной улыбкой и ухмыляющимися музыкантами позади в бабочках, с гитарами и кларнетами. Туман, голубиное дерьмо и Безумная Мэри – все как-то просачивается в новоприбывшего, который, если все пойдет удачно, сделает первый вдох и сожмет кулачки уже через час-другой.
С верхних этажей дымки три раза пробили часы святого Эдмунда. Пальцы ног в башмаках так замерзли, что он их уже не чувствовал. А идут к черту все эти солдатские игры.[60]60
Английская послевоенная идиома, отсылающая к тому, что солдатам часто приходилось коротать долгое время за бессмысленными играми.
[Закрыть] Засунув руки глубоко в карманы плаща, Томми Уоррен развернулся на каблуке и зашагал обратно по длинной подъездной дорожке больницы навстречу расплывающимся и далеким огням родильного отделения, слабо поблескивающим во мгле. Дорин еще не родила, иначе бы за ним кого-нибудь послали. По дороге он заметил, что колебаний пианино уже не слышно, хотя Томми и не знал, что это значило: закончила ли наконец Безумная Мэри или попросту сменил направление ветер. Рассеянно мыча, чтобы заполнить внезапную тишину, Том спохватился, когда заметил, что напевает «Шепот травы», перешел на мотив «Чу! Радости внемли!» и продолжил идти. Крыльцо под светом лампочки у приемной постепенно приближалось. Ускорив шаг и оживив мысли, Томми отправился встречать своего новорожденного мальчишку.
Или девчонку.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































