Текст книги "Иерусалим"
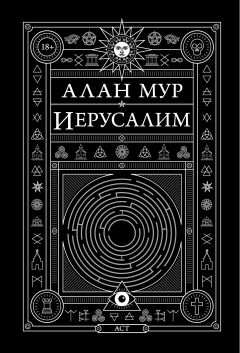
Автор книги: Алан Мур
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 108 страниц) [доступный отрывок для чтения: 35 страниц]
Подавившись песенкой
Что бы там ни говорила его старшая сестра, что бы ни писала фломастером у него на лбу, пока он спал, пусть и всего раз, Мик Уоррен был не дурак. Если бы на цистерне была маркировка опасности, какой-нибудь желтый череп или кричащий человечек с обожженным лицом, тогда Мик вряд ли бы решил, что влупить по ней со всей дури охренительной кувалдой – такая уж удачная мысль.
Но по какой-то причине не было ни флуоресцентных наклеек, ни белых правительственных этикеток, ни даже вялых предупреждений об угрозе старения кожи или недоношенности. Мик в неведении раззудил правое плечо, воздел огромный молот, а затем опустил по знакомой и будоражащей дуге. Удовлетворительный лязг при ударе, отдавшийся даже в самых запыленных уголках Двора Святого Мартина, испортил только его собственный перепуганный вопль, когда весь фасад головы Мика, который он издавна считал своей лучшей стороной, пропесочила ядовитая пыль.
Щеки и лоб тут же вздулись пупырчатой пленкой. Выронив увесистый молот, Мик попытался убежать от токсичного облака, которое выдохнул таинственный бак, как от роя пчел, отмахивался руками и разъяренно ревел – а вовсе не «пищал как девчонка», как позже заявлял некий близкий родственник. Он бы вообще молчал, этот некий родственник. Мик хотя бы выглядел жертвой несчастного случая на производстве всего несколько дней, тогда как она выглядела так с самого рождения и без всякой уважительной причины.
Ослепленный и завывающий, – согласно последующим красочным свидетельствам коллег, – Мик кинулся сломя голову по полукругу и почти с комедийным мастерством облученного постъядерного Гарольда Ллойда влетел лбом в стальную балку, торчащую из гигантских весов, где взвешивали сплющенные баки. Он вырубился напрочь, но, оглядываясь назад, поздравил себя с оперативностью, с которой в суровых обстоятельствах отыскал импровизированное болеутоляющее с эффектом одновременно мгновенным и тотальным. Никак не назовешь поступком дурака, самоуверенно успокаивал он себя через день-другой, когда сошли худшие синяки.
Не успел он пролежать навзничь в грязи и секунды, как Говард – его лучший друг в металлообрабатывающей мастерской – заметил, что произошло, и поспешил Мику на помощь. Он повернул кран, к которому был подключен единственный шланг на предприятии, и навел водяной поток на задранное коматозное лицо Мика, смывая едкий рыжий порошок, покрывавший обожженную кожу, словно грим в стиле «негритянских менестрелей», предназначенный только для радио. Судя по тому, что Говард рассказывал позже, Мик тут же пришел в себя и открыл покрасневшие глаза в абсолютной растерянности. Оказывается, вернувшись в сознание, он что-то бормотал с видом чрезвычайной важности, но слишком тихо, чтобы озабоченные коллеги разобрали больше одного-двух слов. Что-то про дымоход или, может, пароход, который стал больше, – но затем Мик как будто вспомнил, где он, а заодно и что его лицо в волдырях и ржавой пыли превратилось в адскую миску «Коко Попс». Он снова завопил, и, когда Говард промыл из шланга самые пораженные места, испуганное начальство дало добро отвезти Мика через Спенсеровский мост выше по Журавлиному Холму, по Графтонской улице и Регентской площади, через Маунтс и по запутанным поворотам на Биллингскую дорогу до Клифтонвилля, где теперь находилось травматологическое отделение больницы. Несмотря на то что все время путешествия Мик обильно матерился в прижатое к лицу влажное полотенце, что-то в выбранном маршруте показалось ему тошнотворно знакомым.
Ему повезло – в больницу он попал в спокойное время и тут же отправился на осмотр, хотя врачи мало что могли поделать. Его почистили, закапали капли в глаза, сказали, что зрение вернется к норме на следующий же день, а лицо – через неделю, и Говард отвез его домой. Всю дорогу Мик молча глядел в окно машины на расплывающиеся Баррак-роуд и Кингсторп из-под опухших влажных век и пытался понять, откуда в нем завелся ползучий и зловещий страх. В «травме» его выскребли дочиста. Насчет долгосрочных последствий несчастного случая переживать незачем, а если учесть несколько дней оплаченного больничного с работы, то можно сказать, что он вышел из ситуации победителем. Тогда почему же казалось, словно над ним зависла какая-то роковая туча? Наверняка из-за шока, наконец решил он. От шока всякое бывает. Это факт известный.
Говард высадил его на обочине в начале Чакомбской дороги, всего в минуте пешком от дома Мика и Кэти. Мик попрощался и поблагодарил коллегу за помощь, затем прошел по короткой дорожке, ведущей к его черной калитке. Задний двор – с патио, настилом и сараем, которые он построил сам, – умиротворяли своей опрятностью после хаоса и смятения дня, даже пропущенные через мутный фильтр нынешнего искаженного зрения. Блестящая кухня и аккуратная гостиная встретили такими же ухоженностью и спокойствием, к тому же сейчас принадлежали ему одному, раз Кэт была на работе, а мальчишки – в школе. Мик заварил чашку чая и опустился на софу, закурив сигарету, тревожно ощущая зыбкость окружающей нормальности.
Хотя Мик тоже не сидел без дела, основной движущей силой за безупречной элегантностью их дома была Кэти. Не то чтобы жена Мика была одержима чистотой и порядком. Скорее в Кэти укоренилась антипатия к грязи, беспорядку и тому, что они для нее символизировали, – эту черту привило детство в семейной берлоге Девлинов. Он понимал, что он видел едва заметное пятно на ковре, а Кэти – трещину в высокой стене, которую она построила между своим настоящим и прошлым, между нынешней комфортной домашней жизнью и не самым счастливым детством. Разбросанные по полу игрушки, если их тут же не убрать, означали, что в следующий раз ее дома ждут лежащие вповалку покойный папочка и свора пьяных дядюшек, пункт сбора металлолома на задворках и визиты к дверям не молочников, а полицейских. Это страх иррационального свойства, они оба это знали, но Мик понимал, как сильно может повлиять на человека жизнь в семействе Девлинов.
Мик ладил со свояками, с некоторыми даже сошелся накоротке и в целом считал их приличными людьми – по крайней мере, тех, кого знал лично. К примеру, сестра Кэт, Доун, была социальной работницей в Девоне, куда в результате Мик с семьей часто ездили на выходные. Младшая дочь Доун, Харриет, в нежном возрасте четырех лет сказала самое смешное, что Мик когда-либо слышал от ребенка или взрослого: когда папа спросил ее, знает ли она, почему крабы ходят боком, она угрюмо буркнула: «Потому что они придурки». Наверное, благодаря множеству сходств с семьей Уорренов Мик никогда не видел проблем в том, чтобы быть родственником Девлинов.
Но, разумеется, Девлины все равно оставались Девлинами. Новостные сводки от Кэти с дальних рубежей чудовищно разросшегося клана по-прежнему могли шокировать или напугать. Несколько недель назад были похороны, которые Мик не смог посетить из-за работы. Ходила Кэти, и, судя по всему, мероприятие выдалось воодушевляющее – похороны у Девлинов другими не бывали. Прямо во время службы сестра Кэти Доун толкнула ее локтем и шепнула: «Видела нашего Криса?» Кэти уже заметила своего дальнего родственника в задних рядах толпы в часовне, так что ответила, что да, видела. Но Доун это не удовлетворило. «Нет, ну ты видела? Видела мужика, с которым он заявился?» Кэти бросила взгляд через плечо – и в самом деле, вот ее кузен, а рядом такой же высоченный тип, и он, казалось, с трудом сдерживал чувства, подобающие траурному событию. Только потом, на поминках, Кэт осознала, почему он держался так близко к кузену Крису. Они были прикованы друг к другу наручниками. Человек в раздерганных чувствах, вогнавший всех в стыдливую краску долгим спичем о том, какие же Девлины чудесные люди и как его тронула церемония, был тюремщиком в штатском, ответственным за день отгула Криса. Вооруженное ограбление, такие дела.
Родня жены Мика была колоритной и разнообразной компанией, которая выросла на той же черной, пропитанной сажей почве Боро, что и Уоррены. Очевидно, потому Кэт терпеть не могла всю ту же родную землю, когда она попадала на ковролин. Пастельные стены и отполированный обеденный стол были барьером против грязи, налипшей комками к корням Кэти, но Мику и самому нравились чистоплотность, предсказуемый покой. Единственная претензия у Мика возникла в тот момент, когда он заметил свое отражение в стеклянных дверях шкафа. Сидя с обезображенным лицом и чаевничая в таком благопристойном окружении, он словно вышел прямиком из фильмов Джорджа Ромеро – ностальгирующий зомби, пытающийся вспомнить, как он жил.
Шальная мысль снова принесла с собой неопределенные, необъяснимые тревоги. Он так и не мог понять, откуда они взялись. У него с головой что-то случилось, пока он был в отключке? Какой-то припадок – а может, ему привиделся такой сон, который потом не помнишь, но он придает всему дню скверную атмосферу? Что прошло перед его внутренним взором в первые секунды, когда он очухался посреди Двора Святого Мартина, мямля бред, с вулканами в глазах? Что первым пришло в голову после пробуждения?
С екнувшим сердцем он осознал, что это было простое «Мама».
Его мать, Дорин Уоррен, урожденная Дорин Свон, умерла за десять лет до этого, в 1995 году, и Мик до сих пор вспоминал ее с теплотой почти каждый день, до сих пор по ней скучал. Но скучал как взрослый человек и не думал о ней с той интонацией внутреннего голоса, которую услышал первым делом, придя в сознание. То был зов к матери потерявшегося ребенка, а он не чувствовал себя так с…
С тех пор, как в три года очнулся в больнице.
О боже. Мик вскочил с софы, снова сел, не зная, зачем вставал. Так вот из-за чего внутри бродило неспокойное чувство – из-за случайности без всяких значимых последствий, имевшей место больше сорока лет назад? Он затушил сигарету в пепельнице, которую принес с кухни, и снова встал – на сей раз чтобы распахнуть окно и выветрить дым, прежде чем домой вернулись дети со школы и Кэти с работы. Закончив с этим, он снова сел, снова встал, снова сел. Черт. Да что с ним?
Он помнил себя в три года – как открыл глаза среди серых стен палаты, почувствовал запах дезинфицирующих средств, не представляя, где он и как сюда попал. Он был вынужден восстанавливать инцидент деталь за деталью из обрывков информации, которые выуживал из мамки в последующие дни: как они сидели на дворе, когда в горле Мика застряла конфета и он не мог вздохнуть, и как мужчина из соседнего дома на дороге Святого Андрея отвез безжизненное и вялое тельце Мика в больницу, где ему откупорили дыхательное горло, вырезав до кучи опухшие гланды, и уже к выходным вернули семье как новенького. К этому времени он уже знал, что с ним случилось, но только из вторых рук. А когда Мик впервые очнулся под внимательными взглядами странных медсестры и врача, он не помнил ничего из этого дня – ни как сидел в саду на колене матери, ни как поперхнулся, ни как его мчали в больницу. С таким же успехом вдох в мрачной и вонючей палате с прикнопленными к стенам плакатами авторства Мейбл Люси Атвелл мог быть первым моментом его существования на земле.
Но это тогда. Теперь же, когда Мик очнулся после несчастного случая, на краткий миг разум Мика вовсе не был таким девственным; Мик внезапно вспомнил весьма и весьма много. Загвоздка была только в том, что внезапно прилившие воспоминания в первые панические секунды принадлежали не сорокалетнему мужчине. Он даже не знал, сколько ему лет, не сразу сообразил, что делает на открытом дворе со стальными баками. Не подумал о Кэти, о детях, о множестве других ориентиров, к которым в обычных обстоятельствах привязывал свою личность. В эти одурманенные мгновения казалось, словно последних четырех десятков лет с мелочью вообще не было. Словно он снова, трехлетний, проснулся в 1959 году в Городской больнице, только теперь этот трехлетний помнил, что с ним случилось ранее.
Все подробности случая в саду, которые стерлись из памяти в детстве, вернулись спустя больше сорока лет. Конечно, вернулись они в сжатой и беспорядочной форме и главным образом проявились смутным неспокойным ощущением, но если Мик просто сядет и покопается в голове, то наверняка сумеет их распутать, вытянуть это чувство загнанности из клубка. Он закрыл глаза, чтобы их не саднило, а еще чтобы подстегнуть память. Увидел задний двор, увидел старую конюшню за полутораметровым забором, крышу с черными пробелами на месте слетевшей черепицы, как в кроссворде. Подушки софы под ним стали ногами Дорин, а твердый и костлявый деревянный край царги – ее коленями. Он без всяких трудностей или сопротивления погрузился в теплое родительское тесто, а широкая гостиная вокруг сомкнулась в узкое кирпичное пространство, справа и слева поднялись задние стены соседских домиков, над головой оказался рваный лоскут линялого голубого неба.
Тогда Боро были совсем другими – их виды, запахи, звуки и близко не походили на сегодняшнее лобное место для надежды и радости. Надо признать, аромат района в те дни был куда хуже – по крайней мере, в самом буквальном и очевидном смысле. Сразу к северу по дороге Святого Андрея стояла дубильня с наваленными во дворе курганами загадочных бирюзовых опилок, распространявшая острую химическую вонь, словно от канцерогенных монпансье. Исходила она от ядовитой синей субстанции, которой красили овечьи шкуры, чтобы выжечь фолликулы волос и без особого труда снимать шерсть, но она была и вполовину не так отвратительна, как запах с юга, от жирового комбината – завода по производству клея на Пути Святого Петра. Западный ветер приносил с железной дороги благоухание подгорелого машинного масла с железным послевкусием антрацита от торговцев углем – «Уиггинс» – на другой стороне дороги, тогда как с противоположного направления с рассветным солнцем над протекающей крышей конюшни росли густые запахи самих улиц Боро, сползая по склону холма с востока обонятельной лавиной: человеческая эссенция, валившая дымом из сотни медных баков для кипячения, хорошая еда, плохая еда, собачья еда и собачьи остовы, кирпичная пыль и дикие цветы, тухлые стоки и чья-нибудь горящая труба. Летом – горячий деготь, зимой – пронзительный запах мороженой травы, а поверх всего еще река Нен, холодный и зеленый букет которой струился от Лужка Пэдди. Ныне Боро не могли похвастаться характерной атмосферой, различимой человеческим носом, но воображаемые жгутики сердца все же улавливали их запахи.
Что до само ́й дороги Святого Андрея, вернее, их родного отрезка, – его больше не было, буквально порос быльем, ему на смену пришел длинный пустырь с парой деревьев и случайной ажурной тележкой из супермаркета, тянувшийся от начала Ручейного переулка до начала улицы Алого Колодца. Там, где было двенадцать домов, два-три предприятия и бог знает сколько людей, теперь словно раскинулись угодья этих опрокинутых птичьих клеток на колесах – твердые и холодные разносчики фасованной продукции и кормильцы трех поколений валялись в сорняках, как древние проволочные мумии, к которым наконец потеряли интерес лабораторные мартышки.
Сидя на софе в гостиной, Мик позволил разуму унестись по исчезнувшим проездам и потерянным улочкам в прошлое. Он видел узкий джитти, что шел параллельно дороге Андрея, за задворками ряда домов, с одиноким нерабочим газовым фонарем на полпути. Еще несколько лет после того, как дома снесли, можно было разобрать торчащие из-под земли булыжники забытого переулка; пенек спиленного старого фонарного столба – железное кольцо с рваными краями, внутри которого еще были видны срезы трубок и кабелей с проводами поменьше, шея закопанного и обезглавленного робота. Теперь не было и того – все проглотила трава или выпирающая ограда вдоль нижнего края спортивной площадки Ручейной школы – эта граница понемногу ползла на запад тридцать лет с тех пор, как его родную улицу сровняли с землей, а ее обитателей развеяли по ветру. Не осталось никого, чтобы протестовать или остановить наступление спортивной площадки. Еще через двадцать лет, думал Мик, блуждающий барьер из сетки-рабицы доберется и до самой дороги Андрея, где будет ждать у тротуара еще несколько столетий, прежде чем пересечь и ее.
Дорога, получившая название в честь приората Святого Андрея, который давным-давно стоял вдоль ее северного конца, ближе к Семилонгу, некогда служила западной границей города. Это было еще в тысяча двухсотых, когда местность, сейчас именуемая Боро, была всем Нортгемптоном от начала до конца. Местные жители и Bachelerie di Northampton, бакалавры Нортгемптона – печально известное радикальное и антимонархическое студенческое население городка, – объединились с Симоном де Монфором и его мятежными баронами против короля Генриха III и четырех дюжин зажиточных горожан, что на протяжении пятидесяти лет, со времен Великой хартии вольностей, пожиная ее плоды, заправляли здесь и являлись предтечами нынешней городской управы; в ней до сих пор сидели сорок восемь человек, и они держали всю власть сегодня, в 2005 году. Тогда же, в 1260-х, разгневанный король Генрих послал солдат максимально жестко усмирить восстание. Приор Святого Андрея – из клюнийского ордена, а значит, француз, – объединился с норманнской королевской семьей и пустил королевских людей в брешь в стене приората – где-то как раз через улицу от будущего дома Уорренов. Войска разграбили и сожгли некогда процветающий и славный город, а в отместку за бунтарские настроения студентов центром образования назначили Кембридж, а не Нортгемптон. Насколько понимал Мик, тогда-то на его родной земле и начались казни и бесправие, запустившие процесс, который продолжался по нынешний день. Всего раз откажись жрать поданное говно – и власть предержащие приложат все силы, чтобы следующие восемьсот лет у тебя на столе дымилась свежая двойная добавка.
В тот день в 1959 году квартал расстелился, как заплесневелое одеяло на летнем пикнике, сквозь протертую ткань которого пробивались стебли выгоревшей травы. Заводы время от времени лязгали или пускали снопы ацетиленовых искр за матовыми окнами из оргстекла. Болтали ласточки на пригретых карнизах по обе стороны кривых улиц, где женщины в клетчатых шалях стоически трусили под весом кошелок с продуктами; где в десять минут четвертого все еще пытались добраться домой старики, одурев от домино, после обеденного перекуса в «Спортсманс Армс». В опустевшей на каникулы школе на холме за желтым спортивным полем стояла оглушающая тишина от не-криков двух сотен отсутствующих детей. Безобидный приятный день. Башенные дома еще не возвели. Светло-песочная пленка пыли от сноса, накрывавшая окрестности, напоминала только о времени года и пляже.
Весь дом опустел – Томми, папа Мика, уехал на работу в пивоварню в Эрлс-Бартон, а остальные члены семьи воспользовались погодой и вышли на задний двор. От вытоптанной до гладкости мостовой на дороге Святого Андрея в альков, укрывающий их обесцвеченную красную дверь, вели три ступеньки, а из стены у нижней торчал черный железный скребок для обуви, предназначение которого Мик не мог постичь лет до десяти. Справа от двери со стороны гостя на уровне тротуара была вделана проволочная решетка, пускавшая воздух в непроглядный угольный подвал, а над ней было окно передней комнаты – зала – с фарфоровым лебедем, безутешно взирающим на склад «Уиггинс», ржавый и заросший железнодорожный тупичок за двором и редкую проезжающую машину. Слева же от двери были водосточная труба, одна на два дома, потом входная дверь и окна миссис Макгири, а дальше – облезшая деревянная калитка, ведущая на мощеный двор Макгири и к прогнившим денникам в конце.
Если подняться по ступеням и войти в дом номер семнадцать, вас встречал простой кокосовый коврик для ног и коридор с выцветшими до невидимости призрачно-охровыми цветами на обоях, где на обремененные шерстяной одеждой крючки падал свет оттенка липучки для мух. Первая дверь направо вела как раз в обезлюдевшую комнату с массивными напольными часами, канапе с конским волосом и легким креслом ему в пару, парафиновой горелкой, полированным буфетом с дорогой керамикой, которой никто никогда не пользовался, и небольшим прокатным телевизором за закрытыми створками посередине. Второй выход из коридора вел в такую же пустую гостиную, а прямо перед вами наверх вела лестница, скрытая ковриком с заплетающимся коричневым узором, напоминавшим съедобные сережки из рождественского пудинга. На втором этаже в задней части старого дома находилась спальня Альмы и Мика, которая, как и бабушкина комната в одной ступеньке от их лестничной площадки, выглядывала на наполовину облицованный кафелем двор в виде буквы «Г», а комната Тома и Дорин – самая большая в доме – была следующей за бабушкиной, и потому смотрела на дорогу Андрея ровно над окном первого этажа, украшенным белым лебедем с обреченным видом. Верхний уровень, практически ненаселенный днем, казался Мику ночным этажом, отчего в его глазах приобретал зловещую и жуткую атмосферу. Если действие детских кошмаров разворачивалось у него дома, самое страшное всегда поджидало наверху.
На первом этаже было слишком уютно, чтобы бояться, несмотря на вечные потемки в кухне и тени в гостиной у мрачного коридора. В ней было не продохнуть: ансамбль составляли раскладной обеденный стол в комплекте с двумя стульями, табуретка и старое деревянное кресло. Два мягких кресла с подлокотниками (со спинки одного из которых много лет назад вывалился из окна кузен Мика Джон) стояли по бокам от камина из железа метеоритного вида (туда примерно в те же времена упала лицом сестра Джона Айлин), а оставшийся закуток едва вмещал огромный захламленный саркофаг серванта. Все верхние углы комнаты обегал резной карниз – когда-то, предположительно, декоративный, – из-за чего потолок казался еще ниже. На планке для фотографий на стене напротив очага висели поблекшие портреты в тяжелых рамах, бежевые и белые изображения мужчин с мудрыми улыбками и яркими глазами, сверкающими из-под кустистых бровей: прадедушка Мика Уильям Маллард и покойный супруг его покойной бабули, дедушка Мика по материнской линии Джо Свон с усищами шире плеч. Был и третий снимок, тоже с мужчиной, но Мику не приходило в голову спросить, кто это, вот никто ему о нем и не рассказал. Так что Мик всякий раз, когда заходила речь о каком-нибудь умершем родственнике, которого не знал, вспоминал лицо этого анонима со снимка. На одной неделе это мог быть брат бабули, дядя Сесил, а на другой – кузен Бернард, утонувший во время войны, пытаясь спасти выживших с потопленного броненосца. Полмесяца анониму даже довелось пробыть Невиллом Чемберленом, пока вконец запутавшийся Мик не разобрался, что бывший премьер и угодник Гитлера – не близкий родственник.
В стене, разделявшей зал и гостиную, было вырезано окошко с витражом – изображением цветка в ярко-желтых, изумрудно-зеленых и красных, как рубиновый портвейн, цветах. Иногда вечером, во время чаепития, когда солнце заходило за вокзал по ту сторону дороги Святого Андрея, окно зала пронзал почти горизонтальный луч, заглядывал за понуренную головку фарфорового лебедя и сиял сквозь цветное стекло в тусклую жилую комнату, расплескивая чудесную и дрожащую фантомную краску на безликое радио, установленное на стене между окном на задний двор и дверью на кухню.
Кухня-кутузка со стенами, выкрашенными белой клеевой краской, холодными синими и красными плитками на полу находилась одной ступенькой ниже гостиной. Спустившись, по левую руку вы видели дверь в подвал, а за ней на площадке подвальной лестницы – проржавевший буфет для хранения мяса. Справа же была задняя дверь, ведущая в верхнюю половину двора, а сразу после нее – шершавая каменная раковина под одиноким окошком, с единственным медным краном с холодной водой, изъеденным медянкой. Напротив стояла газовая плита, старый поеденный жучком кухонный стол и коварный каток для белья, а над ними с гвоздика свисал цинковый таз, один на всю семью, который использовали для омовений по самым разным случаям. Если нужно, его наполовину наполняли кипятком из медного бака – цилиндра металлического цвета, орошенного конденсатом, стоявшего в дальнем конце кухни рядом с забитым досками и ненужным кухонным камином. Мик помнил короткую деревянную дубинку, прислоненную к медному боку, – мешалку для кипяченого белья, с тупым и волглым от частого использования концом, текстура и волокна которого превратились в трупно-бледную слизь и приобрели циановый цвет из-за чрезмерного применения «Reckitt’s Blue» – тряпичного мешочка с сапфировым красителем: его бросали в мытье, чтобы рубашки и простыни выглядели белоснежными. Мик вспоминал полки – всего лишь грубые доски на подставках, гнущиеся под весом сотейников, железных сковородок, одной миски для пудинга, чьи закругленные пучины покрывала туманно-янтарная лужица затвердевших капель с мозаичным кракелюром.
В этот самый день бабуля Мика, Клара, тихо и методично копошилась на кухне, жонглируя сразу несколькими занятиями, как ее научили, когда она работала в прислуге. Кларе Свон, которая умерла в начале 1970-х, в то время должно было быть около шестидесяти, но внукам она всегда казалась древней и непререкаемой, как библейский папирус. Чего недоставало в росте, она наверстывала в осанке, вплоть до того, что никто и не замечал, какая она невысокая. Она всегда стояла навытяжку, как шахматная фигурка из слоновой кости, побитая годами турниров; столь же невозмутимая, терпеливая и целеустремленная. Всегда чинная и стройная девушка с суровым взглядом на фотографиях из юности, к 1959 году она стала, скорее, тощей, ее длинные серебристые волосы, спускавшиеся ниже талии, были завязаны в пучок. Из-за спины-жерди, увенчанной серой шевелюрой, она производила впечатление швабры – если бы швабры считали символами простого достоинства, бесконечно надежными в своем деле, почитали, как скипетры, а не пренебрегали как самым никчемным предметом домашнего обихода, который можно найти на любой кухне.
Дом номер семнадцать принадлежал Кларе, ее имя было указано в учетной книге, и она же незаметно им правила. Она никогда не устанавливала порядки – но в том нужды и не было. Все и без того знали, где пролегали границы дозволенного, и не думали их переступать. Ее власть была не такой очевидной, но в целом более впечатляющей, чем та, которой обладала Мэй, вторая бабушка Мика. Бабка Мэй Уоррен была не женщиной, а устрашающим носорогом и добивалась своего предостерегающими рыками, сердитыми затрещинами и задиристым поведением. Худая как щепка Клара Свон, напротив, никогда не повышала голос и никого не запугивала. Она просто действовала – стремительно и эффективно. Когда Альма в два года – уже тогда самая бесшабашная и необузданная из всех членов семейства – решила укусить Клару, бабушка Мика не накричала и не пригрозила поркой. Она сама цапнула Альму за плечо, да так сильно, что прокусила кожу, – так сильно, что сестра Мика больше никогда в жизни не пыталась никого съесть заживо. Если бы только она исцелила Альму и от попыток задушить, размечтался Мик. Или от покушений с ядовитым газом – как когда Альма убедила младшего брата посидеть с ней на кухне, а потом запалила горчично-желтую крошку серы. Или от ее повадок пигмейского охотника за головами, как когда она стреляла в него дротиками из духовой трубки. Без шуток. Говоря по справедливости, рассудил Мик, даже у бабушкиных методов коррекции поведения были свои пределы. Тем сонным днем Клара была на кухне, крошила почечное сало, пекла хлебный пудинг, кипятила платки и безропотно сновала от одного дела к другому, наедине с ароматным жирным бульоном. Неплотно прилегающая к косяку дверь, открытая из-за хорошей погоды нараспашку, чтобы проветрить дом, пропускала к Кларе обрывки болтовни между ее дочерью Дорин и детьми, потому что те сидели сразу у двери, на тонкой шахматной полоске из потрескавшихся розовых и голубых плиток, составлявших верхний уровень тесного домашнего сада.
Сидя в спокойном, относительно просторном зале в Кингсторпе, чувствуя жжение от самых благородно отступающих, а вовсе не капитулирующих волос до подбородка с ямочкой, Мик попытался увязать загроможденные углы детства с обтекаемым окружением его среднего возраста – прямиком из фантастического журнала «ТВ, XXI век». Мик снова глянул на отражение воспаленного лица в стеклянной дверце шкафа и сделал вывод по виду пострадавшей кожи, что он тогда, выходит, капитан Скарлет [61]61
Букв. «алый». Капитан Скарлет – персонаж британских комиксов и мультсериалов.
[Закрыть]. Он поставил рядом по большей части довольного жизнью взрослого, которым стал, с невыразимо восхищенным жизнью трехлетним мальчишкой, которым был, и обнаружил, что переход между ними на удивление гладкий и последовательный, и память Мика о детстве не затмевается никаким несчастьем, не марается мечтательной тоской, иногда слышной в голосах других людей, когда они вспоминали давние деньки. Просто жизнь была другая – ее видели другие глаза, проживал чуть ли не другой человек.
Самое поразительное в прошлом – по крайней мере, как помнил Мик, – не очевидная разница в моде, привычках или технологиях. А что-то куда более неуловимое и неназываемое, то восхитительное, тревожное ощущение странности, которое захватывало его, когда он перебирал забытые фотографии или вдруг вспоминал какое-то яркое переживание. Оно приходило как слабый привкус мимолетной атмосферы, как безвозвратно ушедшее настроение, такое же самобытное и особенное для места и времени, как погода или формы облаков в прошедший день – что-то единичное, что не повторится уже никогда. Наверное, это необычное свойство, которое он пытался описать, – не более чем неожиданное ощущение прошлого на ощупь: что бы ты почувствовал, если бы провел по его ворсу пальцами памяти. Это текстура переживаний Мика сложилась из несметного числа уникальных витков и бугорков, из неразличимо выпирающих деталей. Сетчатая ткань дырявой посудной тряпки, висящей у задней двери, высохшей и навечно затвердевшей в форме вигвама, с запахом грязной воды и теплой ветчины. Дырки размером как раз с палец в блоках, обрамляющих метровые круглые клумбы бабули у поблеклой красно-синей клетки дорожки. Тайный муравейник, вгрызшийся в крошащийся цемент на стыке плит кухонной стены, за ступеньками, которые спускались на нижний уровень замкнутого двора. В тот день стоял запах согретого солнцем кирпича, черной почвы, оловянный аромат прошедшего дождя.
Задумавшись теперь, не без слабого зачаточного огонька обиды, Мик решил, что несчастный случай, произошедший в тот день, стал прямым следствием бедности. Не будь он из молодняка Боро – не сидел бы на коленях матери на залитом солнцем дворе, рассасывая почти с летальным исходом драже от кашля.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































