Текст книги "Иерусалим"
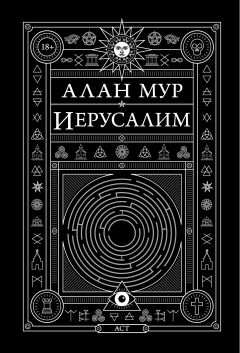
Автор книги: Алан Мур
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 108 страниц) [доступный отрывок для чтения: 35 страниц]
Он несколько минут пробирался во мраке, прежде чем пришел к выводу, что эта вылазка на лестницу – катастрофически ужасная идея. С каждым шагом выше и выше ноги в тапочках хрустели по мусору, напоминавшему сухие хрупкие листья, но вполне мог быть и шелухой от черных шкурок уховерток. Хуже того, лестница, которая в его представлении должна была быть прямой, оказалась головокружительно винтовой, вынуждая Майкла продвигаться в темени еще медленнее, касаясь левой рукой внешней стены башни и следуя по ее контуру – касаясь совсем легонько на тот случай, если там ползают слизняки или еще какая-нибудь гадость, в которую ему не хотелось нечаянно влезть пальцами.
Надеясь, что вершина уже близко, Майкл продолжал подъем до момента, когда мысль развернуться и спуститься вниз уже стала невыносимой. Но очередные пять минут хруста впотьмах убедили, что вершины не существует, что он больше никогда не увидит Филлис Пейнтер и что вот так он и обречен провести всю Вечность – один, карабкаясь в бесконечной черноте с возможным соседством в виде уховерток. Хрум-хрум. Топ-топ-топ. Что же такого он наделал за свои три года, чем заслужил подобное наказание? Неужели это все за то, что они с Альмой убивали муравьев? Неужели геноцид муравьев ложится на чашу весов, когда ты попадаешь в загробную жизнь? Уже не находя себе места, он продолжал запинающийся путь вверх, не представляя, что еще остается поделать. Его единственным альтернативным планом было расплакаться, но его он думал приберечь напоследок, когда совсем впадет в отчаяние.
Случилось это всего где-то девять ступенек спустя. Майкл скучал по мамке, по бабуле, по папке. Он скучал даже по сестрице. Скучал по дому 17 на дороге Святого Андрея. Скучал по жизни. Он как раз уже решал, на какой ступени сесть и рыдать до скончания времен, как вдруг заметил, что кромешная тьма впереди приобретает сероватый оттенок. Возможно, подумал он, его глаза постепенно привыкают к темноте, а возможно, дальше ждет свет. Воодушевленный, он возобновил ковыляние в жемчужном сумраке, на месте которого только что была матовая чернота. К своему ликованию, скоро он мог даже разобрать винтовую лестницу под ногами, и с большим облегчением увидел, что хрупкие предметы оказались и не листьями, и не уховертками. Это были фантики из вощеной бумаги, в которые заворачивают отдельные леденцы от кашля, – сотни на каждой ступеньке. На смятых клочках несколько раз повторялось слово «Песенка» маленьким шрифтом вишневого цвета.
Сделав последний поворот, всего в нескольких ступеньках впереди он увидел отверстие в виде дверного проема, откуда падал слабый утренний свет. В лечебной поземке розовых лепестков-фантиков драже от кашля, взметнувшихся у щиколоток, он пустился бежать, желая скорее оказаться на ровной поверхности и видеть, куда идет.
Это оказался длинный коридор со стенами, до половины окрашенными в бледно-зеленый цвет, и запятнанным лакированным паркетом на полу. Такому проходу, подумал Майкл, место в школе или больнице, только был он куда выше, так что даже взрослый почувствовал бы себя ребенком. Вдоль каждой стены в холле были окна, которые и пропускали бледный свет, но располагались слишком высоко, чтобы Майкл мог выглянуть. За теми, что справа, открывалось лишь все то же унылое свинцовое небо, что он видел над переулком. В свою очередь, ряд окон слева как будто выходил в какую-то палату или класс. Точно в помещение, в котором Майкл мог разглядеть только балки и доски двускатного потолка. Коридор был пуст, не считая двух-трех больших металлических батарей, окрашенных в тот же темно-зеленый цвет, что и электрические щитки, видневшиеся вдали в безмолвном холле. В нос било дымчатым и резким запахом резины и ароматом порошковой краски, словно ядовитой мукой. Что бы здесь ни было, это не напоминало фабрику или склад, как он предполагал снаружи, хотя после стольких изворотов неосвещенной лестницы Майкл даже не был уверен, что все еще находится в том же здании. Единственное, что он знал наверняка, – вокруг не было ни следа Филлис Пейнтер.
Возможно, лучшее, что можно было сделать, – спуститься по черной во всех смыслах лестнице обратно в переулок и поискать ее там, но Майкл обнаружил, что не перенесет перспективу очередной беспросветной экскурсии, особенно такой, что требовала спускаться и влекла высокий риск споткнуться и покатиться кубарем. Не осталось ничего другого, кроме как продолжать идти вперед, до самого конца тихого коридора, провонявшего ремонтом покрышек.
По пути ему в голову пришла мысль насвистывать, чтобы не падать духом, но он осознал, что еще не выучил никаких мелодий. Да и свистеть не умел. Другим способом прерывать давящую тишину было пробегать ногтями вдоль угловатых вертикальных труб огромных батарей, проходя мимо. Ледяные на ощупь – а значит, отопительную систему здесь выключили на лето. Но что интереснее, Майкл обнаружил, к своему удивлению, что каждая полая металлическая колонка каким-то способом была настроена так, что из них извлекались разные ноты. Каждая батарея состояла из семи труб, и, проведя пальцами по первому встреченному ряду, он сыграл начало колыбельной «Ты гори, звезда ночная» – одной из немногих знакомых мелодий в его доселе весьма ограниченном музыкальном опыте. Одновременно заинтригованный и очарованный, он поторопился к следующей батарее дальше по коридору, которая, как оказалось, была настроена так, что он, мазнув пальцами, сыграл строчку «Где ты, что ты, я не знаю».
До «Высоко ты надо мной» Майкл добрался уже в конце прохода, дальше резко уходившего за угол. Опасливо и бесшумно, как индейский разведчик, он выглянул за поворот, но нашел только очередной пустой коридор, ничем не отличающийся от предыдущего. Тот же деревянный паркет и те же стены – бледно-зеленые у пола, белые как мел у потолка. Ряд высоко врезанных окон справа глядел на унылый флис неба, а слева – на стропила палаты или класса, но ни до одного окна он по-прежнему не мог допрыгнуть. Впрочем, был и плюс: его ждали еще три батареи, и этот отрезок, похоже, кончался не очередным заворотом, а белой деревянной дверью – закрытой, но, если повезет, не запертой.
Первая из трех следующих батарей сыграла «Как алмаз во тьме ночной», когда Майкл провел по трубам своими напряженными растопыренными пальцами, словно бренчал на арфе промышленных масштабов. Следующие две, как он и ожидал, пролязгали последний куплет и закончили рефрен, повторяя первые строки, причем финальное «Где ты, что ты, я не знаю» прозвучало всего в дюжине шагов от закрытой двери, у которой завершался длинный проход. Нервничая, Майкл подкрался на цыпочках и протянул руку, чтобы повернуть простую латунную ручку и узнать, что же ждало на другой стороне. Где он, что там – он не знал.
Не заперто. Хотя бы это было в его пользу, но он все-таки отшатнулся от неожиданного света и свежего воздуха, хлынувших в открытую дверь и застигнувших врасплох. Моргая, он вышел на слабый освежающий ветерок и обнаружил, что стоит на балконе, где прямо перед ним бежали перила из черного дерева, выкрашенного как будто защитным слоем смолы. Подойдя и выглянув между прутьев, Майкл увидал огромный холл, многоэтажную стену в миле вдали. А пол внизу делила раздольная сетка утопленных отверстий, напоминавших окна, которые по ошибке прорубили не в той поверхности. Над этой ноздреватой равниной, за стеклянными листами крыши викторианского пассажа, на фоне бесподобной лазури вольготно раскладывались невозможные граненые облака. Он вернулся на Чердаки Дыхания – по крайней мере, на одну из галерей с балюстрадой над ними. Как это возможно? Он что-то сомневался, что сделал достаточно поворотов для полного круга, но эта длинная винтовая лестница так вскружила голову, что он и не знал, в каком направлении движется.
Взглянув налево вдоль высокого мостка, он увидел, что вдалеке от него решительно уходит какая-то фигура. На краткий миг он понадеялся, что это Филлис Пейнтер, но быстро разочаровался. Во-первых, удаляющийся человек оказался куда выше девочки. А во-вторых, несмотря на длинные волосы и долгое белое одеяние, это очевидно был мужчина. Тот, кто несся по балкону, был могучего сложения и бос и прижимал руку к лицу, словно баюкал какое-то увечье. В другой руке он нес тонкий жезл или посох, с каждым шагом стучавший по половицам. Неожиданно Майкл вспомнил мужчину со рассерженным видом, разбитой губой и синяком под глазом, которого заметил с нижнего этажа, когда они пересекали его с Филлис. Значит, это он и есть? Либо он, либо кто-то очень на него похожий.
Затем Майкл вспомнил, что с драчуном в белой робе стоял и беседовал кто-то еще – кто-то с усиками и в одеянии из зеленых лоскутов с ярко-алым подбоем. С покалыванием на затылке Майкл понял, что он-то, стоит развернуться, и окажется позади, еще до того, как над тартановым плечом раздался голос, напомнивший потрескавшуюся коричневую кожу.
– Ну-ка, ну-ка. Призрачный коротыш.
Майкл скрепя сердце обернулся – его тапочки шаркали по кругу, словно стрелки дезориентированных часов.
Одной рукой на просмоленные перила, посасывая глиняную трубку, облокотился краснощекий и усатый великан, явно возвышавшийся на добрых полтора фута даже над рослым папкой Майкла. Его широкополая шляпа священника отбрасывала черную полосу на глубоко посаженные, в морщинках глаза, которые, заметил Майкл с растущим беспокойством, были совершенно разных цветов: один – как инкрустированный рубин, а другой – змеино-зеленый. Словно невозможно старые рождественские шарики, они поблескивали в тени тяжелого чела с кустистыми бровями над носом-крючком, таким кривым, что кончик его смотрел почти прямо в пол, словно орлиный клюв. Загорелая кожа мужчины на нижней части лица и обнаженных руках, торчавших из лохмотьев, была тут и там запятнана чем-то вроде дегтя или машинного масла. От него пахло углем, паром и котельной, а ниже хлопающих лоскутов на ногах были темно-зеленые брюки и ботинки, скроенные из дубленой кожи. Хотя рот терялся в медных кудрях бороды и усов, из-за того, как надулись щеки, похожие на блестящие шарики из обожженной солнцем кожи и лопнувших вен, на лице читалась улыбка. Он попыхивал глиняной трубкой, на чаше которой, как теперь разглядел Майкл, было вырезано лицо кричащего человека, и, прежде чем снова заговорить, выпустил кудрявиться с балкона завиток фиолетового дымка.
– У тебя потерянный вид, мальчик. Ох-ох-ох. Так у нас дело не пойдет, верно?
Голос дяденьки был пугающе глубоким и надтреснутым – словно распускало крылья какое-то огромное доисторическое чудовище. Майкл решил, что лучше вести себя, как в разговоре с обычным человеком, который может подсказать дорогу. Заметив справа очередные высокие окна вроде тех, что встречались в коридоре, он изобразил к ним интерес, с голосом до стыдного высоким и писклявым после взрослого рокота мужчины.
– Да. Я потерялся. Можете посмотреть для меня в окно, чтобы я понял, где я?
Бородатый собеседник озадаченно нахмурился, потом сделал, как его попросили, и заглянул в окна, выходившие на балкон. Удовлетворившись увиденным, он снова вернулся к изучению Майкла.
– Похоже на класс шитья на втором этаже школы в Ручейном переулке, только побольше. Я здесь гуляю, потому что уважаю рукоделие. Это одна из моих специальностей. Еще я неплох в математике.
Он склонил голову с кудрявой шевелюрой набок так, что поля шляпы перекосились, и снова пососал трубку – когда он раскрыл губы, чтобы продолжать, с пышных губ лился серый туман.
– Но вот ты мне пока кажешься непосильной задачкой. Ну-ка, малец. Скажи, как тебя зовут.
Майкл не был до конца уверен, что стоит доверять незнакомцу свое имя, но не смог придумать убедительного псевдонима. Кроме того, если его поймают на лжи, это только усугубит бедственное положение.
– Меня зовут Майкл Уоррен.
Высокий мужчина отшатнулся, раскрыв разноцветные глаза как будто бы в искреннем удивлении. Свисающие треугольники ткани на поверхности одежды вдруг встрепенулись, обнажив красный шелк на изнанке, так что он словно ненадолго вспыхнул пламенем, хотя Майкл и не почувствовал порыва ветра. С усиливающимся ощущением, что он угодил в какую-то жуткую передрягу, Майкл осознал, что плащ мужчины тревожил не ветер, что это сродни тому, как выставляет напоказ свое оперение павлин. Вот только это бы значило, что двуцветные лоскутки – часть мужчины.
– Ты Майкл Уоррен? Значит, это из-за тебя здесь столько неприятностей?
Что? Майкл был ошарашен – и тем, что его имя здесь известно, и тем, что его уже в чем-то обвиняют, и, судя по всему, в чем-то весьма серьезном. Недолго он подумывал о побеге, пока мужчина еще не схватил его за шиворот и не подверг какому-нибудь наказанию за неведомый проступок, но тот лишь закинул голову и добродушно расхохотался, чем окончательно выбил почву у Майкла из-под ног. Если мальчик вызвал какие-то неприятности, как только что сказал этот человек в лохмотьях, что же тут смешного?
Прервав на миг приступ смеха, мужчина воззрился на Майкла с опасной лукавинкой, вспыхнувшей в нефритовом и гранатовом глазах.
– Не терпится рассказать остальным. Они обхохочутся. Ох, как хорошо. Чудо как хорошо.
Он снова взревел от хохота, но в этот раз, когда он откинулся в утробном искреннем веселье, его широкая кожаная шляпа соскользнула и повисла на ремешке, завязанном под подбородком.
У него были рога. Бело-бурые, как грязная слоновья кость, они торчали из вихров и колечек волос – толстые короткие выросты всего несколько дюймов длиной. Вот сейчас, решил Майкл, самое подходящее время расплакаться. Он смотрел на рогатое существо со слезами, навернувшимися на глазах, и заговорил с хнычущей обвиняющей интонацией, словно его глубоко задела злая шутка дяденьки.
– Вы дьявол.
На этом хриплый оглушительный смех как будто захлебнулся. Человек взглянул на Майкла, задрав брови почти в комичном удивлении, словно его поразило до глубины души, что Майкл мог принять его за кого-то другого.
– Ну… да. Да, полагаю, я он самый.
Он опустился на корточки, пока его пугающий взгляд не оказался на одном уровне с глазами мальчика, который словно прирос к месту от страха. Рогатый дяденька придвинулся поближе к Майклу с ленивой улыбкой и испытующе сузил свои глаза-самоцветы:
– А что? А ты думал, куда попал?
Полет Асмодея
Дьявол не мог припомнить, когда в последний раз получал такое удовольствие. Великая умора в величайшем смысле этого слова: великая, как война, как белая акула или китайская стена. Ох, собратья по проклятию, это словами не передать.
Он стоял себе, облокотившись на чей-то старый сон о балконе, и раскуривал любимую трубочку. Ту самую, которую вытесал из пряного, приправленного безумием духа француза-дьяволиста из восемнадцатого века. Он воображал, будто это придавало его лучшему табаку привкус Парижа, сношений и убийства – что-то среднее между мясом и карамелью.
Короче говоря, стоял он себе, околачиваясь по Чердакам Дыхания, вблизи от центра страны англов, как поднимается к нему зодчий – между прочим, не меньше как мастер, – с расквашенной губой и фингалом, будто только что из драки. Ну то есть, думал дьявол, как часто выпадает шанс поднять англа на смех не то что курам, но и всему скотному двору?
– Дорогой мой! Что это мы, не вписались в жемчужные врата? – неплохо для начала, учитывая обстоятельства, при этом еще разливаясь елеем очевидно фальшивой заботы, словно осведомляясь о здоровье самовлюбленного племянничка, к которому питаешь нескрываемое презрение. Самое забавное в зодчих – в данном случае мастере, – что, хотя они вполне способны стереть с лица земли город или династию, они не переносят на дух снисходительный тон.
Мастер-зодчий – беловолосый, который сделал себе громкое имя на игре в бильярд, раз уж об этом заговорили, он как раз шел с кием, – обернулся посмотреть, кто это к нему обращается. Естественно, узнав, нахмурился, как приласканный мальчишка из хора; сверкнул глазами, как зодчие обычно делают за долю секунды до того, как тебя испепелят. Одним словом – настроение у него было из рук вон, у нашего Белыша-Крепыша.
Если честно, это даже приятная перемена после незваной жалости и бездонного прощения, какими обычно лучатся их взгляды. Зодчие сперва под прицелом кия обрекут тебя на несказанные пучины – глубже, чем те, где приходится пребывать тиранам с сифилисом, – а потом присыплют рану солью, всецело тебя простив. Какое удовольствие – наткнуться на англа, охваченного унизительной истерикой. От богатого потенциала обжигающей сатиры у дьявола мурашки по мошонке пробежали.
Зодчий – простите-простите, мастер, – забавлял голосом умственно отсталого из-за того, что при ответе его речь спотыкалась о заплывшую губу.
– Не дрязгниз мальня в сталь пострыдном ссорстарании, кровклятый невзгодряй…
Все та же глубокая взрывная чепуха, на которой говорили все зодчие, – странно резонирующие и полыхающие слова, затихающие до шепота в дополнительных углах окружения наверху. Впрочем, к вящей усладе слуха, даже фразы, переполненные наводящей ужас яростью, подобающей концу света, из-за разбитой губы пробирали до смеха.
Не подозревая, что из-за речи он кажется нелепым забулдыгой, негодующий мастер пустился оправдывать свой плачевный вид тем, что только что подрался с лучшим приятелем из-за партийки в снукер. Выходило, этот дружок намеренно поставил под угрозу определенный шар, на который, как все знали, мастер давно положил глаз. Технически это разрешалось, но считалось ужасным афронтом. Как и во всех случаях, шар был связан с человеческим именем, хотя дьявол такого не слышал. По крайней мере, на этот момент.
Оказалось, зодчие устроили за бильярдным столом неприглядную свару, и беловолосый в итоге обозвал своего коллегу страшным словом и предложил выйти поговорить. Они оставили шар несыгранным и затеяли потасовку, а теперь угрюмо плелись обратно в игровой зал, чтобы продолжить прерванное состязание. Вот тебе и показал себя во всей красе. Вокруг кольцом сбежалась вся призрачная шантрапа Боро, подбадривала криками, словно школьники-покойники на разборках за школой. «Давай! Наподдай ему, чтоб нимб улетел!» Вот тебе и встопорщил перья. Все это казалось такой чудесной пакостью, что дьявол просто не мог не смеяться.
– Ты не виноват, старина. Это просто азартная игра, в таких районах иначе не бывает. В любом просыпается хулиган. Я видел, как людям резали глотки из-за классиков. Ты лучше бросай свой бильярд и давай дальше пляши на кончике иглы. Никакой тебе жестокости и всегда есть оправдание носить бальное платье.
Дьявол добродушно ткнул зодчего локтем в бок, потом рассмеялся и хлопнул по спине. Больше снисходительного тона они ненавидели, только когда с ними фамильярничали, особенно если при этом их смели трогать. Всякие картины, где зодчие держатся за руки с ранеными гренадерами или болезными малышами, на взгляд дьявола, – только выдумки, чтобы сохранить лицо.
Медленно – как всегда бывает у зодчих с шутками, – до беловолосого малого наконец дошло, что над ним подтрунивают, а это они ненавидели почти так же, как снисходительный тон или когда их трогают. Он выпалил какую-то праведную тарабарщину, от которой уши в трубочку сворачивались и которая более-менее сводилась к «А ну кончай, засранец, а то огребешь у меня», но с дополнительными нюансами, описывающими заточение в латунном сундуке, сброшенном в глубочайшие недра вулкана на тысячу лет. Хлысты, скорпионы, огненные реки – обычная околесица. Дьявол воздел колючие брови с видом оскорбленного удивления.
– Ох-ох, я снова вывел тебя из себя. Надо было догадаться, что у тебя нынче женские дни, но нет, влез с бесчувственными замечаниями. И как раз тогда, когда тебе лучше бы успокоиться, чтобы сделать важный удар. Я же буду безутешен, если ты, как только примеришь кий, вспомнишь обо мне и прорвешь сукно или переломишь палку об колено. Или еще что в таком роде.
Мастер встал на дыбы с внезапной вспышкой огней святого Эльма вокруг снежной головы и проревел что-то многогранное и библейское, по большей части опровергая мысль, что у него женские дни. И тут, похоже, в мыслях осела вторая половина того, что сказал дьявол, – что он может испортить игру припадком ярости. Он взял себя в руки и сделал глубокий вдох, выдохнул. Затем там, где хватило бы ворчливого извинения без прикрас, последовал небесный залп абсурдной поэзии. Дьявол хотел ерничать дальше, но решил не испытывать свою знаменитую удачу.
– Выкинь из головы, старик. Это все я виноват, вечно затягиваю шутки и порчу всем остальным жизнь. Знаешь, я переживаю, что в глубине души я вовсе не самый приятный в общении собеседник. И чего я всегда такой агрессивный, даже когда притворяюсь игривым? Откуда у меня в характере такие неприглядные черты? Иногда говорю себе, что это нужно по работе – как будто раз меня обрекли на бесконечные муки в инферно чувств, то я могу оправдать любое свое прискорбное поведение. Удачи с твоим бильярдным турниром. Я в тебе нисколько не сомневаюсь. Точно знаю, что ты сможешь забыть этот пустяковый приступ убийственного гнева и ни за что не совершишь непоправимое и не испортишь жизнь какого-то смертного из-за того, что вел себя как надутый шут.
Старина, похоже, и не знал, как на это отвечать, сузил свой единственный функционирующий глаз в подозрении. Наконец бросил попытки разобраться, кто виноват, и просто скорчил гримасу, обозначавшую, что на этом их разговор завершен, к удовлетворению обеих сторон. С отрывистым кивком дьяволу, который в ответ галантно приподнял поле кожаной шляпы, мастер продолжил путь по мостку, время от времени мягко ощупывая свободной рукой лиловую кожу вокруг пострадавшей брови.
По тому, как прямо он держался, пока припустил своей дорогой, было видно, что белорясник все еще кипит. Гнев, как и рукоделие с математикой, входил в область специализации дьявола. Все три вида деятельности были запутанными и изощренными, что как раз сходилось с любовью дьявола ко всякого рода сложностям. Что угодно из вышеперечисленного гарантировало ему многие часы безостановочного веселья. А, и еще тихие омуты. Их он тоже любил. А уж благие намерения…
Он вновь раскурил трубку, высекая искру с ногтя, похожего на панцирь скарабея, и наблюдал за зодчим, мрачно топавшим в перспективу протяженного балкона. Бедолажки. Вечно расхаживают с этаким романтичным видом, чувствуют себя так, словно они и есть механизм четырехмерной Вселенной, о котором все только и делают, что слагают хвалебные песни. Потом всякие рождественские открытки, образу которых полагается соответствовать, и еще многотрудные старания поддерживать балахоны в чистоте. Как же вы справляетесь, болванчики мои драгоценные?
Он облокотился на измазанную дегтем балюстраду и думал, чем бы развлечь себя дальше, как вдруг – словно откликаясь на его обычно безответные молитвы – в длинной стене слежавшихся снов за спиной скрипнула дверь, и на голые половицы балкона нерешительно прошлепал мальчонка в пижаме, ночнушке и тапочках. Совершенно очаровательный, а дьявол всегда украдкой питал слабость к маленьким детишкам. Они же боятся абсолютно всего на свете.
Со светлыми завитушками и глазами голубыми, как небеса в стихах, крошечный соня сперва как будто не понял, что оказался в присутствии дьявола, хотя дверь, из которой он явился, была всего в паре ярдов от места, где стоял бес. С опасливым видом и бровями, поднятыми в вечном изумлении, малыш дошаркал до черненых балясин балкона и выглянул между ними на распростертые Чердаки Дыхания. Так он провел несколько мгновений с озадаченным и дезориентированным видом, потом повернулся и бросил взгляд туда, где еще можно было разобрать исчезающего вдали схлопотавшего зодчего, подносившего руку к глазу.
Ребенок не замечал дьявола за спиной, но так оно обычно и бывает. Дьявол задумался, мертв ли мальчишка или только спит, если он разодет в ночное. Теоретически это вообще не человеческий ребенок. Это мог быть убредший фрагмент чьего-нибудь сна или даже персонаж из книжки на ночь – вымысел, обретший плоть благодаря накопившемуся воображению, спрессованному множеством прочтений, множеством читателей.
Но, на взгляд дьявола, малец казался настоящим. Сложение снов и персонажей из сказок отличалось какой-то лощеностью, словно их упростили, тогда как данный пострел отличался непродуманной беспорядочностью, от которой так и пахнуло натуральностью. Уже по тому, как он прирос к месту и таращился вслед уходящему зодчему, было видно, что он и приблизительного понятия не имеет, куда попал или что ему делать дальше. Люди же из снов или сказок, напротив, всегда полны целеустремленности. Итак, этот маленький человечек определенно был смертным, хотя мертвым или спящим – это решить было уже не так просто. Пижама обозначала, что он спит, но, конечно, маленькие дети обычно умирали в больнице или кровати, так что раннюю смерть тоже не стоит сбрасывать со счетов. Дьявол решил удовлетворить любопытство.
– Ну-ка, ну-ка. Призрачный коротыш.
Ну вот. Не самое ужасающее начало разговора, на его вкус. Хотя время от времени он мог подшутить над беспомощными людишками, даже доводя их до безумия или смерти, но это же не значило, что он неразборчив. Дети, как он уже отметил, вечно напуганы уже просто потому, что они дети. Хлопни пакетом из-под чипсов – и они подскочат до потолка. Где тут место азарту или изяществу?
Маленький мальчик повернулся к нему лицом, нацепив на эльфийскую мордашку нелепое выражение: глаза выпучились, а рот растянулся, как щель резинового почтового ящика. Казалось, будто он пытается скрыть свое истинное выражение – не иначе как чистейший ужас, – чтобы не обидеть постороннего. Наверняка мамочка приучила, что кричать при виде уродов или чудовищ – невежливо. Сказать по правде, смесь парализующего страха и искренней заботы к чувствам других людей показалась дьяволу одновременно и комичной, и довольно милой. Он решил попробовать еще одну обыденную разговорную реплику, раз уж, так сказать, привлек внимание мальца.
– У тебя потерянный вид, мальчик. Ох-ох-ох. Так у нас дело не пойдет, верно?
Хотя тон дьявола сделал бы честь вкрадчивому детоубийце, растрепанный пупс, похоже, принял слова за чистую монету, заметно расслабившись и решив при первом звуке дружелюбного голоса, что он вне опасности. Этот доверчивый лопушок был настоящей находкой, по-другому не скажешь. Дьявол поразился, как тот прожил хотя бы пять минут в беспощадных шестернях мира живых, а потом вспомнил, что, видимо, и не прожил. Вообще-то, чем дольше он находился в компании сосунка, тем правдоподобней была мысль, что это кто-то мертвый, а не кто-то спящий, – тот, кого заманили в машину незнакомца или брошенный холодильник на свалке, где никто не услышит криков.
По лицу мальчонки так и читалось, о чем он думает, как крутятся колесики в его еще не сформировавшемся мозгу. Ему казалось, он что-то нарушает, но если делать вид, что все в порядке, то дьявол этого не заметит. Выглядел он так, будто на лету изобретал оправдание для своего присутствия, но по молодости еще не обладал значимым опытом во лжи. В результате попытки соорудить алиби запищал он наконец с безмерно виноватым голосом, причем его шитая белыми нитками история наверняка была правдой.
– Да. Я потерялся. Можете посмотреть для меня в окно, чтобы я понял, где я?
Мальчишка кивал на поблескивающие воспоминания об окнах в стене из снов, откуда он появился. Очевидно, ему не было никакого дела до того, что на другой стороне, но, услышав ответ, он притворится, что сориентировался, прежде чем вежливо поблагодарить дьявола и сбежать так быстро, как только понесут короткие ножки, и как можно дальше, а куда именно – вопрос десятый. Очевидно, он боялся, но пытался не показать свой страх, словно дьявол – не более чем неуютно большая собака.
Нахмурившись в легком удивлении, заклятый враг человечества небрежно бросил взгляд через стекло, указанное ребенком. Там не скрывалось ничего особенно выдающегося, просто преувеличенный фантом местного школьного класса, выдернутый из чьих-то ночных мыслей. Это место дьявол, само собой разумеется, знал: не бывает мест, которых дьявол не знает. Пространство и история мира велики, спору нет, но и «Война и мир» тоже велика, а все-таки конечна. Были бы желание и время – если не считать, конечно, что времени вообще нет, – то можно легко изучить вдоль и поперек и то и другое. В вездесущности нет ничего особенного, думал дьявол. Просто перечитывай книжку почаще в свой почти бесконечный досуг – вот и станешь экспертом. Он вернул взгляд к настороженному карапузу.
– Похоже на класс шитья на втором этаже школы в Ручейном переулке, только побольше. Я здесь гуляю, потому что уважаю рукоделие. Это одна из моих специальностей. Еще я неплох в математике.
Все это, конечно, было правдой. Главное заблуждение людей насчет дьявола – и самое обидное, на его взгляд, – они мнили, будто он всегда лжет. Но на самом деле нельзя быть дальше от истины. Он не мог бы соврать даже за деньги – хотя, конечно, кто бы ему стал платить. Кроме того, правда – куда более тонкий инструмент. Просто скажи людям правду – и пусть они сами себя дурачат – таким был его девиз.
Однако что считать правдой в случае с мальчиком, оставалось неясным. Если заключить, что ребенок мертв, а не просто спит, то мертв он, похоже, недолгий срок. Он смахивал на того, кто только что обнаружил, что очутился во Втором Боро, в Душе, на того, кто еще не пришел в себя. Если так, то почему же его носит по этим отложениям снов? Почему он автоматически не нырнул обратно в свою короткую жизнь в точке рождения для еще одного кружка на личной короткой карусельке? А если после миллиона оборотов на одном и том же аттракционе он наконец решил, что перепробовал все местные удовольствия, и предпочел взамен заглянуть сюда, в неразвернутый город, то почему его никто не сопровождает? Где же хмельная компания празднующих предков? Даже если здесь замешаны какие-то беспрецедентные обстоятельства, начальство уж должно было бы сподобить какой-нибудь эскорт. Более того, при обычной оперативности подобная накладка казалась немыслимой. А вообще-то, подумал здесь дьявол, это мысль интересная. Она предполагала, что тут не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Дьявол посасывал трубочку и созерцал занятного человечка перед ним, от горшка два вершка, который нервно мялся и заметно пытался сообразить какую-то прощальную реплику, чтобы завершить беседу. Это совсем не дело, так что дьявол выпустил мундштук из дымящейся пасти и постарался подать голос раньше, чем его упредит ребенок.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































