Текст книги "15 лет на зоне. Записки убийцы поневоле"
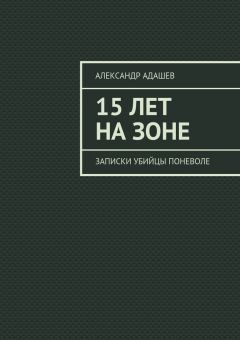
Автор книги: Александр Адашев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Глава шестая. Трёхэтажка
«Исполняющий обязанности» смотрящего десятого отряда, Саша по прозвищу Косой о моем существовании знал. При чем давно. Он сидел в 88-й камере киевского СИЗО с одним из моих подельников, Алексеем. В той хате Леша был смотрящим, а Саша только подавал надежды. Как это называется у блатных, стремился. Поэтому определенное уважение, если можно так сказать, он ко мне испытывал. И когда Витя Кикер обсуждал с ним вопрос о моем переводе на 10-й отряд (в таких случаях было принято ставить в курс), Косой не возражал. Он тоже сразу же подумал о том, что от такого богатого «коммерса» как я в общак будут идти немалые взносы.
По этой же причине он решил поселить меня к себе в кубрик. Как он объяснил при первом разговоре, хата, где живет смотрящий и его семейники, считается «общаковой». Не общей, как большая хата на тюрьме, а такой, в которой храниться общак отряда. И жить в ней могут только порядочные и достойные зеки. Поэтому разрешает он мне в ней поселиться в какой-то мере авансом. Надеясь на мои будущие заслуги.
11-й кубрик, о котором идет речь, на самом деле выгодно отличался от многих других на этом же отряде. В нем был сделан неплохой ремонт, поклеены хорошие обои. Стояла оконная рама с двойными стеклами. Кроме тумбочек были еще разные встроенные ящички, антресоль, закрывающийся шкафчик для вещей и одежды при входе. Где-то в полу имелась нихромовая спираль, которую время от времени включали в розетку и нагревали таким образом хату. Поэтому было тепло и сухо. Пахло то ли дезодорантом, то ли туалетной водой.
Жили там до меня трое. Саша Косой, его семейник Сергей по прозвищу Нарик, мужик, ширпотребщик Славик, которого называли Шприцом. Одна нара стояла застеленной и укрытой недешевым пледом.
Косой, как я сказал, был только исполняющим обязанности смотрящего. Сам смотрящий на момент моего переезда в их комнату находился в ПКТ. Или, как тогда говорили, на БУРе (аббревиатура расшифровывается как «барак усиленного режима»). Сидору, а такое было у него «погоняло», дали три месяца из которых он отсидел там чуть больше одного.
Во всех других кубриках отряда было по восемь нар. По четыре двухъярусных. Стояли они вдоль стен, друг напротив друга. В 11-й хате нар было шесть. Правая, ближняя ко входу и левая, стоящая ближе к окну, второго яруса не имели. Ближайшая к окну, без пальмы, принадлежала Сидору. Та что напротив – Косому. У Косого второй ярус был. Именно на него меня и положили.
На одноярусной наре около входа спал Нарик, напротив наверху – Шприц. Последний заслужил право жить в общаковой хате тем, что делал из нихромовой проволоки цепочки. Каждая стоила до десяти долларов. Понятно, что он их не продавал, а сдавал Косому или Нарику. Те в свою очередь через кого-то из администрации реализовывали на свободе. Прибыль шла в общак. Шприц имел чай и сигареты. Иногда ему давали возможность уколоться вместе с блатными.
Как понятно из прозвищ обитателей 11-го кубрика, кололись они все. Не только на свободе. Эти как раз имели такую возможность и в колонии.
Я наркоманом не был. Даже не курил пока еще. Но тем не менее поначалу у нас находились темы для общения и с Косым, и с Нариком, и со Шприцом. Первые два часто интересовались тем, как в Киеве делался бизнес в начале девяностых, говорили об общих знакомых из киевских группировок, обсуждали мое и Косого уголовные дела. Он тоже сидел за убийство, но в компании своих подельников был кем-то вроде Паши у нас. Саше Косому дали восемь лет за то, что он был водителем у пацанов, напавших на инкассаторов. И убивших при этом одного из них. Суд по их делу состоялся еще в начале 95-го года, одного из подельников приговорили к расстрелу и даже потом расстреляли.
Славик Шприц был простой парнишка. Как огромное количество молодежи подсел в свое время на наркотики. За них и попал в тюрьму. Ради интереса и расширения кругозора я мог пообщаться и с ним. Местами даже интересно было слушать его рассказы о жизни львовских наркоманов.
Обитатели «общаковой хаты» на промку не ходили. Саша, правда, бывал там иногда. Когда положенец лагеря, Матвей с 3-го отряда, собирал там смотрящих для решения каких то важных вопросов «по жизни нашей». А в остальные дни они играли в карты, разводили рамсы, общались с регулярно приходившими к ним мусорами. Иногда ночью появлялся начальник дежурившей смены контролеров, такой здоровый прапорщик по прозвищу Монгол. Косой брал сумку с сигаретами, чаем, продуктами и заряженными шприцами и в сопровождении последнего шел через всю колонию на яму. К Сидору По слухам, такая «свиданка» стоила раз в пять дороже, чем мои три недели на санчасти. Возвращался Саша под утро, минут за сорок до шестичасовой проверки.
Шприц днем крутил свои цепочки, ночью спал. За то, чтобы он занимался ширпотребом, а не тратил время на промзоне, решали Саша с Сергеем.
Мне поначалу на промку ходить пришлось.
При первом же моем разговоре с Косым я дал на общак блок дорогих американских сигарет, банку кофе, чай и каких-то продуктов. Для среднего зека это было немало. Но от меня ожидали денег, которых у меня не было. Поэтому на мой вопрос о том, как мне отпетлять от промки, Саша ответил приблизительно так.
– Пока рано тебе об этом думать. Сходи в цех, с людьми познакомься, посмотри как мужики работают. А через некоторое время обсудим.
10-й отряд, в отличие от 4-го, закреплен был за цехом №2. По всей колонии считалось, что этот цех – самый мрачный. Когда-то там производились вагонные люки и еще какие-то детали для железнодорожного транспорта. Пространства было много, стояли огромные пресса, штамповочные, сверлильные станки, гильотины для резки металлической проволоки, сварочные аппараты. Но больше половины из больших станков не работали. Они просто стояли огромной массой металла и втягивали в себя ночной холод. Если днем на улице (а на работу я первый раз вышел в конце января) было минус 10, то в цеху сохранялась ночная температура. Минус 20.
То, что моя счастливая лагерная жизнь закончилась и наступили суровые будни я прочувствовал в первый же выход на промзону с 10-го отряда. В тот день я утром сходил на санчасть, пообщался с Витей, побывал на приеме у Николаевича. Последний тоже сказал мне, что все время освобождения от работы мне давать не сможет даже он и рано или поздно в цех идти придется. Чем раньше, тем лучше. Быстрее привыкну. Рома по дружбе подарил мне две овощные сетки, норму на первый рабочий день, я засунул их в карман и, не возвращаясь на отряд, пошел с проходной (вахты) в цех.
На улице было прохладно. Зима того года была достаточно морозной. Одежда, в которой я тогда ходил, привезенная мне мамой и женой, была неплоха. В смысле её качества и стоимости. Я донашивал еще приобретенные мной на свободе брюки от воронинских костюмов, свитера из бутиков и туфли из фирменных магазинов. Фуфайка, конечно, была не от кутюр, но новая и не очень плохая. Однако, для мороза минус двадцать градусов эта одежда явно не подходила. Пока я шел с санчасти, успел основательно замерзнуть. «Ничего, – думаю, – приду, согреюсь».
Когда я вошел в цех, то сразу понял: здесь согреться точно не удастся. Потому что внутри было гораздо холоднее. Как в холодильнике. К этому добавлялись сквозняки, гуляющие по огромному зданию. Хорошо, что меня сразу же вызвали к мастерам для росписи в журналах по технике безопасности и оплате труда. Ознакомили с тем, что я должен был делать и сколько. Я был распределён на участок по плетению овощной сетки. Как и предполагалось.
Еще на этой огромной производственной площади работали «чесальщики» льноволокна. Человек десять. Они занимались тем, что получали сколько-то килограммов отходов льняного производства, сначала кидали их на землю, били металлическими прутьями, потом трусили руками, пытаясь отделить собственно полезное волокно от крупных остатков стеблей льна.
Точнее сказать, в цеху были видны только эти «трусильщики» пакли. Они постоянно находились в движении и холодно им не было. Ну, еще пару человек ходили от одной стены цеха до другой. «Тусовались».
«А где же думаю, все?». По идее, в цеху должно было работать человек шестьсот. Ну, с учетом того, что многие на работу не ходили, хотя числились на ней, человек четыреста.
Как и любой большой заводской цех, этот представлял собой громадный, построенный из кирпича, ангар. С огромными воротами, правыми и левыми с одного конца цеха и встроенным трехэтажным зданием с другого. В этом здании с железной лестницей на второй и третий этажи, находились кабинеты начальника цеха, мастеров и слесарей, обслуживающих немногие оставшиеся исправные станки. На третьем этаже был участок по изготовлению гипсовых форм для производства керамических изделий, на первом – «шурша» приемщика пакли, помещение слесаря-инструментальщика и две большие раздевалки. Одна для сварщиков, вторая для остальных работающих в цеху зеков.
Именно в этих раздевалках и находилась большая часть народа. Та, что была предназначена для сварщиков использовалась еще и как место, где коротали рабочие дни вышедшие по какой-то причине на промку приблатненные зеки и некоторые, считающие себя слишком «порядочными», чтобы сидеть в одной «шурше» со всеми. Мужиками, плетущими сетку, «чертями» и «крысами».
Спустившись со второго этажа, я зашел поначалу в первую раздевалку. Увидев не очень то доброжелательные физиономии блатных и им подобных и поняв, что моих знакомых среди них нет, я извинился и вышел на мороз.
Вторая, мужицкая раздевалка, была тут же рядом. Я открыл её дверь и… чуть не упал от ударившего мне в лицо тяжелого воздуха, состоящего из сигаретного дыма, запаха пота, старой грязной одежды, металлических инструментов, пакли и еще стольких ингредиентов, что все вычислить невозможно. Воздух этот был непрозрачный. Точнее, не сразу прозрачный. Чтобы рассмотреть хоть что-нибудь в этом тумане требовалось немного постоять и привыкнуть.
Дверь держать открытой долго было нельзя. В раздевалке было сравнительно тепло, а в цеху очень холодно. О чем мне сразу же и сказали. Поначалу я хотел куда-нибудь присесть, но наконец-то всмотревшись в эту обстановку понял, что мест для сидения нет.
Площадь этой «шурши» составляла порядка пятидесяти квадратных метров и на всем пространстве стояли лавочки. Стены по периметру были завешаны одеждой. Хотя лавок было много, на каждой впритирку сидели зеки и, прицепив капроновую нитку к крючку соседней лавки, плели сетки. Челноки ходили вверх-вниз, стоял какой-то вязкий шорох, слышались тихие разговоры. Иногда смех. Виденные мною во время моего похода на 15-й отряд с карантина зеки, напомнившие пауков, вспомнились мне также, как могла бы вспомниться героине фильма про «Чужих» первая встреча с монстром в момент попадания к ним на планету. Где монстры везде. А людей нет.
Пока я вглядывался в поразившую меня картину, несколько человек выходили, вероятно в туалет. Потом возвращались. В этой раздевалке всем было все равно. Кто ты, что и почему просто стоишь на входе. Каждого интересовало только его занятие и, может быть, сидящий рядом собеседник.
Минут за пять я немного согрелся. От воздушной смеси в этом помещении у меня начала побаливать голова. Я развернулся и вышел обратно в цех.
Смена прошла в хождении от одного конца цеха до другого, с небольшими по времени заходами в раздевалку. Постоять пять минут, согреться, выйти обратно. Небольшое разнообразие внес вывод с цеха на обед.
Столовая находилась в том же производственном двухэтажном здании, что и швейка. Обедали по цехам. Дневальные приходили с отрядов, расставляли на столы необходимое количество бачков с первым и вторым, клали на столы нарезанные по четыре пайки буханки хлеба. Затем в цеху звали бригады своих отрядов и сопровождали в столовую. После обеда «шнырь» шел обратно на жилзону, а остальные возвращались в цех.
Я съел свою пайку хлеба, на чем мой обед закончился. Превратно понимаемые понятия не позволяли тогда обедать из общего котла и пользоваться общей посудой. Я ведь жил в «общаковой хате»! В одной со смотрящим отряда! А с попавшейся тарелки мог когда-то есть и «крысак», и «черт», и даже «петух». Ты же не приходил на обед со своей «шлемкой». Поэтому во избежание возможного «контакта» приходилось голодать. Но зато пока мужики с нашего отряда обедали, я погрелся, стоя на улице. Днем мороз упал где-то до трёх градусов.
В цеху было по прежнему холодно, но я уже немного привык и чувствовал себя превосходно. «Уж мне ли, – думал я, – бояться холода. Я ведь вырос в на Крайнем Севере. А по сравнению с мурманскими морозами, здешние – так, приятная прохлада». Надо было только ходить и не останавливаться. Потому что в случае остановки подошва моментально вбирала в себя холод от бетонного пола и ноги превращались в замерзшие ходули. Мои туфли, а я как-то не подумал о необходимости найти себе зимние сапоги, от такого холода совершенно не предохраняли.
Время до съема с работы тянулось бесконечно, но прошло довольно быстро. Такой вот парадокс. Пока ты ходишь взад-вперёд, думаешь обо всем, о чем возможно, вспоминаешь свою жизнь поминутно, время тянется достаточно медленно. Смотришь на часы. Столько-то. Потом идешь до одной стены, разворачиваешься, идешь (метров тридцать) до другой, опять разворачиваешься. Туда. Обратно. Опять туда. Опять обратно. Сотню раз. Думаешь. Вспоминаешь. Когда кажется, что должно пройти как минимум час с того момента, как последний раз смотрел на часы, смотришь опять. Да-а-а! Прошло двадцать минут всего!
Но когда смена заканчивается и ты приходишь на барак, вспомнить особо нечего. И поэтому кажется, что время пролетело быстро. Вроде бы только на работу шел.
У меня, однако, от первого рабочего во втором цеху дня осталось еще одно воспоминание. Довольно веселое. Как всегда связанное с моим везением, что ли. Потому что произошедший случай мог закончиться настолько плачевно, что и последствия для меня предвидеть было бы страшно.
После обеда я захотел в туалет. В самом пространстве цеха, как я описывал, практически никого не было. Пара человек ходило, но были они далеко и на своей волне, поэтому отвлекать их не хотелось. Еще несколько не могли отвлечься от работы по вытряхиванию пакли. Спросить, где в цеху параша было не у кого. «Ничего, – думаю. – Сам найду».
Недалеко от раздевалки я нашел прямоугольное помещение. С неплотно закрывающейся металлической дверью. В котором вдоль одной стены проходила труба, из неё торчали краны без вентилей. Из кранов текла вода. Снизу был слив. Ну точно такой, какие бывают в вокзальных мужских туалетах. Вода стекала по этому сливу и уходила через отверстие у противоположной от входа стены. Высота этой канавки как раз была чуть выше колен.
«Вот, нашел», – подумал я и встав перед ней начал расстегивать ширинку. Случайно вошедший именно в этот момент сюда зек дико округлил глаза и заикающимся голосом проговорил:
– Т-ты ч-что д-делаешь?
– Поссать думаю, – ответил я. – А что?
– Так это не туалет! -прокричал он.
Слава Богу, что ширинку я расстегнуть так и не успел. Вошедший внимательно посмотрел на меня и по моему достаточно приличному виду понял, что перед ним этапник. Который первый раз в цеху и действительно не знает, где туалет.
Если бы я таки справил бы тогда свою малую нужду, быть бы до конца оставшегося срока «чертом». Именно так могли расценить такой поступок (Ничего себе! Нассать мужикам в умывальник!). В самом-самом лучшем случае мне все-таки удалось бы оправдаться незнанием и отсутствием людей, у кого спросить. Но тогда бы пришлось за свой счет строить в цеху новый.
Туалет оказался в помещении рядом. Две «дючки» без всякого слива и довольно таки грязные на вид. Умывальник в цеху мог показаться туалетом только тому, кто не видел настоящий. Интересно то, что об этом случае я не рискнул рассказать никому. Да и мужик тот тоже оказался не сплетником.
Дни на промзоне, во 2-м цеху, были довольно однообразны. Я познакомился с несколькими пацанами с других отрядов. Ходить взад-вперед вдвоем было гораздо веселее. Темы для разговоров находились всегда. А под общение рабочие часы пролетали довольно быстро. Сигареты для приобретения дневной нормы сеток, по шесть штук, у меня пока были. Чай, кофе тоже имелись.
Один из моих новых знакомых порекомендовал меня как интересного человека одному из «козлов» цеха, звали которого Богдан. Это был мужик лет сорока с небольшим, бывший когда-то начальником отдела физкультуры и спорта в администрации одного из районных центров Ровенской области. Сидел он за то, что во время одного из регулярных посещений сауны со своим другом, врачом местной больницы, они немного перебрали алкоголя и о чем то поспорили. Спор перерос в обмен дружескими подзатыльниками и с одним из них Бодя немного переборщил. Он когда-то тоже был боксером. Поэтому в отделе физкультуры и работал.
Судили его за убийство, но дали «ниже низшего», кажется пять лет.
Бодины обязанности состояли в том, что в начале смены он по весу выдавал сырье чесальщикам, а в конце принимал очищенную паклю. Он считался у них бригадиром. Знакомство с ним было очень полезно в том плане, что его должность предполагала наличие своего помещения (шурши), где пакля хранилась, стояли весы и другой необходимый инструмент. У него было тепло, имелись кружки для заварки и питья чая, кипятильник и электричество. Для того, чтобы Богдан с радостью принимал у себя меня и своего земляка Руслана, который нас и познакомил, требовалась самая малость. Наличие того, что можно было заварить и того, что можно было покурить. Бывало, что мы просиживали у него всю смену, пока он не был занят выдачей и приемкой.
Любил посидеть и поговорить с нами и молодой парнишка из вольнонаемных (вольнячих) мастеров. Из отдела техконтроля, контролер качества пакли. Этого звали Эдик и он только недавно отслужил в армии. На Черном море в бригаде морской пехоты. Учитывая, что я имел к флоту родственное отношение и мог рассказать много интересного о том, как служилось людям на море Баренцевом, общаться нам было интересно. Правда, Эдик не собирался всю свою жизнь быть ОТэКовцем. Он хотел делать карьеру в администрации учреждения и место, которое он занимал в момент нашего знакомства было только первым шагом в ней.
Иногда я со своими «коллегами» ходил после обеда в соседний, 1-й цех. Там было хорошо в особо морозные дни. Дело в том, что в нем имелось производство керамической плитки, цветочных вазонов и других изделий. Работало две электрических печи для обжига глины, которые неплохо прогревали цех и в нем было тепло. Сразу после обеда, забрав с собой пайку хлеба, я шел туда, устраивался рядом с печью и стоял грелся. А хлеб разрезался на две половинки, ложился на металлическую решетку с одного из боков печи, под которой находились горячие гильзы электродов, таким образом немного поджаривался, покрывался корочкой и становился особенно вкусным.
Для того, чтобы так подогреть хлеб, стояла целая очередь, потому что места на решетке хватало паек на пять. Но торопиться все равно было некуда. В свой цех необходимо было вернуться за час до съема, чтобы сдать свои шесть купленных овощных сеток. Поэтому пока очередь рассасывалась, пока делались такие своеобразные тосты, пока они неторопливо со смаком съедались, пока обсуждались разнообразные темы, время проходило и это было хорошо.
Интересно, что тогда редко кто из контролеров или вольнонаемных мастеров смотрел на то, с какого цеха тот или иной осужденный. В цехах проверок не было и выйдя на промку можно было отправиться по ней куда угодно. Посетить кроме первого цеха третий. Сходить на инструментальный участок или в гараж, в гости к бригаде ширпотребщиков, комнаты которых находились в том же здании, что и управление 2-го цеха, только вход был не изнутри, а с обратной стороны.
Мало-помалу я познакомился с множеством людей, работающими на разных участках, в разных местах и мог появляться в своем цеху только к обеду и к приемке сеток.
Мне пока особенно скучно не было и найти себе какую-то работу я не стремился. Да и «понятия», опять же, не позволяли. Я должен был норму покупать. По этой причине я совершил еще одну глупость, осознал которую только через девять лет.
Начальником 2-го цеха был старший лейтенант, офицер с немецкой фамилией. Звали его Владимир Николаевич. Как правило тогда начальники цехов не особенно вникали, кто работает у них на общих работах. Если человек не создавал особых проблем, фамилия его не звучала на планерках или в разговорах между администрацией и блатными, то он мог год– другой числиться в каком-то цеху, а с его начальником так и не познакомиться. Но в отношении меня Николаевич что-то от кого-то узнал. Может быть кто-то из моих хороших знакомых на тот момент фельдшеров создал мне рекламу. А может и Саша Косой похвастался такой «коровой», какой они меня тогда все представляли, перед своими знакомыми прапорами и офицерами, а те уже передали дальше и как-то раз начальник цеха меня вызвал к себе.
Прием мне понравился. Шнырь, а дневальный цеха, как и отряда, обслуживал не только блатных, но и начальство, принес кофе, Николаевич предложил мне сесть и принялся расспрашивать, правду ли ему про меня нарассказывали. А слухи тогда ходили занимательные. Говорили, что я нанял киллеров за какие-то колоссальные деньги, те выполнили свою работу, но кого-то из них кто-то сдал, потом вышли на меня, посадили и так далее. Рассказывали, что у меня свой банк, автосалоны, магазины и много другого. И большая часть этого осталась несмотря на арест.
Я постарался слухи эти развеять. Как мог. Разговаривали мы долго. Я пообещал на следующий день принести свой приговор и статью в «Киевских ведомостях», написанную после суда, сохранившуюся у меня к тому времени. Рассказал о жене, о состоявшемся незадолго до того свидании, о том, что моя материальная обеспеченность очень преувеличена. Николаевич задал мне вопрос, как я собираюсь жить дальше. Он хотел услышать ответ, к кому я все-таки ближе, к мужикам-работягам или блатным. Но однозначно ответить я не смог. Максимум, что было мной сказано, это Витина трактовка (жить не мешая и уделяя, а люди скажут!).
Мой собеседник улыбнулся. Он то понимал в жизни зеков больше моего и видел, что с блатными у меня точно ничего общего. Но и на работягу я похож не был. Поэтому самый правильный для меня вариант был устроиться на какую-нибудь должность, получать ставку и зарабатывать характеристику. Жить при этом спокойной и сравнительно обеспеченной материально, насколько в зоне это возможно, жизнью. Однако это означало стать козлом. А три года, проведенных мной в СИЗО говорили о том, что вряд ли я на это соглашусь. Да и тот факт, что я был поселен в хату к смотрящему отряда тоже исключал на тот момент мысли о козлячьей карьере.
Прощаясь, Николаевич протянул мне руку для рукопожатия. По понятиям жать руки мусорам было западло. Не то, чтобы это был контакт, как в случае с обиженным, но уважения у братвы пожавшему точно было уже потом не видать. Однако я принял этот жест доверия и в какой-то мере поддержки. Хотя сердце в тот момент у меня сжалось. Рукопожатие было крепким, чисто мужским.
Через годы, когда я регулярно, раз в полгода ходил на комиссии по поводу условно-досрочного освобождения, этот офицер, к тому моменту уже подполковник, был один из немногих, кто в моей характеристике неизменно писал: «Заслуживает УДО».
А тогда, на следующий день, после прочтения приговора и газеты, он предложил мне у себя в цеху нормальную работу. Формовщиком. Изготавливать из гипса формы для керамики. Искренне хотел облегчить мне жизнь. Я посоветовался с человеком, мнение которого для меня в тот момент было самым авторитетным. Витей Кикером. Тот сказал, что работа эта предполагает ставку, значит является козлячьей и соглашаться нельзя. Пришлось отказаться.
Николаевич отказ понял, тем более что я рассказал, кто посоветовал мне принять решение. О том, что я являюсь фактически жертвой искаженных взглядов на жизнь и не идеального окружения, он говорить мне не стал. Чтобы не расстраивать. Знал, что когда-нибудь я сам все пойму.
Так и продолжались мои выходы на промзону без особых изменений.
Когда немного потеплело, я по утрам, часов до десяти, гулял по улице вдоль стены цеха (что было нельзя, так как находиться надо было в цеху но пока никто не обращал внимания на меня, я не обращал внимания на запрет). Потом шел к еще одному новому знакомому, уже в годах мужику, который был дневальным бригады ширпотребщиков. Той самой, с обратной стороны 2-го цеха. Он предоставлял мне небольшое полуподвальное помещение, где у него стояла лежанка и я там до обеда спал. После обеда шел или к себе в цех, коротать время за чаем и разговорами в Бодиной шурше, или в первый цех делать гренки и общаться с кем придется. Из таких же, скучающих на промке, зеков.
Разнообразие в жизнь внесли события, затронувшие всех на лагере и запомнившиеся любому, кто их застал.
Случился «тарелочный бунт».
Блатные колонии не представляли из себя какую-то единую команду. Среди них были такие, кто друг друга мягко говоря не очень любил. А некоторые вообще ненавидели. Не берусь судить с чем это было связано, с присущими этой масти чертами характеров или с материальными интересами, но менее авторитетные постоянно пытались поставить под сомнение более авторитетных. Для этого необходимы были основания. Их постоянно находили. То распределением общака интересовались друг у друга, то смотрящий одного отряда заявлял, что на другом вопросы неправильно решаются. Или мужиков необоснованно ущемляют. В общем, обычное дело. Власть и оппозиция.
Любая оппозиция хочет стать властью. Верхушка оппозиции лагерных блатных состояла из смотрящего и его семьи одного из отрядов трехэтажки 13– 15. И кому то из них в какой-то момент пришла в голову мысль, что именно можно предъявить положенцу лагеря. Такое, что если бы большая часть блатных и мужиков признало эту предъяву обоснованной, то положенца необходимо было бы менять. И не просто менять, а наказывать за плохое исполнение обязанностей.
Суть её состояла в следующем. Как я писал, многие в общей столовой есть избегали. Якобы нельзя было предвидеть, попадется ли тебе законтаченная тарелка. Та, из которой когда-то ел петух. Так вот Бес (а такое было «погоняло» смотрящего, о котором идет речь), проведя агитационную работу, в один назначенный день организовал отказ почти вообще всех мужиков от выхода в столовую. И от еды там, само собой тоже. Все в одночасье посчитали для себя неприемлемым есть из посуды с неопределённой биографией. Устроил он все не без помощи блатных разных отрядов, которые хотели стать смотрящими, но пока еще не были.
Это было, конечно, ЧП. Уже в первый день к вечеру руководство администрации в лице первого заместителя начальника колонии, начальника режимной части и заместителя по интендантскому обеспечению посетили все отряды, где собирали осужденных и уговаривали от голодовки отказаться. На следующий день в каждом цехе по очереди выступили первый зам и лично хозяин. Последний в числе прочего говорил, что если на следующий день зеки в столовую не пойдут, то через день ему придется вызвать спецназ, который заставит всех и завтракать, и обедать, и ужинать. Ситуация грозила завершиться плачевно.
Тот, кто заварил всю эту кашу, конечно же предполагал такое развитие событий. Спецназ «поработал» бы с теми смотрящими и блатными, которые были «при власти». Кого-то закрыли бы в ПКТ, после чего свезли бы на крытую, кого-то отправили бы в больницу, и появлялась реальная возможность из оппозиции превратиться во власть. Поэтому даже и требования к администрации не были четко сформулированы. Не было понятно, чего именно добиваются те, кто не ест. Чтобы поменяли все тарелки вообще или как-то отдельно хранили, мыли и вообще использовали те, из которых едят обиженные? И кто должен этот процесс контролировать?
Само собой, что положенец и те лагерные блатные, которых положение устраивало, попытались взять ситуацию под контроль. И благодаря качествам Матвея это получилось.
Об этом человеке я знаю мало. Только то, что он к тому моменту досиживал 15-ти летний срок, который начинался еще в советских лагерях где-то на севере. В середине 80-х в Полицкой колонии бывший до того режим, общий, поменяли на усиленный. И привезли большое количество зеков из разных мест существовавшего еще тогда Советского Союза. Во время горбачевской перестройки решили немного облегчить осужденным, а точнее их родным, жизнь. Тех, кто был осужден на Украине, туда и вернули. Не знаю, делалось это по желанию каждого перемещаемого зека или без него, но тогда многие приехали на 76-ю. К моменту описываемых событий таких бродяг, прошедших северные лагеря оставалось мало. Матвей был одним из них.
По цехам они ходили вместе с хозяином. Но тот, выступив перед зеками уходил в кабинет начальника цеха или шел в цех следующий, а положенец оставался и тоже говорил с мужиками. Основной смысл его слов был в том, что раз уж такой вопрос возник, то совершенно необязательно было подбивать мужиков на голодовку. Имело смысл просто довести его до авторитетов колонии, до самого Матвея в частности, и он без лишнего кипиша решил бы эту проблему с администрацией. Пока предлагалось такое половинчатое временное решение. Мужики ходят в столовою, если кто не хочет, может не есть, кто хочет, приносит свою тарелку и ест с неё. Это, правда был не совсем приемлемый вариант, так как до этого как раз обиженные и ходили в столовою со своей посудой. Чтобы не контачить мужицкую. Еще говорили при случаи, если кто-то допускал какую-то оплошность: «Смотри, а то будешь со своей шлемкой в столовую ходить». Но для спокойствия и аргумента такой вариант был вполне терпим. А за ближайшие дни или администрация, или братва, или и те и другие совместно найдут средства на новую посуду, что решит вопрос окончательно.
На следующий день мужики в столовую пошли. Тем более, что и есть уже многие хотели. Редко у кого передаваемые родственниками продукты были постоянно.
Правда, имели место частные обсуждения. Тема для разговора была совсем неплоха. Особенно интересовал всех такой момент. Как же быть. Хорошо, поменяют тарелки на новые, но ведь сколько времени и сколько зеков до этого ели из старых, потенциально контаченных. И что, теперь все под сомнением? Общее мнение свелось в итоге к тому, что для мужиков это особой в жизни проблемы вряд ли составит. Мало кому придет в голову предъявлять работяге то, что он когда-то ел из общей посуды. А приблатненные, стремящиеся и остальные зеки, не оставлявшие надежду освободиться в авторитете у братвы если ходили в столовую, то сами виноваты. Блатной о своей кишке вообще думать не должен. Только об общем.









































