Текст книги "15 лет на зоне. Записки убийцы поневоле"
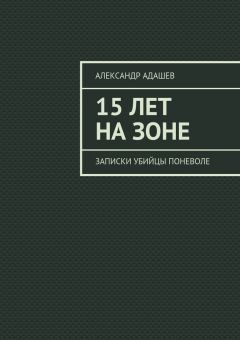
Автор книги: Александр Адашев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Так произошло и на этот раз. Как всегда, смотрящий начал с того, что для общего хорошо и что плохо. Кто может считаться действительно порядочным, кто достоин иметь какие-то привилегии перед общей массой. Кому, например, кони могут носить хлеб со столовой, кому нет. Кому и за какие заслуги братва может позволить не выходить на работу. Что от этих людей ожидают, какая от них должна быть польза общему.
Монолог вскоре начал приобретать конкретные формы и четкое направление.
– Некоторые тут у нас думают, – говорил он, – что они приехали на зону отдыхать, качать булки (так блатные называли занятия спортом, железом в частности), валяться бандеролью на наре и никакой пользы общему не приносить при этом. Так вот, они ошибаются.
– Все ли из здесь присутствующих достойны вообще находиться в этой шурше? – спросил он. – Вот ты, например, Керчь, что сделал для общего за последний месяц?
Олег, а так, кажется, звали мужика, приехавшего из Крыма, улыбнулся. Ему было, что сказать.
– Я, говорит, сделал два охотничьих ножа, – ответил он. – И вынес из цеха на отряд.
Каждая такая «охота» стоила в пределах 30 долларов.
– А я третий доделываю, – сказал Костыль.
– Ты, Зона, что скажешь? – обратился он к малолетке.
– Я через день общак на санчасть и карантин ношу, – сказал он. – И ширпотребщикам помогаю.
С Зоны действительно тяжело было требовать чего-то большего, так как он посылки получал хорошо если раз в полгода, а на свидании вообще никогда не был. Его основная польза была в том, что он выполнял различные поручения Сидора или Косого. Такие, которые были приемлемы порядочному пацану, были связаны с общим.
Львовский ответил, что он в этом месяце дал ширпотребщикам с отряда сигарет, чая, и купил у них икону, две шкатулки и сдал их в общак. Это тоже можно было оценить долларов в тридцать.
– А ты что скажешь, Шемарулин, – дошла очередь и до меня.
Понятно, что сам Сидор и его семейники одним своим положением и статусом приносили пользу общему.
Я сказал то, что и было:
– Вот, со свиданки вышел, сигарет, чая, кофе, продуктов на общее занес.
– И ты считаешь, что эти пара пачек сигарет, сотня граммов чая и банка консервов – достойное уделение внимания общему с твоей стороны, со стороны барыги, который миллионами ворочал?
Он, конечно, значительно приуменьшил количество занесенного мной за день до того, чем показал неплохое владение приемами НЛП. Даже не зная такой аббревиатуры.
Не ответить я не мог.
– Постой, Сидор, почему это барыги? – спросил я, – То чем я занимался и барыжничество – разные вещи.
– Да ни х*я не разные! – взорвался он. – Знаю я твою делюгу. Барыга ты голимый, а потерпевшие у тебя такие же пацаны, как мы.
Он имел в виду всю «черную масть». Тех, кто по их понятиям должен с барыг получать.
И тут я сказал фразу, которая хоть и потешила мое самолюбие, показала, что парень я далеко не трусливый, но стоила мне миллиардов нервных клеток, заставила меня пережить несколько бессонных ночей и послужила толчком к тому, что я закурил. В 24-х летнем возрасте, будучи принципиальным противником курения.
– Точно! Такие как вы – у меня потерпевшие!
Это было смело! Обозвать любого зека терпилой почти то же, что и петухом. Потому что когда-то раньше, во время строгого соблюдения понятий, тому, кто хоть раз писал в милицию заявление о том, что он потерпевший, в тюрьму лучше было не попадать. Считалось, что по такому заявлению могли кого-то посадить или посадили, тем самым был принесен вред пацану, совершившему преступление. А за это надо было наказывать. Таких, если о написании заявы становилось известно, обычно опускали. А попасть на один лагерь с тем, кого по твоему же заявлению закрыли, было подобно смерти.
Я фактически назвал терпилой смотрящего. Не прямо, но он это понял.
Бить меня здесь и сразу он не мог. Это был бы беспредел. И хотя все поняли, до чего наш разговор дошел, кто кого и как назвал, Сидор сделал вид, что ничего особенного я не сказал и продолжил приблизительно так:
– Так вот ты сидишь тут ни хрена пользы не принеся, а семейник твой, Паша, который на санчасти, с понтом больной, вообще отморозился! Хотя к нему отнеслись как к порядочному, в нормальную хату поселили.
Строго с точки зрения понятий Паша имел полное право на отряд не заходить, никаких гревов не передавать вообще. Санчасть – святое, там людям нужнее, наоборот, туда все несут. Но принято было так, что любой зек, числящийся на отряде, уделял внимание своему отрядному общаку. Где бы он при этом не находился (ну, кроме ямы, конечно). Паша просто к тому моменту еще не успел ни разу на отряд прийти. Как раз на следующий день собирался. Да и чувствовал он себя после свидания не очень хорошо. У него, как и у меня после первого длительного свидания, обилия домашней пищи с непривычки, случилось расстройство желудка.
Но этими словами Сидор отправил меня на санчасть пересказывать их и Вите, и Паше. Для этого ему не потребовалось оставлять меня после базара и прямо говорить «сходи до Кикера, расскажи ему все, что я думаю». Слова про «с понтом больного» Пашу врезались мне в память.
Сидор отпасовал меня обратно. Интересно, что я даже и тогда еще не чувствовал себя шариком для пинг-понга. Мне казалось, что я сам по себе такой важный, со смотрящим спорю по поводу общака, с Кикером на равных разговариваю о том, как вести себя порядочному зеку.
Выражение «с понтом больной» Вите очень понравилось. Это было именно то, что нужно. Смотрящий не мог поставить под сомнение болезнь порядочного пацана. Это надо было бы обосновать. А если обосновать не получилось бы, то Паша имел полное право за слова спросить. Как спрашивали, я уже описывал.
В тот день после вечерней проверки Паша пришел на отряд. До этого нас обоих проинструктировал Кикер. Что должен был сделать Паша, что я. Сам он, как и следовало ожидать, с нами идти отказался. Говорит, если я с вами пойду, всем сразу станет ясно, кто за этим стоит и кому это надо. Все эти рамсы. Как будто это еще кому-то было неизвестно.
В шурше все собрались быстро, ведь такие представления давались не часто. После того, как какого-то мужика ловили на воровстве у своих или заставали в момент поднятия окурков с земли, процесс определения происходил быстро. Пригласили, поинтересовались, «правда – нет?», в зависимости от ответа побили сильно или не очень, объявили ему, что он отныне крыса или черт, что жить будет в первой хате, попили чая и разошлись. В таких сюжетах не было особой интриги.
В этом же случае результат разборок мог быть непредсказуем. Большинство, конечно, склонялось к мнению, что Сидор свои слова обоснует, а с Паши или с меня спросят за то, что поставили под сомнение смотрящего. Его оценку пользы, принесенной нами общему.
Но были и те, кто подозревал – не все так просто. О том, что за мной стоит Витя Кикер и «киевская группировка» некоторые догадывались.
Началось с того, что Сидор поинтересовался у Паши, как того здоровье. По большей части с иронией. Иронию, правда, не предъявишь. Мой семейник при всех сообщил, что он по болезни не мог прийти сразу после свидания. Но как только немного пришел в себя, оклемался, так сказать, собрал кое-какой грев и принес на отряд. На общее. При этом он показал на средних размеров баул, стоявший в углу шурши. Его еще днем доставил в Пашину хату шнырь санчасти.
А дальше пошло самое интересное.
– Мне, – сказал Паша, – мой семейник, словам которого я не имею оснований не доверять, рассказал о том, что тут вчера говорили про меня в мое отсутствие. Что якобы я общему внимания не уделяю, лежу бандеролью на санчасти и вообще ничем не болею. Хочу вот поинтересоваться, правда это? Говорил кто-то что-нибудь такое?
– Да, – сказал Сидор на правах хозяина помещения, – говорили. Переживали за твое здоровье. Предполагали, конечно, что ты очень болен, настолько, что на отряд прийти не можешь, рассказать, как там на воле, как жена, ждет или нет.
Об общаке смотрящий намеренно не сказал ни слова. Он то знал, что сейчас все фиксируется в памяти присутствующих. А намекать больному, лежащему на кресте, на то, что он должен делиться своими гревами, значило бы, что с понятиями у него плоховато.
– Интересовались, говоришь, – произнес Паша, – А о том, что я «с понтом больной» ты не говорил?
– Кто такое говорил? – ответил Сидор, и, обращаясь ко всем присутствующим, сказал – Кто-нибудь слышал вчера что-то подобное?
Только в этот момент я начал немного понимать, чем это все грозит именно мне. От тех слов, которые можно было ему предъявить и спросить за них, он фактически отказался. А я, передав их Паше, становился интриганом, человеком, пытающимся поссорить порядочных пацанов. Разругать братву между собой. С таких спрашивали покруче, чем с блядей.
– Я, – продолжил смотрящий, – говорил дословно так: «А этот семейник твой, Паша, который на санчасти, сильно больной! Отморозился. Хоть его в нормальную хату поселили». А что я скажу, – продолжал он, – пацаны тут за него переживают, грева передают (Зона жил в той же хате), а он хоть бы маляву написал, «так мол и так, болею немного, но ничего, пацаны, подлечусь, зайду на отряд, спасибо за грева и так далее».
На этом он не закончил.
– А кто тебе так передал, «с понтом больной»? – спросил он, зная ответ. – Семейник твой, с неясным прошлым?
На случай отказа Сидора от своих слов Паша инструкций не получил. Но, имея опыт участия в бандитских стрелках и придерживаясь тех еще понятий, что семейник всегда прав, сказал так:
– Семейник мой. С порядочным прошлым. И будущим тоже. И я подозреваю, что ты, дружище, включаешь заднюю. А поэтому, что бы никто тут под твою дудку не плясал, давай назначим встречу на завтра, уважаемых людей с других бараков пригласим. Они переговорят со всеми, кто при вчерашнем базаре присутствовал. И узнают точно. Кто и что говорил.
Это было правильно. Учитывая, что этот рамс касался Пашу, а он в тот момент лежал на санчасти, он имел полное право требовать присутствия других людей, братвы. Да и разногласия возникли между пацаном и смотрящим отряда. Сам смотрящий в отношении себя разрулить их не мог.
Еще в таком случае появлялся шанс, что кто-то подтвердит то, что Сидор произнес именно слова «с понтом» больной. Если бы у него были тайные недоброжелатели из присутствующих, одного такого подтверждения было бы достаточно, что бы лишиться места. Должен заметить, что блатные умели проводить в таких случаях следственные действия не хуже, а иногда гораздо эффективнее любых оперов из райотделов.
Если надо было что-нибудь у кого-нибудь выяснить, они приглашали в шуршу человека и форменным образом его допрашивали. Если он не подозревался ни в чем слишком предосудительном, не били. Но вопросами с разных сторон, зацепкой за слова и длительностью разговора вынуждали человека в конце концов рассказывать все, что он знает. Или даже думает.
Сидор, зная об этих методах по практическому их применению на других людях, не мог пригласить каждого из участвующих в том памятном разговоре к себе и прямо сказать: «Будешь говорить так и так». Это бы по-любому всплыло. И отразилось на нем не лучшим образом. Но можно было рассчитывать на то, что все, кроме меня скажут, «не помним дословно, как он сказал». В таком случае весь рамс сводился к слову Сидора против моего. А в этом случае решение братвы, чьим словам поверить, зависело от того, у кого больше заслуг. В своих он не сомневался.
На этом всем пришлось разойтись. Паша вернулся на санчасть. А я в хату. В ту самую, где был соседом Сидора и семейников.
Вечером, точнее даже ночью, он устроил для меня представление. Началось с того, что после ночной, 23-х часовой, проверки, он завел с Косым разговор о разных памятных ему случаях. Как спрашивали с чертей, с крыс и с интриганов. Каково было потом некоторым из них, с десятью годами срока впереди, брать в руки швабру, ведро, каждый день ходить по продолу, мыть пол. Убирать шурши, пищевку, умывальник. За плохую уборку получать от завхоза (а чистоту он любил). О том, что некоторые не спят, пока качество уборки не устроит старшего дневального. А потом еще и на шары могут поставить. Спать на которых никак нельзя. Прое*ать можно. А за это такое бывает! Не позавидуешь!
Я, само собой обращал внимание на шнырей отряда, заходил в первую хату, с некоторыми разговаривал. Ставил шары и сам. Силуэт сидящего на подоконнике шарового в моей памяти запечатлелся. Условия у них были противоположными тем, в которых жили смотрящий с семейниками. Холод. Грязные шмотки, вечно мокрые от тряпок и ведер. Вонючие матрацы и подушки. Такое же бельё. Невыносимый запах в кубрике. Оконная рама с одним стеклом, все в щелях, из которых все время дул сквозняк.
Постоянная темнота в хате, связанная с тем, что свет включать было нельзя. Тогда снаружи был бы виден в окне зек, наблюдающий за ментами.
Именно такого шарового Сидор решил в тот вечер использовать для наглядной демонстрации того, что меня в ближайшем будущем ожидало. По его мнению.
Случайно так получилось или было задумано, но в тот день один из шаровых какого-то контролера провтыкал. Отшманали что-то или нет, застали кого-то за запретом или не застали, я не помню. Да это было и не важно. Сам факт того, что шнырь заснул на шарах уже был основанием с него спросить. И Сидор, после слов о том, что судьба у них тяжелая, крикнул на весь отряд кличку ночного дневального.
Тумбочка последнего была в противоположном конце коридора, но смотрящего он всегда слышал хорошо. Строго говоря, в этом тогда была основная его задача. Слушать, не зовет ли смотрящий.
Послышался топот. Через десять секунд дверь хаты приоткрылась и появившаяся в дверях голова ночного тихим голосом спросила: «Саша, звал?» (Удивительно, но Сидора тоже звали Саша).
– Звал, – своим характерным хриплым голосом проговорил Сидор. – Зови сюда того урода (он назвал погоняло), который сегодня шары прое*ал.
Через пару минут появился зек, по масти крыса, по человеческому имени Алексей. Это был парень, где-то двадцатипятилетнего возраста, довольно таки здоровых размеров (больше Сидора), с широким добродушным лицом. Хотя в тот момент оно было далеко не добродушное. Испуганное, хоть он и пытался всеми силами это скрыть.
Леху я знал лучше других шнырей. Именно он носил мне пайку со столовой и в какой-то мере считался нашим с Пашей конем.
Сидор, до того полулежавший на наре, сел на край. Одел свои фирменные кроссовки. Потом встал, медленно подошел к Лехе и голосом, не предвещавшим для того ничего хорошего, произнес.
– Ну шо, крыса? Не высыпаешься?
Как раз к моменту окончания этой фразы, он был уже рядом с провинившимся шаровым. Послышался глухой, но судя по всему сильный удар.
Я, лежа на своей наре, на втором ярусе над Косым, поначалу на весь этот процесс не смотрел. Заснуть я конечно же не смог бы. Даже если и хотел бы. Поэтому приходилось сначала слушать разговор Сидора с семейником, а потом и звуки, сопровождающие наказание. Наблюдать не хотелось. Но разошедшийся блатной не мог позволить единственному зрителю, ради которого все и было устроено, не посмотреть этот спектакль.
– Шемарулин, шо отвернулся? – прорычал он, – может спишь? Тоже спать любишь? Посмотри, как за шары спрашивают. Запомни. Через пару дней, уверен, и с тебя так спрашивать будем!
Я приподнял голову, пододвинул подушку, облокотился на неё и начал внимательно наблюдать за происходящим. Пытаясь не выказывать волнения.
Вряд ли это у меня получилось. Я попытался отвлечь свое внимание тем, что стал вслушиваться в игравшую в хате музыку (в единственном кубрике на отряде имелся запрещенный магнитофон, у смотрящего не отшманывали). Ногавицын. «Море черное, рыбка копченая».
Но и музыку иногда было плохо слышно, потому что после пары ударов в область печени и солнечного сплетения, сдерживавшийся до того Леха начал стонать. Когда он падал, Сидор брал его или за уши, или за нос одной рукой, поддерживал другой за куртку и, крича при этом ему в лицо: «Встал, скотина!» поднимал беднягу обратно на ноги и опять бил. Издевался он над ним так не десять минут и не пятнадцать. Просто когда он слегка уставал и давал своим рукам пару минут передышки, говорить не заканчивал.
«Вы, суки, крысаки, шныри и интриганы, – хрипел он, – научитесь уважать нас, блатных! Я научу! Я блатной! Я живу этой жизнью! Это мое, а ваше – вонючие тряпки, шары, стирка носков! Хоть так вы, уроды, принесете пользу братве! Если по другому не хотите!»
По правде говоря, до того, как я первый раз увидел Сидора, приблизительно так я представлял себе настоящего блатного. Он был чуть ниже моего роста. Ходил характерной переваливающейся походкой с чуть отведенными от туловища и немного согнутыми в локтях руками. Его татуированные пальцы, казалось, не могут принимать никакую другую, кроме веера, форму. Слегка горбился и втягивал голову в плечи. Если надо было повернуться, он поворачивал не шею, а все туловище. Говорил глухим хриплым голосом. В нос. Правильнее сказать мурчал. Точнее не назовешь. По виду он был гораздо блатнее моих потерпевших.
Где-то через час экзекуция была наконец закончена. На отряд пришел кто-то из знакомых смотрящему прапоров, о чем сообщил ночной дневальный. Сидор накинул свою черную коттоновую куртку (своего рода униформу блатного на нашем лагере), подошел к моей наре и, глядя мне в глаза, сказал:
– Спокойной тебе ночи, Шемарулин. Выспись, а то завтра у тебя тяжелый день. А послезавтра еще тяжелее. Да и пятнашка впереди!
Этим он подвел итог проведенной психической атаке на меня. Хоть мне оставалось к тому моменту и не пятнадцать лет, но это небольшое преувеличение (опять НЛП!) напомнило о том, что и так все не очень прекрасно в моей жизни складывается. А реальная перспектива до конца срока прожить таким вот Лехой могла бы прямо сразу отправить меня в умывальник вскрывать себе вены. Может, он на это и рассчитывал.
Глава седьмая. Конец

31 июля 2010 Саша трагически погиб.
Он мечтал, что когда-нибудь его книга будет продаваться. Эта мечта сбылась. Спасибо, что вы её купили!









































