Текст книги "Таинственный доктор"
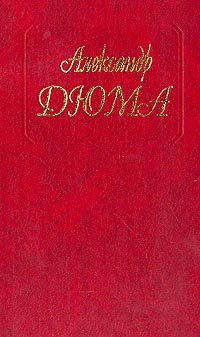
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
XX. ГОСПОЖА ЖОРЖ ДАНТОН И ГОСПОЖА КАМИЛЛ ДЕМУЛЕН
Как мы помним, Жак Мере намеревался сразу по прибытии в Париж отправиться повидать своих друзей Дантона и Демулена, однако отложил эти визиты из-за свершившейся у него под окном казни.
Всю ночь доктора преследовали кошмары: он видел бледное и окровавленное лицо Лапорта, его седые волосы в руке палача, доставал, точно наяву, из сумки ланцет – и наутро встал совсем разбитый. Не упади его взор на фасад дворца Тюильри, изрешеченный пулями парижан и залитый кровью швейцарцев, он бы наверняка решил, что все случившееся накануне вечером привиделось ему в дурном сне.
К тому же гильотина по-прежнему высилась посреди площади, и группы любопытных глазели на нее, пересказывая друг другу неслыханные обстоятельства, сопровождавшие казнь Лапорта.
В девять утра доктору доложили, что какой-то господин в черном, одетый по моде прежнего режима, желает поговорить с ним.
Жак Мере осведомился об имени гостя, но тот отказался назвать себя и передал через слугу, что он приходится сыном тому несчастному, которого доктор тщетно пытался возвратить к жизни накануне.
Доктор сразу понял, что человек, желающий его увидеть, – сын Сансона, унаследовавший после смерти отца титул господина Парижского, и приказал провести гостя к себе.
Действительно, он не ошибся.
– Сударь, – сказал Жаку Мере Сансон, – я понимаю, что мне не пристало докучать вам, пусть даже из желания выразить благодарность, но наш первый помощник, Легро, рассказал мне, с каким усердием вы пытались вернуть отца к жизни; мы живем очень замкнуто, и чужим нет доступа в наш семейный круг, но тем сильнее связующая нас любовь. Я обожал отца, сударь…
Тут на глаза Сансона-младшего навернулись слезы.
– Поэтому, – продолжал он, – я счел своим долгом прийти к вам, чтобы сказать: «Сударь, я никогда не забуду вашего человеколюбия; вы можете счесть мое поведение нескромным, даже неприличным, но я готов на все, лишь бы вы не заподозрили меня в неблагодарности и в равнодушии к памяти отца. Не знаю, смогу ли я когда-либо и в чем-либо быть вам полезным, но будьте уверены, сударь, что я, не задумываясь, отдам свою жизнь для спасения вашей, если обстоятельства того потребуют».
– Сударь, – отвечал Жак Мере, – поверьте, я рад видеть вас; вчера я имел удовольствие выпить в обществе вашего отца стакан испанского вина за отмену смертной казни; я сам пригласил господина Сансона ко мне: во-первых, чтобы избавить его от необходимости мокнуть под проливным дождем, а во-вторых, для того чтобы задать ему один сугубо специальный вопрос; впрочем, беседа наша оказалась столь увлекательной, что я забыл о ее цели.
– Задайте ваш вопрос мне, сударь, – подхватил Сан-сон, – и, если это в моих силах, я с радостью отвечу.
– Мне хотелось узнать, как долго теплится жизнь в обезглавленном теле; мнения вашего отца на сей счет мне уже не услышать, но, быть может, я буду иметь честь познакомиться с вашей точкой зрения?
– Сударь, – отвечал Сансон, – об этом надо спрашивать не у нас: мы только отпускаем веревку, удерживающую лезвие, – а у наших помощников. Если вам угодно, я позову того из них, кто, как мне кажется, обладает интересующими вас сведениями.
Доктор кивнул в знак согласия.
Сансон подошел к окну и подозвал толстого, жизнерадостного, краснощекого парня, который как раз завтракал куском хлеба с сосиской, сидя на помосте у подножия гильотины.
Подняв голову и увидев, кто его зовет, парень тотчас спрыгнул на землю и взбежал на второй этаж гостиницы «Нант», где его ожидали Жак Мере и Сансон-младший.
– Легро, – спросил палач у своего помощника, – ты ведь узнаешь этого господина, не так ли?
– Еще бы мне его не узнать, гражданин Сансон; это он вчера выпрыгнул из окошка, чтобы помочь твоему батюшке, а сегодня я спрыгнул с помоста на землю, чтобы узнать у тебя, какая во мне надобность.
– Не угодно ли вам, сударь, самолично задать этому юноше вопрос, который вас волнует? – спросил Сансон.
– Я хотел узнать у тебя, гражданин Легро, – сказал Жак Мере, пользуясь принятым в ту пору обращением, – веришь ли ты, что в обезглавленном теле продолжает теплиться жизнь?
Легро взглянул на доктора с недоуменным видом.
– Теплится жизнь? – переспросил он. – Это как же понимать?
– А вот как: меня интересует, веришь ли ты, что обе части казненного – тело и голова – продолжают испытывать боль?
– Смотри-ка! – воскликнул Легро. – Ты меня спрашиваешь точно о том же самом, о чем уже спрашивал гражданин Марат. Ты знаешь гражданина Марата?
– Нет, я о нем только слышал. Я уехал из Парижа десять лет назад, а вернулся только вчера.
– Гражданин Марат – человек что надо! Будь у нас хоть десяток таких, как он, мы бы в три месяца разбили всех врагов Революции.
– Еще бы! – подтвердил Сансон. – Вчера он потребовал казнить двести девяносто три тысячи человек!
– И что же ты ответил гражданину Марату, когда он задал тебе тот же вопрос, что и я? – осведомился Жак Мере.
– Я ему ответил, что насчет тела наверное ничего не скажу, а голова-то точно мучается.
– Ты полагаешь, что голова, отделенная от тела, продолжает ощущать боль?
– Еще бы! Ты что же думаешь, когда мы этим аристократам отрубаем голову, они и впрямь тут же умирают? Слушай, мы сегодня казним троих; это немного; корзина у меня совсем новая – хочешь я тебе ее завтра покажу! Увидишь сам, они изгрызут зубами все дно.
– Возможно, это результат машинального действия, последней нервической судороги, – произнес доктор, как бы размышляя вслух и не теряя хладнокровия, хотя яркие выражения, в которых помощник палача Легро описывал последствия казни, потрясли его до глубины души.
Помолчав, он обратился к Сансону:
– Я полагаю, сударь, что есть более надежный способ проверить, как обстоит дело; если вам самому претят подобные изыскания, позвольте этому доброму малому, который, кажется, не страдает излишней чувствительностью, произвести опыт вместо вас. Как только голова отделится от тела, пусть он поднимет ее за волосы и крикнет ей в ухо имя казненного. По глазам мы поймем, слышала нас голова или нет.
– Только и всего? – воскликнул Легро. – Ну, это нетрудно.
– Сударь, – сказал Сансон, – чтобы доставить вам удовольствие и доказать вам свою признательность, я произведу опыт собственноручно и нынче вечером запиской извещу вас о полученном результате.
В этот миг беседу наших героев прервал пушечный выстрел, возвестивший начало поминовения павших.
Как мы помним, оно было назначено на 27 августа.
Подобного рода торжествами командовал обычно один из членов Коммуны, по фамилии Сержан.
По профессии гравер и рисовальщик, он был подлинным мастером в искусстве другого рода – в искусстве устраивать революционные празднества; неумеренный патриотизм служил ему неисчерпаемым источником мрачного, угрюмого, блистательного вдохновения, вполне отвечавшего духу тех событий, в честь которых устраивались торжества и церемонии.
Именно Сержан, узнав о бедственном положении армии, объявил 22 июля 1792 года: «Отечество в опасности!».
Именно ему месяц спустя, 27 августа того же года, было поручено устроить грандиозное шествие в память о погибших.
В центре самого большого тюильрийского пруда установили гигантскую пирамиду, покрытую черной саржей.
На ней красными буквами написали названия мест, где произошли массовые убийства, в которых, как известно, обвиняли роялистов: Нанси, Ним, Монтобан, Марсово поле.
Гильотину потому и не убрали с площади, что она призвана была составлять пару этой пирамиде.
Вдобавок на 27 августа назначили три казни – это входило в программу церемонии.
В одиннадцать часов утра из здания ратуши, где заседала Парижская Коммуна, вышли в облаке ладана и благовоний, достойных афинской улицы Треножников, вдовы и сироты, потерявшие родных 10 августа; они были одеты в белые платья, перетянутые в талии, и несли в ковчеге, изготовленном по образцу ковчега Завета, ту знаменитую петицию 17 июля 1791 года, в которой высказывалась просьба об установлении во Франции республики – просьба в ту пору преждевременная, но спустя год исполнившаяся, как исполняется все, чему суждено свершиться.
Впереди процессии одиноко шла женщина в черном, несшая в руках черный стяг с короткой надписью: «Смерть за смерть!»
Следом за этой мрачной и грозной процессией, как бы в ответ на требование, начертанное на черном стяге, плыла над толпой колоссальная статуя Закона с мечом в руке, восседавшая в кресле.
Следом за Законом шел страшный Чрезвычайный трибунал, учрежденный 17 августа и уже начавший поставлять поживу гильотине.
Вместе с трибуналом шли члены Коммуны; они сопровождали статую Свободы. Таким образом, Свободу окружали судьи, призванные защищать ее еще в колыбели, а при необходимости мстить ее обидчикам.
Две статуи ненадолго остановились по обе стороны гильотины, чтобы присутствовать при казни очередного осужденного, а затем продолжили свой путь.
Тому, кто не видел всего этого своими глазами, трудно вообразить, какое действие производила эта процессия, двигавшаяся сквозь сумрачную от горя или хмельную от жажды мести толпу под музыку Госсека и песни Мари Жозефа Шенье.
В душе Жака Мере, смотревшего на мрачное шествие, общественная скорбь пробудила память о его личной драме; он горько усмехнулся и пошел своей дорогой.
Дантон и Камилл Демулен, друзья, которых не разлучит даже великая разлучница-смерть, жили в нескольких шагах один от другого.
Дантон занимал небольшую квартиру во втором этаже мрачного, угрюмого дома с аркадами на углу Торгового проезда и улицы Медицинской школы.
Камилл Демулен жил в третьем этаже дома на улице Старой Комедии.
Жак Мере начал свои визиты с Дантона.
Депутата от города Парижа не оказалось у себя; доктора встретила г-жа Дантон.
Она впервые в жизни видела Жака Мере, но не раз слышала о нем как о человеке весьма достойном и потому встретила его дружески, настойчиво приглашая зайти.
Госпожа Дантон сообщила Жаку новость, которой тот еще не знал: три дня назад ее мужа назначили министром юстиции. Он как раз устраивался на новом месте.
Впрочем, жене его не хотелось покидать их скромную квартирку, и она постоянно твердила мужу: «Я не хочу перебираться в министерский особняк, там с нами стрясется беда».
Поскольку на некоторое время эти новые персонажи сделаются нашими верными спутниками, мы, с позволения почтенной публики, будем по мере их появления на страницах нашего романа знакомить с ними читателей.
Дантон (которого теперь не было дома и которого в этот час, как нового Орфея, готовились растерзать новые вакханки) родился в Арсисюр-Об; адвокат королевского суда, но адвокат без практики, он женился на дочери лимонадчика, торговавшего на углу Нового моста.
В этой супружеской паре главным приданым жены была ее вера в будущее; она угадала в Дантоне героя своей мечты – могучего атлета-революционера, призванного сражаться с королевской властью и побороть ее.
Отчего Дантон обожал жену? Оттого, что она была статна, невозмутима и прекрасна, словно античная Ниоба?:
Нет. Он обожал ее прежде всего оттого, что она первой поверила в него.
На востоке говорят: жена – сокровище мужа.
Первая жена Дантона была его сокровищем, и до тех пор, пока она жила на свете, фортуна не изменяла ему.
Позже история явила человечеству другой пример такого рода: пока Наполеон оставался супругом Жозефины, он был непобедим.
В первые годы супружества Дантону и его жене приходилось нелегко. Юная пара частенько сидела на мели; изголодавшись, супруги шли обедать к лимонадчику, а если тот не выказывал особенного желания кормить дочь и зятя, с горя отправлялись гулять в Фонтенесу-Буа, подле Венсена.
Когда Дантона избрали в Парижскую коммуну, он сразу сравнялся резкостью взглядов с самыми неумеренными из своих собратьев.
Именно благодаря этой резкости, а главное, благодаря прославленному возгласу: «Что требуется для разгрома внутренних и внешних врагов? Смелость, смелость и еще раз смелость!» – он был назначен после вторжения неприятеля на французскую землю, но еще до парижской резни на опасный, можно даже сказать, смертельно опасный пост министра юстиции.
Вдобавок на него была возложена еще одна грандиозная миссия.
После предательства, совершенного защитниками Лонгви, чьему примеру, как опасались в Париже, могли с минуты на минуту последовать защитники Вердена, Национальное собрание проголосовало за создание новой армии из тридцати тысяч волонтеров.
Собрать эту страшную жатву в семьях парижан и жителей парижских окрестностей было поручено Дантону. Поэтому жена его каждый раз опасалась, что он вернется домой преследуемый матерями, у которых он отнимал мужей, и детьми, у которых он отнимал отцов.
О вербовке волонтеров было объявлено только 26 августа, накануне того дня, о котором мы ведем речь, и к этому времени на всех городских площадях и перекрестках уже соорудили подмостки, где восседали чиновники, призванные принимать расписки у грамотных волонтеров и устные согласия у неграмотных, причем каждого нового солдата приветствовали барабанным боем располагавшиеся рядом музыканты.
Завтра Дантон намеревался испросить у депутатов позволения прибегнуть к иному способу – способу, как поймет всякий, кому известен французский характер, куда более страшному, а именно посещению будущих волонтеров на дому.
Мать Дантона была жива.
Вместе с его женой она растила и баловала двух его детей.
Дети Дантона были ровесниками двух знаменательных событий: взятия Бастилии и смерти Мирабо.
Жак Мере долго беседовал с женой Дантона, вызвавшей у него искреннее сочувствие, ибо на ее лице он различил предвестия близкого конца. Темные круги под глазами – плоды бессонных ночей и горьких слез; скулы, пылающие нездоровым румянцем, особенно заметным на бледном лице; страшная бледность – следствие непрестанных тревог и заботы о детях, которых она почитала своим священным долгом вскармливать грудью, не прибегая к помощи кормилицы, – все это для врача означало одно-единственное: перед ним жертва, обреченная очень скоро стать добычей смерти.
Сочувствие, которое испытывал Жак к бедной женщине, нежность и жалость, сквозившая в его речах, сделали свое дело, и г-жа Дантон прониклась к гостю безграничным доверием.
Она рассказала Жаку о том, как часто приходится ей смирять бешеные порывы мужа, приводящие в ужас все Собрание; она поведала ему о своей любви к королю, в чью виновность ей так не хотелось верить, и о набожности принцессы Елизаветы – предмета ее пылкого восхищения; она попыталась оправдать королеву и открыла Жаку, что, когда ее муж устроил десятое августа, то есть свергнул короля, он поклялся ей, несмотря на это, чтить Людовика XVI и постараться любой ценой сохранить ему жизнь.
С глубокой печалью слушал Жак Мере речи г-жи Дантон, ибо чувствовал, что Дантон дал жене клятвы, которые не сможет сдержать, а между тем каждое потрясение такого рода укорачивает жизнь бедной женщины, дни которой и без того сочтены.
Он пообещал непременно разыскать Дантона.
Сделать это было нетрудно: повсюду, где Дантон проходил, оставались следы его пребывания, повсюду, где он держал речь, еще долго звучало эхо его мощного голоса.
«Если этот спокойный, мягкий человек разыщет Дантона и приведет его домой, – думала г-жа Дантон, – он сумеет успокоить и смягчить его».
Бедняжка! Она не подозревала, какой огонь сжигает сердце, казавшееся ей безмятежным, какие мстительные речи произносил недавно этот ласковый, нежный голос!
Из Торгового проезда Жак Мере направился на улицу Старой Комедии.
Он поднялся на третий этаж указанного ему дома, позвонил и спросил Камилла Демулена.
Оказалось, что того, как и Дантона, нет дома. В эти страшные дни люди действия не сидели сложа руки; домашний очаг стерегли, как в Древнем Риме, жены: мужчины действовали, женщины плакали.
Жена Камилла Демулена быстро подбежала к двери и отворила ее, утирая слезы.
Эта женщина была не чета г-же Дантон и вовсе не собиралась умирать; она была молода и прекрасна: ее алые губы, сияющие глаза и бархатные щеки мало кого бы оставили равнодушным; чувствовалось, правда, что она не спала ночь и много плакала, но столь юному и пышущему здоровьем существу не могут повредить ни ночь, проведенная без сна, ни слезы, лишь оттеняющие прелесть лица, как роса оттеняет красоту цветка.
– О сударь! – живо воскликнула она. – Мне показалось, что это звонит Камилл; правда, я прекрасно знаю, что у него свой ключ – ведь ему приходится возвращаться в любое время дня и ночи, – но, когда ждешь, забываешь обо всем. Это он послал вас ко мне?
– Нет, сударыня, – отвечал Жак Мере, – я приехал в Париж вчера вечером; в этом городе у меня только двое друзей: Жорж Дантон и ваш дорогой Камилл; ведь я полагаю, что вы его ненаглядная Люсиль. Из ваших слов я заключаю, что Камилла нет дома.
– Увы, сударь, они ушли вместе с Дантоном. Камилл сказал, что вернется к полудню, а теперь уже два часа. Но вы говорите, что вы друг Камилла; входите же, сударь, входите. Нынче такое время, когда друзья ценятся на вес золота. Скажите мне, как вас зовут, чтобы я знала, с кем буду говорить, если вы войдете и немного подождете Камилла вместе со мной, и чтобы я могла передать ему, кто приходил, если вы его не дождетесь.
Жак Мере назвал себя.
– Так это вы? – воскликнула Люсиль. – Если бы вы знали, сударь, сколько раз я слышала от Камилла ваше имя! Вы, кажется, большой ученый и могли бы, если бы захотели, много сделать для нашей священной Революции. В минуту опасности я раз двадцать слышала от Камилла: «О, если бы здесь был Жак, он сказал бы нам, как поступить!» Входите же, сударь, прошу вас!
И Люсиль с детской непосредственностью схватила доктора за отворот фрака, втащила его в прихожую и, закрыв за ним дверь, провела его в маленькую гостиную, где оба уселись на диване и продолжили беседу.
– Послушайте, – сказала Люсиль, – я только теперь вспомнила: в ту славную ночь десятого августа Камилл спросил у Дантона, где вы нынче живете, а Дантон ответил, что вы живете в маленьком провинциальном городке, если я не ошибаюсь, в Аржантоне.
– Совершенно верно, сударыня.
– Вот видите: я говорю правду. «Нужно ему написать, – сказал Камилл Дантону, – нужно ему написать».
– И что же ответил Дантон?
– Дантон пожал плечами и сказал: «Ему хорошо в Аржантоне, зачем нам нарушать покой счастливых людей?» А затем, поскольку мы как раз обедали и посторонних за столом не было, он налил вина себе и Камиллу, чокнулся с ним и произнес какой-то тост по-латыни. Я его не поняла и не осмелилась спросить у Камилла, что это значит, но запомнила.
– Если вы запомнили этот тост, может быть, вы повторите мне его слово в слово?
– О, конечно. Edamus et bibamus, eras enim moriemur.
– Сегодня, сударыня, – сказал Жак, – я могу перевести вам эти слова, ибо опасность уже позади, а в тосте речь шла как раз об опасности. «Будем есть и пить, – сказал Дантон вашему мужу, – ибо завтра мы умрем».
– Ах, если бы я знала это тогда, я бы умерла от страха! Жак улыбнулся.
– Я иначе представлял вас себе, сударыня; да и по вашему прелестному лицу, задорному, дерзкому и своенравному, не скажешь, что вы такая трусиха.
– Когда Камилл рядом, я очень храбрая; если мне выпадет умереть вместе с ним, я пойду на смерть не дрогнув, вот увидите; но без него, вдали от него, я за себя не ручаюсь. Вас ведь не было в Париже десятого августа, сударь?
– Я, кажется уже имел честь сообщить вам, сударыня, что я прибыл в Париж только вчера.
– О, конечно, а я и забыла. Я же вам говорю, что, когда его нет рядом, я совсем теряю голову. Если бы вы были здесь в ту ночь, вы бы наверняка тоже испугались, хоть вы и мужчина.
В эту минуту из прихожей послышался звук поворачиваемого в замке ключа.
– Ах! – вскрикнула Люсиль. – Это он, это Камилл!
И она устремилась навстречу мужу, оставив Жака Мере в одиночестве, на что он, впрочем, ничуть не обиделся, ибо импульсивная натура этой женщины, мгновенно переходящей от смеха к слезам, а от слез к смеху и не умеющей скрывать свои чувства, вызывала у него искреннее восхищение.
Люсиль возвратилась вместе с Камиллом; она не могла от него оторваться, она то и дело обнимала и целовала его.
Жак Мере глубоко вздохнул: он вспомнил Еву.
Камилл протянул другу обе руки.
Камилл был мал ростом, не слишком хорош собой, да к тому же заика. Чем пленил он прелестную, милую, обворожительную Люсиль?
Чистотою души, очарованием острого ума.
Камилл был счастлив увидеть после десятилетней разлуки друга своей юности; они с Жаком засыпали друг друга вопросами, а Люсиль, сидя на коленях мужа, слушала их разговор, с неизъяснимой нежностью глядя на своего обожаемого Камилла.
Демулен пригласил Жака к обеду, Люсиль поддержала мужа, а когда Жак отказался, скорчила прелестную гримаску.
Впрочем, после того как Жак объяснил, что обещал г-же Дантон разыскать ее мужа и привести его домой, Демулены согласились отпустить его с тем, однако, условием, что они снова встретятся с ним вечером у Дантона, если, конечно, Жаку удастся его разыскать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































