Текст книги "Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы"
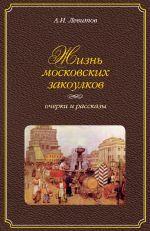
Автор книги: Александр Левитов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
Схвативши под руку совсем ошалелого учителя, я торопливо побежал по девственной улице. На ней, во вчерашнем сугробе, в том самом, в котором так благодушно прошлой ночью играли Мирон Петрович с будочником Илюшей, теперь раздавались какие-то непередаваемые крики, подымались и опускались толстые палки, показывались – то дюжий кулак дяди Микиты, то избитое лицо Мирона Петрова, то седенькая головенка прачки-Петрухи, то вдруг краснелся, взвиваемый ветром, красный фартук, то грозный лоб с черной прядью волос, нетерпеливо отбрасываемый в сторону сильной рукой…
– Батюшки! Кр-раул! Кр-ра-аул!.. – разносило по улице двадцать голосов. Неистово скача около бесновавшейся группы и гремя звонкими цепями, вторили этим голосам громадные собаки, собранные кутерьмой в одну кучу изо всех домов.
– Что теперь станешь с ними делать? – в тяжелом раздумье спрашивали друг у друга оба будочника, стоя над кучей. – Забирать бы, по-настоящему, надо, да жаль, – люди-то хорошие больно…
Квартальный поручик, объезжая свой участок, закричал было стражам роковое «взять», но стражи, подбежавши к нему, с почтительными улыбками доносили ему:
– Никак невозмож-жно, ваше благородие! Больно люди-то милые! Все здешние обыватели…
– О, ч-чер-рт!.. пробормотал поручик и махнул рукой. Лихая пара бойко подхватила его щегольские санки, и только и видно было, как засеребрился
Весь этот день мы крутились с учителем по разным развлекающим заведениям. Мрачно уставя глаза в стакан, он часто спрашивал меня:
– Так ты говоришь, все это вздор – а?
Я молчал.
– Ну, скажи же что-нибудь. Ты думаешь, я пьян? Не-ет! Я ведь все помню. Ты сказал именно: неотразимый вздор… Так ведь – а?
– Ну, и сказал! Тысячу раз говорил тебе… Отвяжись теперь…
– Во что же я верил? Боже мой! Во что же я верил? Ведь это именно такое слово тут должно стоять: неотразимый вздор…. Черт знает, как это я не догадался прежде! Во что я верил?.. Ну-ка, налей!
Я наливал, а он пил и скрежетал зубами, обращая тем на себя общее внимание кабацкого человечества. Между тем на дворе стояла тихая, первозимняя ночь. С неба, грациозно волновавшимися пушинками, летел мягкий снег; а месяц, словно красавица из-под вуали, так приветливо всматривался в далекую от него землю…
Всю душу измучила мне сложенная мной в эту ночь какая-то, решительно новая, нигде не слышанная и не читанная мной, молитва, с которой я обращался к небу этого вечера. Зажигала она сердце мое несказанным жаром любви к природе и людям; но тем не менее, когда я мысленно произносил ее, это прекрасное, всегда утешающее меня небо принимало в моих глазах какой-то холодный, исполненный неумолимой, но прекрасно-величавой мудрости, образ, который будто бы отвернувшись от меня наотрез, говорил мне:
– О чем ты просишь? Молчи – и иди!
И я шел… я шел; но с каждым шагом становилось бремя мое тяжелее и тяжелее, и всю человеческую, так долго и страстно горевшую и страдавшую, кровь мою охватило непреодолимое желание – спать, спать и спать…
Запивоха
I
Намереваясь сейчас как можно рельефнее вылепить для вас так часто встречающийся в Москве тип человека, подверженного запою, я для того, чтоб осветить должным светом его больную голову, сокрушенную губительной тяжестью того венка, который налагает на нее не древний, изящный Вакх, а просто-напросто всероссийский кабак, – для этого я прежде всего изображаю гостиную Онисима Григорьевича Столешникова, временного московского купца, занимающегося устройством загородных пикников, подрядами на свадебные и похоронные обеды и вдобавок снабжающего бедный люд деньжонками под залог и за умеренные проценты, как назидательно рассказывают об этом поучительные «Ведомости Московской городской полиции».
Изображать гостиные подобного рода людей нам не привыкать стать; рисуя их принадлежности, вовсе не заботишься о тонкости и нежности штрихов, какими г-дам Зотовым и их последователям необходимо было чертить те благовонные будуары, где в таинственном и возбуждающем на всякую поэзию полусвете, на удобно пригнанных для этой поэзии кушетках и козетках полулежали различные princess'ы и comtess'ы. С видом прогнанных чрез водоочищающую машину Марсов стояли в тех гостиных безусые корнеты Ледины и Гремины, – стояли и говорили те, если можно так выразиться, маркизски-умные речи, от которых во время оно так сладко надрывались брильянтовые сердчишки наших барышень и которые лично мной названы «глупыми до разврата». Писать про такие нежности я не умею. Для серебряного рейсфедера, которым непременно малевалась сия умилительная пошлость, слишком грубы ручищи Ивана Сизого.
– Что же такое? Всякий человек в своей сфере действовать должен! – сказал недавно в кабаке один прогоревший купец, когда ему объяснили, что вот он теперь прогорел и сидит в кабаке, а компаньон его приобрел и валяет теперь шампанское в соседнем трактире.
Должным образом постигая глубокий смысл этого изречения, я смиренно действую в своей сфере и говорю, что гостиная Онисима Григорьевича была совсем в другом роде: она, говоря грамматическими определениями г-на Греча{271}271
Греч – Николай Иванович Греч (1787–1867), журналист, издатель, беллетрист, переводчик.
[Закрыть], «есть не что иное», как необходимая принадлежность тех каменных с деревянными антресолями домов, которых так много на московских девственных улицах. Я не имею в виду планировать вам передний и задний фасады самого дома, потому что выстроило его тщеславие человека, который добился наконец в свою долгую, трудолюбивую жизнь того счастья, какое у французов определяется многозначительным словом: мещанское счастье, а у нас не менее многозначительной пословицей: себе при жисти, про свое доброе здоровье, опосля смерти – за упокой души, – добился, говорю, и оборудовал себе дом, Господу Богу на славу, добрым людям на удивление и крепкую зависть!.. Следовательно, много их, таких домов, пугающих воображение, не настроенное специально на достижение мещанского счастья, своими красными, растреснувшимися кирпичами, тусклыми окнами, завешенными в посторонне-наемных квартирах грязными юбками, заставленными ситцевыми подушками, с облезлыми собаками у разбитых как бы бомбами калиток и проч. и проч. Повторяю: много их, таких домов, красноречивее, чем Писемский{272}272
Писемский – Алексей Феофилактович Писемский (1821–1881), писатель. В 1877 г. вышел его роман «Мещане», рисующий нравы городских низов.
[Закрыть], характеризует нигилистов, говорящих про себя: меня выстроило мещанское счастье с тем, чтобы посредством меня грабить и убивать и без того ограбленную и убитую столичную бедность…
Итак, я проведу вас мимо этой обыденной домовой физиономии, не рекомендуя ее вашему вниманию. В наши глаза и без того ежесекундно мечется слишком много и горя, и пошлости, – горя, тем невольнее разнимающего на горький смех, что оно от себя зависит, – пошлости, тем безлогичнее мирящей вас с собой, чем ваша логичность более прирождена вам и чем честнее она развита в вас, потому что пошлость эта не от себя зависит…
Конечно, вы теперь поняли, что и гостиная Онисима Григорьича не составляет нити завязки моего романа, и если я иду туда и веду вас с собой, так делаю это, во-первых, для того, чтобы, как говорится, ловчее подъехать к самому делу, а во-вторых, главным образом для того, чтобы в этом купеческом домицилии, сравнительно с нашей постоянно колеблющейся и, как уже сказано, взбаламученной почвой, гораздо реже и тише обуреваемом, отдохнули глаза, заслепленные до режущих и кровавых слез безалаберной толкотней русского базара, на котором, по его собственной пословице, все с рук сходит, – и успокоилось сердце, изнывшее от страшных воплей многоразличных жертв, попавших как-нибудь ненароком под тяжелые, ухарски раскатившиеся базарные колеса…
Тишина поразительная царствует в этой гостиной, точно так же, как и на улице, на которую смотрит она своими двумя окнами, та же тишина. Яростное чириканье двух больших воробьиных стай, насмерть разоравшихся, вероятно, за исключительное обладание девственной улицей, даже как бы усиливает всеобщую мертвую неподвижность местности.
Без конца долго, а особенно посытнее поевши, можно сидеть на мягком кресле под окном в столешниковской гостиной и оттуда молчаливо и неподвижно, как каменная статуя, смотреть на эту улицу с деревянными домами, – на баб, лица которых пылают пожаром двенадцатого года, с мокрыми вениками под мышками бредущих по траве, – на разношерстных котят, целыми гнездами обитающих в этой траве, и, наконец, на молодого еще и потому несколько дурковатого будочника, который, кажется, для того и жительствует в будке, чтобы сражаться с кошачьими стаями и угощать забористым нюхательным табаком маленьких девчонок и ребятишек.
Обнимает человека во время такого смотрения какая-то сладкая, отрешающая от всяких мирских попечений, дрема. Смотришь, смотришь так-то, а они – эти обыденные, заученные наизусть картины, все идут, – идут так тихо, так плавно, что непременно из самой глубины души созерцателя вытянут такие смирные речи:
– Господи! да из чего же это люди бьются-то на белом свете? Из-за чего же это они друг друга едят? Сели бы вот так-то, сложили бы ручки, да и сидели; поглядывали бы посмирнее на тишину-то Господнюю. Чего бы им лучше этого блага!..
Но бьется сердце, даже самое смирное, против жизненной всасывающей тины до тех пор, пока можно биться, пока есть в нем силы и горячая кровь. Редкого, разумеется, не засасывает тина; но тем не менее, если мы согласимся с Расплюевым – всякую битву называть игрой, то, конечно, вместе с тем должны сказать и то, что эта игра есть самая азартная из всех игр, какую только приходится человеку разыгрывать в этой жизни.

Воскресный торг на Трубной площади. Фотография начала XX в. из книги «Москва в ее прошлом и настоящем». Государственная публичная историческая библиотека России
Я потому собственно распространяюсь на эту тему, чтобы вы, введенные мной в гостиную Столешникова, не испугались ее тишины и не спросили бы меня:
– Да зачем же вы привели нас сюда? Здесь и жизни-то нет никакой. Что мы там смотреть будем?
Тут-то вот и начнется моя заслуга как нравоописателя, когда я разуверю вас в вашей ошибке, рассказав вам, что в этом, по-видимому, окаменелом царстве была игра, угомонившая человека, – каков был этот человек до своего угомона, как и что именно угомонило его, и чем наконец он живет теперь, смутно предчувствуя, что вот-вот скоро эту смирную, всегда одно и то же показывающую улицу поразнообразит погребальная процессия, с уходом которой покончится все – и не будет тогда ни воздыханий о своей жизни, проведенной у косящета окна, ни печалей о том, что люди едят друг друга, – печалей, как вы уже видели, непременно налетающих на голову, полюбившую процесс глядения на однообразные картины девственных улиц.
С этой точки зрения я и отрекомендую сейчас Марфу Петровну, жену Онисима Григорьича, которая прежде всего бросается в глаза, при входе в гостиную. Эта, еще достаточно свежая, но молчаливая и часто вздыхающая о чем-то, старуха хоть и редко когда в настоящее время о чем-нибудь разговаривает, но нам, надеюсь, она, без особенных просьб с нашей стороны, распишет должным образом и свою гостиную, и ту жизненную игру, какую она сыграла в ней.
«Что этой у меня силы было, что красоты, когда я невестой считалась, страсть!.. – Так обыкновенно начинает рассказ про свою жизнь Марфа Петровна, когда человек умеющий натолкнет ее на этот рассказ. – Бывало, в крещенские морозы, какие подруги к обедне в шубах идут, какие в салопах, а я себе качу в одной ватной шимовочке{273}273
Шимовка – род жакета.
[Закрыть] – и щеки у меня, пожалуй, что всех алее были. И возилась я в это время неустанно, от ранней зари до поздней ночи, за каким-нибудь делом, потому сталкивало меня что-то с места, ежели случаем сесть приходилось, – жилы во мне так и говорили все. Нечего ежели делать, так полы мыть принималась, – как стеклушко у нас были полы завсегда. И было для меня это время самое трудное, потому и наяву, и во сне все это тебе женихи представляются, все это тебя тревожит что-то и в сумление вводит… Грешница перед Богом! Видючи так-то, как там иные прочие по соседству жен-то за косы таскают, так я мужиков этих никогда очень-то не жаловала, а тут взмолилась; «Господи! мол, да пошли же ты мне мужа какого-нибудь, – все бы мне с ним, может, полегче стало». Мечешься, мечешься, бывало, по постели-то, а в спальне жара страшная, духота, тишь! Всю тебя эдак разморит, – не приведи Царица Небесная! Так я теперича полагаю, что эта боль всем болям голова!
Но только что же вы думаете, милые вы мои? – вскрикивала всегда старуха в этом месте. – Думаете вы небось, по молодости по своей, что замужство лучше? И сейчас мне умереть на сем месте, – ничуть не лучше! Боль эта молодая точно что унимается немного, а чтобы т. е. насчет этого счастья, чтоб очи твои завсегда на милого человека, как в девках хотелось, глядели, так это и думать не моги… Случаем ты его огорчишь, случаем он тебя озлобит – и выходят от этого такие беды, что жизни не рад, потому как замуж-то выйдешь, спасенья-то тебе ниоткудова и нет уж; а в девках-то хота и болишь, хота и скорбеешь, а все же надеешься на что-то. Так то-с!
Не подумайте вы, одначе, что я это про себя говорю, старику своему в суд и смех. Грех так-то и мне говорить, и вам думать. В суд-то я редко когда говаривала, да и то когда еще молода была, зелена, не знала, как тяжело на людских головах наши сплетни садятся. И без моих слов вам известно, а без этого я бы и речи такой не вела, какой у меня муж. Пьет он у меня, буянит пьяный, дерется, ежели под руку подвернешься, – все это вы видите и знаете; но того вы не видели и не знаете, что в тридцать-то годов всяких дум мы с ним одной согласной душой передумали, что всяких дел одной силой переделали. Про добро-то про это людям и говорить-то не подобает, потому добро редко кто переймет, а перенимают все больше худо одно. Истинно!
Полагаешь ты, друг сердечный, легко мне было мужнины качества сносить, когда я не могла в толк-то взять, раскусить-то мозгов не имела, отчего он пьет, отчего буянит и зачем дерется. Соседки, бывало, придут, так же, как и я, молодые, и говорят: «Тебе, говорят, беспременно надо, Марфа, на своего идола в фартал идти жаловаться. Мы на своих уж ходили. Знатно с них там по три серебра на мировую счистили. Пришли оттуда, крехтят – и вот уж кой день от них словечушка не слыхать…» Бог только берег, а то ведь, чужих, глупых разговоров наслушавшись, в фартал сбиралась с жалобами не один раз.
Стерпела же вот – ничего, без фарталов прошло кое-как, потому муж трудится, муж телом и душой за семью болит. Взять хошь бы моего старика: кто знает, как он там стол сдал? Может, его барин какой-нибудь пьяный ругательски обругал. Может, он его – этот самый барин – лакеем выругал и к щеке подступал ни за что, ни про что; так, значит, теперича по-вашему-то, ежели глава дома, на какой, может, он день и ночь кровь свою проливает, пришодчи в свой дом, и сердца ни на ком не должон отводить? Как же!..
Понять это, избави господи, сколь много время требуется!.. Иные всю жизнь до таких понятиев не доходят – и умирают от этого в жестоких муках. А я, слава богу, скоро с тычками мужниными помирилась, а помиримшись, стала детей ждать. Думаю так-то: погоди, мол, маленько, станешь ты у меня пить и буянствовать, когда я тебе ангельчика безгрешного принесу. При думе такой, ей-богу, страсть как сама радовалась! И он ничего, недельки на две после первого ребенка затих, а потом опять, кажется, еще лютее воевать пошел. Да оно чему тут удивляться, на что тут сердиться-то? Лишняя забота прибавилась, – он и завоевал лютее, вот и все. Хорошо, что теперь-то это все постигаешь, а тогда-то куда тяжело сносить было!..

Торговка старыми вещами. Гравюра К.-Г.-Г. Гейслера из книги М. И. Пыляева «Старая Москва» Государственная публичная историческая библиотека России
Вынянчила детей, вырастила, а они, выросши-то, прочь от матери, потому мать необразованная. Разве она их разговоры какие ученые переймет? Где ж ей перенять!..
И села я тогда, други сердечные, вот у этого окошка в великой тоске, словно бы кукушка какая горемычная, и задумалась крепко-накрепко. «В чем же, думаю про себя, Господи, я утеху себе теперь найду? Без ничего ведь, мол, Боже ты мой, век свой я доживаю», – и никак себе в понятие не возьму, зачем это я, грешница, на белом свете жила, зачем сама сокрушалась и других сокрушала.
И тогда-то вот, как я раздумывала таким манером, невидимо кто-то в душе у меня и заговорит: «Что ты это такое, баба, неподобное говоришь?! Достатком вас с мужем Бог наградил. Помогай, шепчет, своим достатком бедным», – и взяла я это себе в ум, и стала помогать. Ну, и точно, делала я, не потаюсь с правдой моей, великие добродетели. Только что же? Чем, вы думаете, люди за мои добродетели отплатили мне? – Известно, чем они платят за добродетель-то, потому я и не скажу ничего об этом. Что ж такое? Зачем мне говорить? Люди-то – братья наши, они по образу и подобию Божьему созданы, – значит, про них, как об зверях диких, говорить невозможно, пытаму грех…»
Целые тридцать лет играла таким образом в своей безмолвной гостиной Марфа Петровна и, как говорится, досыта наигравшись, молчит теперь, редко когда раскрывая рот.
«Бог с ими совсем!» – почти единственной фразой встречает она в нынешние свои годы всякую новость, как бы она ни была поразительна, и при этом махнет рукой с тем видом, какой бывает у человека, говорящего: «Ну, господа! моя песенка спета. Пойте теперь вы свои песни, ежели голоса есть».
И сидит теперь Марфа Петровна у окна гостиной, словно бы какой сказочный сидень Илья Муромец, вставая только для того, чтобы попить чайку, да пообедать, – сидит и не сводит глаз с тихих, однообразных картин своей улицы. Какая-то тусклая неподвижность, как на только что замерзшем пруду, лежит на ее лице, и очевидно, что глаза ее хоть и смотрят на что-то, но ничего не видят. Склоненная набок голова хоть и напоминает позу человека во что-то вслушивающегося, но тем не менее можно подтверждать какой угодно клятвой, что купчиха не слышит даже тихого шепота своих двух взрослых дочерей, которые тоже сидят в гостиной и шепчут:
– И вижу я во сне, милая Паша, нонешней ночью, – говорит старшая младшей, – быдта стою я у калитки, а они – офицеры-то – и выезжают из-за угла на белых конях, все в золоте, с саблями. И принялась я сейчас этих офицеров стыдиться!.. Так-то стыжусь, так стыжусь – страсть!.. А они мне быдта и говорят: милая барышня, говорят, каких таких вы родителей дочь будете? Я им в ответ: на что это, мол, знать вам, господа-кавалеры? – Так, говорят; очень мы вами прельстились и желаем с вами знакомство завесть. В ту ж минуту, видя их такое нахальство, стала я им прездрение свое показывать, а они смеются… И только же, милая моя Паша, что тут вышло опосля, уж и в ум не возьму: принялась я быдта по-французскому разговаривать с ними. Так это часто, так часто разговариваю, так и сыплю. А офицеры, послушамши такого моего по-французскому разговора, говорят: видим мы теперь, барышня, всю вашу образованность, – извините-с! А сами руки все до одного человека под козырьки и саблями эдак фить-фить, – честь, значит, мне, все равно как начальнику, отдали!..
– Вот так сон! – удивлялась младшая сестра. – Антересно было бы знать, что он такое обозначает собой и каких нам перемен надоть ждать…
– А я уж к Машеньке Распушилиной бегала, – рекомендовала сновидица, – у ней сонник есть, так я справлялась. Значится там, в соннике, что по-французскому с господами-офицерами во сне говорить для молодой девицы знаменует: от родителей или старших родственников быть очень битой, так что, пожалуй, до уродства, а для почтенного торговца оный же сон великую прибыль знаменует.
– Неужто так-таки и сказано?
– Так и сказано.
– Ну, хорошего-то в этом мало. Жди теперь от тятеньки трепки, – беспременно пьяный придет.
– Чего кроме ждать? А я, милая Паша, как было обрадовалась-то! Проснулась когда, так и то все радуюсь, все думаю: вот, мол, до какого счастья довелось дожить, по-французскому, мол, вдруг в одну ночь выучилась! А в спальне-то, Пашенька, такая-то жуть, такая-то духота, – не приведи господи! До самого до света не могла я после своего сна заснуть, потому что все они представлялись мне, как это они едут, едут, а в руках у них сабли наголо, позади их солдаты в трубы трубят и в барабаны бьют… Как есть война!..
Но ничего не слыхала старуха из дочерниных разговоров об офицерах, потому что в противном случае сон, как говорится, в руку бы дался, если не по отношению к почтенному торговцу, как объяснял сонник, так по крайней мере по отношению к молодой девице.
– Насчет ежели теперича, когда девица до закону про мужчин начнет рассуждать, то я этого терпеть не люблю, – обыкновенно говаривала Марфа Петровна, равнодушная ко всему остальному. – И так бы я эдакую девицу сейчас же за косы и давай возить, потому не ее короткому разуму такие дела решать.
Итак, в столешниковской гостиной царствовал только один едва-едва расслушанный мной разговор девиц да витала невидимая дума Марфы Петровны, сидевшей у окна в своей обыкновенной неподвижности.
Тишь и благодать были полные.
Разборчивее всех живых людей, бывших в гостиной, разговаривали толстобрюхие, косорылые и косоглазые амуры, пузатые лиры и кривые роги изобилия, которые пущены были по потолку покоя художнической рукой хозяйского приятеля – маляра Григорья Зверева. Летая по белому фону потолка, все это порой как бы собирается в тревожные, совещающиеся о чем-то кучки; шепчутся о чем-то в этой всевыдающей тишине; слышно даже, как шуршит паутина, которую стряхивают амуры со своих рыжих кудрявых голов, и в уши Марфы Петровны летит сверху следующий разговор:
– О чем это? Что это она думает? Ведь целый день она так-то сидит!.. – с видом глубокого недоумения на пузатом лице спрашивает у корзинки с фруктами некоторый крылатый мальчуган, с колчаном за плечами, полным оперенных стрел.
Корзинка с фруктами продолжает быть задумчивой, и ежели бы у ней была голова, так она непременно закачала бы ею отрицательно: дескать, не могу знать, о чем это она так сильно раздумалась.
– Вишь, вишь какие! – думает при этом сама Марфа Петровна. – Про хозяйку начали растолковывать!.. – и при этом на ее лице примечается даже что-то вроде улыбки. – Говорила Онисим Петровичу: Онисим, мол, Петрович! не расписывай, мол, потолка, потому все это кумирские боги – идолы, а оно так и вышло – вот они уж и заговорили.
– Эх вы! – отзывался снизу на верхнюю речь тяжелый, старомодный диван каким-то толстым, совершенно медвежьим голосом. – Давно ли вы здесь летаете-то, что думаете разгадать хозяйскую думу? Я вот уж который год здесь стою, да и то этой думы не знаю.
– Так, так, милый! – поддакивает ему хозяйка. – Заступайся за меня, – я тебя сама покупала, когда еще молода была. Двадцать пять рублев, по тогдашнему на ассигнации, белой бумажкой я за тебя заплатила. Заступись!
– Спуску не дам, хозяйка! Молчи только, – успокаивал диван. – Я их, короткохвостых, всех до единого распугаю.
– Мы им покажем себя! – энергично вторят дивану расставленные около него массивные шестеро кресел, совершенно по-гусарски подпираясь при этих словах в бока своими изогнутыми ручками.
– Вам-то себя и показывать-то! – вдруг зазвенели из стеклянного шкафа чайные, столовые и десертные ложки, заложенные некогда Онисиму Петровичу отставным штабс-ротмистром Полведерно-Бубновым. – Такой ли ваш фасон, чтобы показывать себя? – продолжали спрашивать ложки, видимо, принимая сторону рогов изобилия, амуров и проч.
– Фас-ссон! – презрительно и в один голос восклицают диван и стулья. – О, чер-р-ти! Сами-то вы очень фасонисты! Тоже старье ведь…
– Так, так, милые! – уже, так сказать, осязательно улыбаясь, говорит хозяйка. – Не выдавайте, – рази они моложе вас? Рази я под них тоже не сама деньги выдавала двадцать годов тому назад? Такие же и они, как вы.
И тут пред оловянными выпученными глазами Марфы Петровны начинается ожесточенная и в высокой степени суматошная битва между низом и верхом, т. е. между диваном и креслами, с одной стороны, и между амурами, лирами и рогами изобилия, с другой. Вот одно кресло с легкостью птицы взлетело на потолок и брыкнуло задней ногой по корзинке с фруктами так, что несколько апельсинов скатилось на пол. Марфа Петровна подняла один, попробовала – кисло и горько до отвращения. Она бросила апельсин вверх и вышибла им глаз амуру, амур закрыл свою толстую рожицу пухлой ручонкой и застонал от боли. Диван протяжно и басовито хохотал над страданиями маленького, как говорила Марфа Петровна, кумирского бога, – до тех пор хохотал, пока божок в свою очередь не слетел с потолка и с ожесточенной яростью не вцепился в волосы насмешника.
– Что же это? Что же это такое? – вопрошает наконец Марфа Петровна, уже совсем пробуждаясь и вставая с кресла.
Но никто не дал ей удовлетворительного ответа. Амуры присмирели и, как в день своего рождения, продолжали лететь куда-то, распростерши крылья и плутовски улыбаясь. Диваны и кресла, его обставлявшие, угрюмо додумывали свои медвежьи думы, а серебряные ложки блистали из мрака запыленных шкафных окон безмолвной, но тем не менее светлой надеждой, вероятно, на то, что вот-вот придет сюда старый хозяин их, отставной штабс-ротмистр Полведерно-Бубновый, с громким смехом вытащит из бокового кармана только что выпонтированную пачку ассигнаций и выкупит у Столешниковой свое дворянское, наследственное серебро…
Все по-прежнему стояло на своих обыкновенных, неподвижных ногах; тишина, видимыми, толстыми слоями носившаяся по гостиной, снова защемила сердце купчихи, взбудораженное немного той фантастической возней неодушевленных предметов, до которой часто досиживается и додумывается человечество, за отсутствием действительных, жизненных потрясений.
– Господи! что же это за тоска такая? – с долгим зевком спрашивает Марфа Петровна. – Хоть бы чаю напиться, што ли?
– Только во сне и увидишь что-нибудь хорошее, – раздавался тихий девичий шепот вместе с безмолвным разговором матери. – А днями такая тебя тоска ест!.. Хошь бы тятенька поскорее запил, – все бы, может, он, как в прошлый раз, привел с собой для компании поручика Свистюкова. Ведь есть же на белом свете эдакие мужчины приятные!

Водонос. Москва. Фотография начала XX в. из книги «Москва в ее прошлом и настоящем. Государственная публичная историческая библиотека России
Итак, вот по какому нетреволненному озерку покачусь я с вами смотреть дальнейшее жизненное течение столешниковского дома. Смотрите же, не пугайтесь, когда это, с первого взгляда маленькое и тихое, озерцо превратится дальше в бурно ревущее и никакими плотинами не сдерживаемое море, – когда на его необъятно разлившихся водах покажутся острова из тины и грязи, сплошь покрытые непроходимыми, дикими порослями, и особенно тогда, когда из этого дремучего леса раздадутся отчаянные, беспомощные крики жертв, которых неумолимо пожирает там гибельный порядок вещей…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































