Текст книги "Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы"
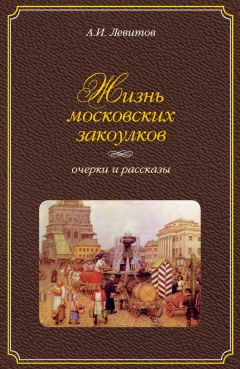
Автор книги: Александр Левитов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
II
Неизвестно, как долго продолжалась бы эта тишина в купеческом доме, если бы не случилось следующего обстоятельства, по поводу которого выходит наконец на сцену глава фамилии, сам Онисим Григорьич Столешников.
Одним летним утром сам глава, напившись пораньше чаю, ушел куда-то из дому на раннюю работу. Остальное семейство, т. е. барышни и Марфа Петровна, сошедшись в гостиной, единогласно рассказывали друг другу, что как молодое, так и старое поколение, как бы заранее сговорившись, увидали в прошлую ночь во сне, что, «будто иду я, милые мои, по улице, по какой подлинно – не упомню, и набежала будто на меня черная-расчерная собака. Набежамши, выпучила на меня свои бельмы собачьи и говорит человеческим голосом, таким страшным голосом: «Ты, говорит, куда это – а? Рази эдак-то можно женщине по улице шататься?» И с этим словом хвать меня, проклятая, за ляжку, так что кровь, самая что ни есть красная, ручьем эдаким резвым и полилась».
Не нужно было даже справляться и в соннике, что означал сей всеобщий сон. Всегда он безоблыжно показывал скорое свидание с ближними родственниками. Положили поставить самовар и дожидаться этого свидания.
– Кто же это такое будет у нас? – несколько раз озабоченно спрашивала старуха, дуя на чайное блюдечко, – Ума не приложу.
– Антиресно узнать, какой такой родной к нам припожалует, – в свою очередь втихомолку раздумывали девицы. – Уж не женихи ли какие? Ах, как бы Господь послал поскорее. Лестно бы из эфтой тюрьмы куда-нибудь хота вырваться. Сейчас умереть, за любого урода, безо всяких разговоров, пойду…
Как бы отгадывая тайные, семейные желания, в гостиную ввалилось некоторое крестьянское существо женского рода, очевидно, из-под Ярославля, костюмированное в как бы нарочно придуманные синие лохмотья, с котомкой за плечами из перестроенного на новый лад старого солдатского ранца. Ввалившись в комнату, существо это с улыбкой, в одно и то же время изобразившей и глубокую преданность, и глубокую радость, доставленную свиданием с Марфой Петровной и ее дочками, проговорило:
– А вот и мы к вам! Небось не ждали гостей-то? – Вслед затем женское существо из-под Ярославля принялось освобождать себя от котомки и синих лохмотьев, потом громко и жалобно зарыдало и, так сказать, сквозь рыдания пропустило такого рода объявление.
– А мы ведь, сестрица милая, опять погорели! Семь одних лошадей сгорело, три коровы, что теперича коробья разного!.. Вот в чем, видишь, осталась, а мужики, сейчас околеть, без рубах по соседским печам укрываются…
«Н-ну, д-аа! Знаем мы вас!.. Который уже год ходишь так – на погорелое с брата дерешь!» – с некоторым неудовольствием подумала Марфа Петровна, лобызаясь с гостьей.
А гостья была сестра Онисима Григорьича, действительно обитавшая в одном из сел Ярославской губернии. Она через каждые два года путешествовала от родимых пенатов в Москву к своему единоутробному братцу для того, чтобы выпросить у него, хоша по крайности, пятидесятную, под тем благоприличным видом, что акибы на погорелое место. Известна она была в семействе единоутробного братца под немногосложным именем сестры Татьяны, оставшейся в крестьянстве, которой, по этому случаю, непременно нужно было помогать не только деньгами, но и главным образом теми отрепьями, какие скапливались в семействе в два года отдыха от ее визитов.
– Что же это такое, милая сестрицушка, за пожар был – страсть! – докладывала Татьяна, присаживаясь к самовару. – И бог ее ведает, от чего это и как загорелось… Сказывают: все это виндерцы подпаливают. И кой их леший ухитряет только на такие дела!..
«Н-ну, д-да! Разговаривай по субботам про виндерцев-то. Сама-то ты и есть виндерский разоритель», – думала Марфа Петровна, слушая трагический рассказ Татьяны, пришествие которой так удачно напророчил сон прошедшей ночи.
– Ну, что братец? Как он тут поживает? Все ли в добром здоровье?
– Да что братец? – Братец, известное дело, работает, рук не покладывает, потому семья. Пить-есть надо, обуться, одеться, капитал заплатить, – отвечала хозяйка многознаменательной аллегорией.
– А мы там прослышали, – развивала гостья разговор, – купцы ваши проездом у нас в избе останавливались, так они сказывали, что будто он пьет; а то бы, говорят, богаче вашего брата, может, во всей Москве не было бы, потому очень он к торговле всякой ретив и способен.
– Что правда, то правда! – подтвердила Марфа Петровна слух, занесенный из Москвы на дальнюю сторону. – Одно горе у нас: запивойство это проклятое. Сколь много оно к нам в дом зла приносит, одному Богу известно.
Разговор, попавши сразу в так глубоко проторенную русскими людьми колею, делался с каждой минутой живее и дружелюбней.
– Лечила бы ты его, милая сестрицушка, – умиленно советовала ярославка. – Первое дело: молитва тут оченно помогает, другое…
– Лечила уж всячески. Сколько капиталу на эвтих лекарей да лекарок потрачено!.. Плотину, кажется, можно было б тем капиталом смостить. Нет, уж верно терпи, авось Господь за грехи на том свете зачтет.
– У нас вон у деревенских-то так ведется: ежели какой мужик очень наляжет на это винище, мир сейчас соберется, да своим судом его отлупцует, как следует, – ну, и ничего: иные, слава богу, скоро после этого в память приходят и перестают… У вас ведь небось так-то нельзя?
– Кто же на такое лекарство из образованных людей согласиться может? – с большой досадой спросила у ярославской тетки старшая барышня, которую вместе с бесчисленным количеством разных моральных совершенств украшало еще и то глубокое убеждение, что она всякий субъект, одетый по-немецки, считала образованным.
– Известное дело, кто ж из господ купцов, али бы теперича из дворян, пойдет на такое дело. Я это так только к слову сказала, как у нас по селам делается… Я вот в прошлом году от одной странней богомолки самое верное средство слышала, так хотела про него сказать. Кто ведь ее знает-то? Сделается – и поможет. Богомолка сказывала: дюже, говорит, хорошо; я, говорит, на многих пытала.
– Что же? Как? – любопытно осведомлялась Марфа Петровна, готовая на всякую жертву для приобретения верных рецептов от запоя.
– Возьми, говорит, ты гвоздь двухтесный{274}274
..гвоздь двухтесный… – гвоздь, длина которого соответствовала толщине двух тесин (двух досок теса).
[Закрыть], распали его добела…
– А потом в крещенскую воду его опустить и той водой поить больного девять зорь утренних, девять вечерних… – подсказала хозяйка.
– Так точно, – подтвердила гостья, опечаленная невозможностью услужить чем-нибудь благодеющему семейству.
– Это мы знаем, – на одном приказном наша кухарка это средство пробовала. Больше трех зорь не выдержал, а на четвертую так начесался, и так он эту самую кухарку исколотил, насилу отняли. «А, ты, говорит, с гвоздя?..» Когда протрезвился, так лечиться больше не пожелал, потому, сказывает, «за что же я ее бить буду – кухарку-то? Она, говорит, рази в этом виновата?..» Мы уж на Онисиме Григорьиче и не стали пробовать: побоялись, – опасно должно быть.
– Нет, сестрицушка, богомолка про это, т. е. очень чтобы про буйство-то, ничего не говорила. Сказывала только, что нет быдта того лекарства лекше и приятнее.
– Не знаю; а что у нас смертоубийство из него чуть было не вышло, так это верно я тебе сказываю. Мне что же врать-то?
– Известно, зачем врать, – переспросила ярославка, впадая в уныние, конечно, от того, в эту минуту пришедшего ей на память обстоятельства, что вот, дескать, знают же люди издавна, что врать незачем, а все врут, и что она – эта самая ярославская Татьяна – идет по такому противоречивому пути прытче, может, всех людей на свете.

В апрельскую распутицу на мосту. Гравюра К. Вейермана по рисунку Н. С. Негодаева из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г. Государственная публичная историческая библиотека России
Такого рода умственной работой Татьяниной головы, а не чем-либо другим, я объясняю и себе, и вам, что в это время Татьяна глубоко вздохнула и со смирением, поистине делающим честь ее христианским чувствам, проговорила:
– Ах, и грешники же все мы великие, братцы мои – беда! Как только еще Господь Бог-батюшка нашим сквернам терпит!
Такая греховность положения, а равно как и неуспешность рецепта с гвоздя произвели между присутствующими тяжелую и продолжительную паузу, которая была прервана Марфой Петровной, никогда очень скоро не покидавшей своей любимой темы о запойной жизни и о многоразличных средствах, предлагаемых доброжелательным людом в исцеление от нее.
– Были у нас, голубушка Татьяна, лекаря-то не хуже ваших, да так и отошли ни с чем. Один такой приходил старичок от Крымского моста, и на человека-то на настоящего не похож: впереди его кот сибирский шел, большущий эдакий котище, с усами такими ли страшенными. Уж бог знает, кто из добрых людей лекарю этому сказал про наше несчастье, только он к нам и приди, – черный такой весь, мозглявый, глаза, как свечки, светятся и говорит тихим таким шепотом. Пришел и зашептал мне: «Слышал, говорит, про вас. Ежели хочешь, чтоб я вам помог, отпирай казну. Мне, говорит, казны много надо, потому помощь не от меня…»
А Онисим Григорьич страсть как не любит этих лекарей. Я потому и сказала старику, «Можешь ли ты вылечить его не видя?» Улыбнулся он в это время, красные десны оскалимши, и зашептал мне со смехом: «Ах ты, говорит, баба-дура, а еще купчиха! Рази не видишь, что я не глядя могу все знать, потому на что же я вот эту штуку при себе завсегда содержу?» Тут он показал мне на кота, а он у ног его лежит, и так-то ластится, так-то мурлычет громко, – ужас меня тогда немалый взял!..
Принялся лекарь после таких своих слов выделывать с котом разные фокусы. «Говори, Василий! – шепчет ему, – знаешь ли ты ее хозяина?» Кот сейчас раз к нему на плечо, приложил морду к уху и замурлыкал. Матушка, говорю, Царица Небесная! Что же это такое у меня в доме творится? – «Ничего, говорит, не смущайся. Отслужи после нас молебен с водосвятием…» Тут сейчас он положил кота наземь и сказал мне: «У твоего хозяина, шепчет, волосы белые, брада рыжая, окладистая, рот открытый, а в желудке у него сидит червь, напущен по злобе черным человеком, – знаешь, говорит, какой на каждом шагу скверные слова из себя изрыгает?..»
Тут я и вспомнила кухмистера Петра Петрова: он черный такой, аки уголь, и злобу на нас еще с тех пор имеет, как мы его в крестные отцы к нашей Аграфене не взяли, потому он из лакеев и все это, идол, при гостях ли, так ли, все это он никак удержаться не может, чтоб энтих поганых слов не говорить.
– Ну что, – спрашивает лекарь, после раздумья моего, – вспомнила? Домекнулась, про кого я тебе слово сказал?
– Домекнулась, – говорю.
– Ну, так поняла теперь, что мы с Васильем всякую для вас помощь оказать можем?
– Поняла.
– Ну, так беги же проворнее в сундук за казной.
Побежала я это за казной, как он приказывал, и выношу ему из спальни четвертную, – новенькая такая бумажка, так и шуршит в руке. Поглядел он сперва на бумажку, потом на меня, улыбаючись, взглянул исподлобья и говорит коту: «Посмотри-ка, Василий, чем нас за наши благодеяния благодарят». Говорит так-то, а сам бумажкой-то коту ноздри щекочет. Батюшки мои! Как этот котище окрысился в это время! Сроду я такой злющей гадины не привидывала. Как зафыркает, как зафыркает, шерсть на нем как на свинье встала, а сам так-то ли сурьезно головой на меня рыжей повел…
– Что же, – спрашиваю я, – мало, что ли?
– Да кажись, что шубы-то на такие деньги-то не сошьешь!.. – Это мне лекарь-то в ответ сказал, а сам все смеется, так что смех этот меня за один раз и в озноб, и в жар бросил.
Побежала я опять за казной, – еще принесла четвертную и ему подала. Только тут он ужасти как разгневался: обе бумажки на пол он шваркнул и за шапку, а сам все шепчет: «Им на целую жисть благодеяние делаешь, а они тебе все равно как нищему…»
Подняла я с пола обе бумажки и сейчас же летом достала сто серебра и вручила ему. Повеселел и сказал: «Вижу, говорит, твое усердие». Подал он мне тут синенький пузыречек с какой-то желтой водой и стал совет давать: «Каждую пятницу, говорит, давай ты мужу по семи рюмок очищенной, в каждую рюмку наливай по семи капель этой воды и делай это семь пятниц. Ежели еще не очень туда запущен ему червь – в желудок-то, так, может, он к вечеру первой пятницы выйдет. Это, говорит, бывает часто. А ежели он крепко засел там, так последняя пятница окажет себя беспременно». Простился он тут со мной и ушел, – кот за ним побежал. Я еще ему говядины такой-то большой кусок дала.
Стала я мужа этим самым снадобьем потчевать. Тошнит его, но малость. Думаю: обманул старый шут. Только, гляжу, на четвертую пятницу не вытерпел Онисим Григорьич, закричал: «Бежите, говорит, за батюшкой-попом, – душа у меня с телом зачинает расставаться». Прибежала я к нему, а червь-то и ползет по полу, так-то скоро ползет, зеленый весь, с усами, – полз, полз так-то, да в щель под пол и юркнул. Слава богу, думаю, вышло. И прошло после этого случая, так надо полагать, месяца два, – все крепился старик, не пил. Благодарила я тут бога много, что сто рублей даром не пропали. Только что же? Сижу я так-то однажды под окошком и вижу видимо-невидимо подъехало к нашему крыльцу колясок, линеек, дрожек, а впереди с каким-то офицером в карете сам приехал. И ввалила вся эта компания в покои, у каждого в руках кулек с винами, и загайгакала. Это он, милая ты моя Татьянушка, с одной свадьбы купеческой, на какую стол подрядился готовить, всех до одного человека – приказных, молодых офицеров, – они ведь любят на даровщинку-то попьянствовать – к себе притащил. И пошла тут такая пыль, такое горлодерство – беда. Я и говорю ему:
– Опомнись, ведь у тебя дочери невесты. Гони ты их вон. – Молчит, голову свесил.
Я к приказным. Говорю им: так и так, господа! Как вам будет угодно, а вы ступайте отсюда, не соблазняйте старика, потому я его вылечила. Большие, сказываю им, деньги заплатила, чтоб из него червя запойного выгнали, и сама я своими глазами видела, как он из него вышел и под пол уполз. Дайте же, пожалуйста, – все пристаю к ним, – спокой старику.
Смеются приказные, глядя на мои слезы.
– Тут мы, – говорят, – хозяйка, ни в чем не причинны, потому рази другой червь в нем завесться не мог? А вино, говорят, мы свое пьем. Значит, ты бы лучше нам дочерей показала, потому, слышали мы, у вас денег много, так может и женился бы кто…
Топанье и раздевание в передней прервали в этом месте разговорившуюся Марфу Петровну. В гостиную вошел сам, веселый такой, радостный.
– Что? – спросил он, шутливо относясь к Марфе Петровне, – небось, все про мужа судачила? Эка старая! До сих пор не отвыкла еще мужа всякому человеку расхваливать…
– Ба! Сестрица милая! – вдруг воскликнул Столешников, приметив наконец гостью. – Какими судьбами ты к нам залетела? Ну-ка, давай, милая, поцелуемся.
– Братец-голубчик! – ответила на это братнино приветствие стоном и слезами Татьяна. – А ведь мы опять погорели!..
– Опять?.. – переспросил с ласковой и разгадавшей всю суть дела улыбкой Столешников. – Ну, авось, Бог милостив! Давай-ка, старуха, обедать.
III
– Ну, что, сестра? – спрашивал Онисим Григорьич Татьяну в то время, когда Марфа Петровна, вообще с кухаркой, накрывала на стол, – как там у нас в деревне-то? Все ли она тем же концом с краю стоит – а? Али иным повернулась? Ха-ха-ха-ха! – басовито и покровительственно посмеивался разбогатевший брат над бедной, оставшейся, по фамильному выражению, в крестьянстве сестрой.
– Да теперича, братец родимый, ежели от вашей милости никакого нам бедным блага не выйдет, так она, может, до коих пор без конца совсем простоит – деревня-то, потому вашему здоровью известно небось, что двор родительский с краю стоял, – отшучивалась в свою очередь Татьяна, не давая в то же время брату забыть про ее горькую нужду.
– Ну-ну, Господь с тобой! На вот возьми, пристраивай с мужем конец к деревне! – добродушно отозвался Онисим Григорьич, причем он вынул из пузатого бумажника крупную ассигнацию и подал Татьяне – Как пойдешь домой, еще на гостинцы ребятишкам дам, а эту зашей в рубаху, чтобы, оборони бог, не выронить как-нибудь.
Видя такую добродетель, ярославка с громким воплем и обильными слезами бросилась в ноги сначала братцу, потом сестрице, а наконец, зауряд{275}275
Зауряд – здесь: заодно.
[Закрыть], и милым племяннушкам.
– Кормилицы вы наши, благодетели! – вопила она, тщетно желая отдавить кому-нибудь из благодетелей хоть одну ножку своим низкопоклонным лбом. Онисим Григорьич ни под каким видом не допускал ее осуществить это намерение.
– Сестра! – говорил он, поднимая ее с пола, – не греши: не человекам подобает земное поклонение, а Господу одному.
Подали обед, вследствие чего жалобная сцена прекратилась.
– А что, старушка Божья, – отнесся Онисим Григорьич к жене, сидя уже за столом, – ты бы нам, для ради свиданья с сестрой, водочки поставила безделицу, винца бы какого тоже малость прихватила, потому и самой на радостях не мешает.
– Ох, Онисим Григорьич! – простонала Марфа Петровна, – боюсь я, как бы ты не того…
– Оставь пустое разговаривать-то! – с прежним благодушием сказал старик. – Что мне с одной али с двух рюмок поделается? Бог милостив… Вот, сестрица, не покидает меня несчастье мое, – слышала небось какое? Знаешь? Что ты будешь делать! И к лекарям разным ходил, и к батюшке Врачу Небесному за его великой помощью прибегал, – не снимает Господь креста… Заслужили, должно быть, ну и терпи…
При последних словах старик совсем изменил свой шутливый тон. Говоря их, он как будто сильно боялся и стыдился чего-то, вследствие чего голова его печально склонилась над тарелкой, а правая рука, вооруженная вилкой, бессознательно чертила что-то по белой скатерти, вероятно, о великости того несчастья, про которое сейчас говорили.
– Крепиться надоть, братец милый! – посоветовала Татьяна с тяжким вздохом. – К Господу Богу взывать.
– Крепимся, насколько наших слабых сил хватает… – с еще большей печалью в голосе отозвался брат. – Семье обида, своему здоровью расстройка, делам убыток, а перед Господом грех!.. И замолить того греха – не замолишь, потому в пьянстве все…
– Что и говорить, братенюшка, про этот грех? Известно, нет его больше.
– Н-ну, будет про это! – закончил Онисим Григорьевич, как бы убедившись, что словами делу не поможешь. – Выпей-ка вот, а потом я и за тобой.
Какая-то приятная теплота бросилась в стариковскую голову после первой рюмки. Горячая кровь ярким румянцем показалась на морщинистом лице и мягкими, ласкающими волнами заходила по утомленному телу. Вспомнилось почему-то в это время Онисиму Григорьевичу его давнишнее деревенское житье-бытье: работая над супом, видит поседевший теперь старик, как он маленьким мальчишкой, отрепанным, босым и голодным бежит с салазками по только что выпавшему, ярко-белому снегу, – резкий осенний ветер жжет ему лицо, по которому текут какие-то горячие и соленые слезы, и лохматит и без того шершавые волосенки.
– Слава тебе, Боже наш! – молится про себя Онисим Григорьич. – Не так у меня дети воспитывались: нужи такой, как я, они, по твоим великим милостям, не узнали, да и не узнают, пожалуй… – Вместе с этой безмолвной думой хозяйская рука-владыка дотянулась до графинчика с настойкой и угостила довольную своим положением хозяйскую думу второй рюмкой.
– Выпей-ка и ты, сестра, по другой, – лучше есть будешь. Марфа! ты что же не потчуешь гостью-то и сама не пьешь? Скупа она у меня больно, сестра! Такая скопидомка – беда! – снова зашутил старик.
– То-то, милый братец, – посмеивалась Татьяна, – видючи, как она у тебя на добро жадна, я уже и ложки на стол не покладываю. Вишь, мол, какая скулящая!..

Торговец на ларе. Гравюра К.-Г.-Г. Гейслера из книги М. И. Пыляева «Старая Москва Государственная публичная историческая библиотека России
Засмеялись обе женщины – и выпили. Онисим Григорьич продолжил шутку тем, что выпил третью под тем предлогом, что ему, хота он и старик, а от баб ни под каким видом отставать не приходится.
– Да и веселее как-то с бабами-то завсегда… – добавил он и принялся за жаркое. Тут опять взметнулась в нем тяжелая дума о прошлом: вспомнилось ему десять лет в мастерстве, – десять длинных, как сто веков, лет, во время которых несколько раз от побоев и старших, и сверстников вспухала и снова опадала преломляемая и для лучшего понятия и так просто, одной шутки ради, голова, – неоднократно менялось лицо, принимавшее на себя многоразличные узоры многообразных товарищеских трепок и хозяйских лупцовок, и даже самая шкура, как у рака весной, линяла в одну неделю, какую-нибудь несчастливую, раза по два, а иной раз и по три.
– Господи, твоя воля! Вот каторга-то была! – решительно можно сказать, что без малейшего удовольствия отдавался Онисим Григорьич этому воспоминанию, потому что на лицо его в эту минуту снова легли какие-то мрачные тени. – Дивлюсь, – продолжал думать старик, – как это только живот свой я сберечь ухитрился?
Новая рюмка, выпитая хозяином, заставила обедающих боязливо переглянуться друг с другом. Марфа Петровна протянула было трепещущие руки к графину, чтоб убрать его со стола.
– Погоди, Марфушка! – с некоторой досадой воспротивился сам этому намерению. – Вот допьем, тогда уберешь; видишь, уж немного осталось.
Затем встало в уме хлопотливое, купецкое житье, – грешное, обманное житье, с вечными заботами, с напрасной божбой…
«Ох, детки, детки! – покачивая головой, мысленно восклицал Онисим Григорьич. – Много для вас я на свою душу грехов взял!..»
Графин был в это время окончательно порешен, и последние блюда уже не существовали для хозяина. Досиживая обед, он уже ни к чему не прикасался, ни с кем не говорил, а только помахивал головой, изредка улыбался чему-то и шептал что-то, известное и понятное ему одному.
– Началось! – шепнула Марфа Петровна Татьяне. – На грех тебя Бог к нам принес…
И действительно, в это время можно было сказать, что началась самая суть той с виду тихой жизни, какую я показывал вам вначале, потому что лишь только кончился обед, как Онисим Григорьич, ограничивавшийся доселе одним безмолвным думаньем, заговорил, и заговорил громко и повелительно.
– Марфа! вот тебе три серебром, пошли взять рому ямайского, да самовар вели становить. Да смотри, чтобы ром не какой-нибудь был, – за эту цену можно хорошего достать. Плохим головы вам вымою… За вас хлопочи, а вы – нет, чтоб удовольствие какое, доставить старшому… Эх вы!..
Домашние, как бы заслышав приближение бури, присмирели: разговоры, за минуту перед тем оживлявшие молчаливую гостиную, замерли; светлые, или по крайней мере старавшиеся быть светлыми от тятенькиных шуток, лица омрачились предчувствием какой-то беды. Все смолкло, кроме светлого самовара, неистово бурлившего на столе; густой пар, валивший к потолку из его широкого жестяного горла, совсем скрыл своими сизыми тучами зелено-розовые колера, которыми в таком изобилии покрыты были амуры, лиры и рога изобилия. Все в комнате посерело от клубов самоварного пара и печально нахмурилось, а по стеклам так даже потекли зигзагами крупные слезы.
– Ах, и народ же у нас в Москве подлец стал, Татьянушка! – каким-то стонающим басом говорил сестре Онисим Григорьич, доливая трехрублевым ромом полстакана чаю. – Теперича ты вот глядишь на меня и небось думаешь: раз богател брат, счастлив стал. Как же! Держи карман шире!.. Ежели бы т. е. я от крестьянской работы не отучился, сейчас бы в деревню ушел, все бы это заведение дурацкое вот им бросил. – При этом старик грозно взглянул на жену и на дочерей и, как бы уже окончательно выходя из своего дома на трудовую деревенскую жизнь, сказал им. – Нате вот, разживайтесь отцовским добром с легкой руки. Отец-то его, может, потом да кровью приобретал, а вам даром достается. Разживайтесь!
Очень смеялся Онисим Григорьич, когда говорил эти слова, кланялся, вставши со стула, как барышня молодая, с присестом, и ручкой делал.
– Разживайтесь, разживайтесь! Я не пожалею, я себе, с помощью Создателя и добрых людей, еще наживу, – д-да! Вот вы-то как без отцовской головы пробавитесь, увидим, а не увидим, так услышим. Так-то!
– Что это, братец, заговорил ты все эдакое неподобное?! – осмелилась спросить Татьяна. – Рази они могут без родителя своего жить?
– Ты еще их не знаешь, Татьяна! Тебе их скоро раскусить никак невозможно! – с громким и злым смехом отзывался Онисим Григорьич. – Теперича вот эта самая старуха: ты не гляди, что она такая смирная. В ней и не сочтешь, сколько бесов насажено. Видишь, видишь, как она на меня бельмы-то выпучила, ровно съесть хочет. Она всю жизнь добивалась заесть меня, – да нет! не на такого напала!.. А дочери: они денно и нощно о моей смерти бога молят, потому как только я протяну ноги, сейчас они марш за офицеров замуж… И пойдут тогда эти офицеры добро мое к девкам возить, да в карты проигрывать.

Москва. Вид Смоленского рынка. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция
Нет, погоди, шалишь! Молоды еще, в Саксонии не бывали! Я вам дам офицеров! Н-ну, делайте мне пунш, шельмы! Сделали? Теперь вон! Чтобы вашего ду-у-ху не пахло здесь, – я один буду.
– Ну, сестрица! – шептала Марфа Петровна Татьяне, – заприметила я: коли вот он поначалу раскуражится так-то, так весь запой будет куражный, с буйством и дракой. Берегись теперь, а то как раз затрещиной пожалует. Нам не впервой, а ты смотри не обидься.
Но долголетняя опытность Марфы Петровны в деле распознавания тех примет, по которым она определяла заранее характер запоя своего мужа, ныне обманула ее. Вместе с наступлением вечера мрачное настроение духа Онисима Григорьича изменилось на тихое. Беседуя впотьмах с клокочущим самоваром и ромовой бутылкой, хозяин вдруг принялся скорбеть и тужить о том, что он так безвинно обидел жену и дочерей.
– Все это ты делаешь, подлая! – ругал он бутылку, колотя пальцем по ее преступному горлышку. – Все ты!.. Марфуша! поди убери ее, проклятую, от меня, чтоб она меня не соблазняла. Дети! идите сюда. Видите, вот сестра моя, а ваша тетка пришла к нам. Так подобает нам теперича сидеть всем вместе и с весельем разговаривать.
Принялся после этого старик горько плакать, просить у всех прощения; обещал, что он уже теперь ничего хмельного в рот не возьмет, и в то же время убедительно просил жену и дочерей, чтоб они налили ему последнюю из своих рук. Выпивши из рук жены, он вынимал из бумажника деньги, дарил их Марфе Петровне на гостинцы и с лаской и со слезами говорил:
– Дура, возьми! Ты думаешь, я для тебя что-нибудь пожалею, что ли?
То же он выкидывал с дочерьми, Татьяной и даже с кухаркой. Дворник, кучер и некоторый белоголовый и растрепанный парень, обучавшийся у Столешникова официантскому делу, – все до одного человека были призываемы им из кухни в гостиную, все до одного из уст самого хозяина выслушали убедительные просьбы простить ему, ежели он их чем обидел.
– Убей меня Бог на сем месте! – божился хозяин, кланяясь в ноги своим подручным, – ежели я теперича насчет этого вина… Ни-ни!
– Мы, ваше степенство, оченно этому рады! – отвечали подручные валяющемуся в их ногах хозяину – Мы, можно сказать, об этом денно и нощно Господа Бога молим.
– Нет, ты мне скажи одно! – уже не шумел, а тихо так, как бы молитвенно, говорил хозяйский голос. – Нет, ты мне одно скажи, Лукаша: прощаешь ты меня али нет?
– Прошшаю! – отвечал великодушно Лукаша, валясь в свою очередь в хозяйские ноги.
– Ну, ежели прощаешь, так получи на гостинцы!.. Т. е. ты, я знаю, пить любишь… Пей! Теперича ничего…
– Много вашей милости благодарны. А что ежели насчет питья, так это напрасно… – отрезонивал никогда не сознающийся в своей лжи русский человек.
Темная ночь пришла, и кухонные субъекты ретировались восвояси. На стенных часах, в краснодеревянном футляре, пробило одиннадцать… Подали ужин.
– Ну, милые вы мои, – сказал Онисим Григорьич, как бы совсем отрезвившись. – Баста! Простите по-христиански, что я пошутил с вами немного. Ведь, ей же ей, я не пьян. Я только это вас пробовал: думал, что вы все меня бить приметесь.
Так наконец промахнувшийся перед гостьей Онисим Григорьич вздумал маскировать свой промах, не желая показать сестре, что он когда-нибудь серьезно запивает.
– Ах и шутник же вы, братец! – воскликнула Татьяна, всплескивая руками, и затем она, обращаясь к Марфе Петровне, сказала: А я думала, что он взаправду.
– Вот то-то и есть, что городской теленок умнее деревенского мужика, – сказал Онисим Григорьич, стараясь из своего посинелого, подергивавшегося лица сделать лицо трезвое, хорошее, какое бы не конфузило его пред сестрой, оставшейся в крестьянстве.
Таким образом московско-купецкие приличия были соблюдены, и сестра-крестьянка, волей-неволей, подумала, что это они так только, что такие шутки, по великому их богачеству, кажинный день у них в доме бывают.
– Н-ну, и кончено! – с видом непоколебимой решимости воскликнул Онисим Григорьич, поднимаясь из ужина и крестясь на блиставшие золотом, серебром и разноцветными каменьями иконы. – Благодарю тя, Господи, яко насытил мя еси земных твоих благ… – молился он, икая, как следует, с закрытием правой ладонью грешных уст – Ничего, ребята, не робейте, – к утру, как следствует, будем в лучшем виде. Вся эта фанаберия, как сон, пройдет…
– Ну, и слава богу! – усердствовала Татьяна, крестясь.
– Так-то лучше! – подтвердила Марфа Петровна. – Спаси тебя Бог и помилуй.
– Тол-ль-лько ты, Марфуша, как теперича я тебе по душе сказываю, – снова заговорил Онисим Григорьич с добродушнейшей улыбкой, – последнюю мне налей, рот пополоскать, потому я теперича в тихости и скромности, как перед Богом!
– А мы было уже спать собрались, – отвечала жена, покорно наливая требуемую последнюю рюмку. – Пей, Онисим Григорьич, да будет уж, пора и тебе на спокой. Ей-богу! что толку-то? – самым убедительным и ласковым образом упрашивала Марфа Петровна, имея в виду расположить супруга к мирному и безбуйственному отшествию в постелю.
– Да не буду же больше, право, не буду! – наставительно обещался хозяин. – Вот назло этому мерзавцу не буду больше! – прибавил он сердито, указывая на стеклянный шкаф, в который Марфа Петровна предусмотрительно запрятала и водку, и бутылку с непоконченным ромом.
Дочери, в свою очередь, подходя к отцу и целуя у него ручки, говорят:
– Тятенька! мы тоже отходим ко сну-с!
– Отходите, отходите, – прощайте.
Мать в это время принимается из-за плечей мужа многозначительно моргать дочерям, и они, как нельзя боле знакомые с этим морганием, усаживаются на полу, чтобы как можно лучше изловчиться стащить сапоги.
– Только мы, тятенька, перед сном разуем вас, – подделываются девушки под отцовскую милость. – Позвольте нам, тятенька, сапожки с вас снять. Мы потихоньку, чтоб у вас головка не заболела, раскачамшись.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































