Текст книги "Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы"
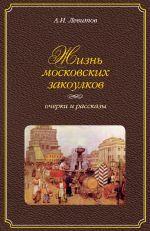
Автор книги: Александр Левитов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
III
Все ближние, други и искренние Абрама Сидоровича Переметчикова, московского первой гильдии купца и потомственного почетного гражданина, созванные к нему на молебствие и дружний совет подкучером Дмитрием, зная нрав своего благоприятеля, сейчас же, как только их пролетки останавливались пред зеркальным подъездом, принимали на свои лица выражение великого сокрушения и даже как бы какого убожества, и тихо принимались шагать по широкой парадной лестнице, устланной мягким ковром и убранной роскошными цветами. Шли они, вздыхая и благоговейно крестясь, а с ними вместе поднимались в хозяйскую резиденцию, в беса изогнутые и в пух и прах разлакированные лестничные перила. С игривостью, совершенно презирающей хозяйское сокрушение, вели они благочестивого посетителя к широким плошадкам с мраморными статуями, со светлыми зеркалами, весело отражавшими в себе изящную красоту этих статуй. Широкий барин, у которого Переметчиков некогда благоприобрел этот дом, щедрой рукой пустил по лестничным стенам мифологические медальоны с различными веселейшими пейзажиками, от которых с ненавистью отплевывались постные купецкие лица, – клали на себя широкие крестные знамения и тихо шептали:
– Боже! изжени ты лукавство это женское, препаскудное! И што только такое этот Абрам Сидоров делает? В чью это он голову бьет, мерзости такие в своем честном доме оставляючи? Сейчас бы это, ежели на мои руки, все бы я это писание прочь. Позвал бы красильщика и сказал: жарь, мол, парень! Действуй, мол, помелом-то!..
Но, поднявши кверху прекрасные руки, строго смотрели на проходящего осла античные лица каменных женщин, – с медальонов въявь и вслух хохотали над ним веселые, танцующие группы древних лесных и полевых богов, хохотали и прыгали, – прыгали и, вздымая над увенчанными главами руки свои в красивые дуги, звонко кричали:
– Куда ты? куда ты, болван? Куда, сивая борода, по парадному прешь? Здесь жил le comte de Petrovo-Koudrjaschevsky. Вышлет он на тебя сейчас своих ливрейных, – выпорят они тебя на конюшне, а мы им поможем. Мы такие сцены в старину любливали…
Хохот и пляска! Неблагопристойность и нагота самая что ни на есть смердящие!
– О, черт бы вас побрал! – шепчет Лука Петрович и, совершенно уверенный, что вольные руки le comte de Petrovo-Koudrjaschevsky неразгибисто сложены теперь на ретивой груди, что непробудно спят под седыми, мохнатыми бровями палящие графские очи, – продолжает переть к благоприятелю по парадной и шептать:
– Все это, ешшо скажу, сичас умереть на сем месте, я с одного бы маху похерил{288}288
…похерил… – уничтожил.
[Закрыть]. Вишь, вишь: бес какой-то картинку какую подлющую намалевал: в трубы трубят, в бубны трепеш-шут, опять же винище это из эких ли здоровенных стаканов жрут!.. Тьфу!.. А бабы? Эки бабы были подлые в старину – а? Эки бабы! Срамниц таких по нашим местам теперича ни за што не найдешь…
Но, что игривая медяница{289}289
Медяница – безногая змеевидная ящерица.
[Закрыть] блестит своей серебристой кожей, пробираясь под палящими солнечными лучами в густой зеленой траве, – игриво и даже как бы обидно насмешливо сверкает вверх изящная графская лестница. Не отставая от нее ни в беге, ни в насмешках, спешат с ней вместе и фарфоровые цветные банки, и скачущие в медальонах группы. А дальше: по следам молнийного блеска извилистых, лакированных перил с торжественной задумчивостью входили статуи. При всем старании, они весьма плохо скрывали свои умные, почти живые улыбки, которые время от времени летали по их каменным устам, когда смрадная пасть Луки Петрова, лаявшая на вечную красоту, разносила хулящий шепот по ярко освещенным сеням, – улыбались они, говорю, и шли с уверенностью почетных гостей, и когда вокруг них вертелись, смеялись и веселились над вонючим лисьим тулупом купца цветы, боги и освещавшие их огни, – они старались сдержать общий смех и шептали:
– Да тише вы, тише, пожалуйста!
Обращались тогда малолетние цветочные головки к своим менторам и, сморщившись точно таким же образом, как дитя, когда негодует на неправду злых взрослых, вскрикивали:
– Да как он может это говорить? Да и что этот Лука Петров говорит? Говорит: я бы их всех, с одного маху, похерил. И зачем он на сем месте умирать хочет, когда у нас тут беспрестанная жизнь и веселье, говор и смех…
– Да тише! – повторяли статуи. – Он ничего не может сделать, он чучело и теперь, – вы не смотрите, что он живой, – поэтому он ни вас похерить, ни сам умереть на сем месте не может…
А на самой верхней площадке остановился между тем могучий геркулес и, повертывая коренастым дубом, заговорил оттуда статуям:
– Ну что вы говорите: он не может умереть на сем месте? Дуну на него – и кончено! Но я, убивавший гидр и львов, не хочу марать рук об гадину.
– Я – гадина? Я г-ггад-дина р-рази? А ты х-хто такой? – вдруг раздается по сеням, каковой голос даже слышит сильно подвыпивший швейцар из отставных вахмистров, покойно дремлющий внизу.

Пекарня в Москве. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция
И молившей толпой окружили героя старинные богини, – упали они пред ним на колени, ярким светом небесных звезд горевшие очи свои одним общим даром все они обратили к нему и замолились со злобным, беспощадным плачем:
– Убей его, убей! Он сказал сейчас: таких срамниц баб, какими мы будто бы были, по ихним местам и не найдешь теперича! Разве мы не знаем, какие бабы-то у них?..
– А бабы у них известно какие… – шепнул из-за куста козлоногий сатир. – Бабы у них главным образом насчет Суконных бань{290}290
Суконные бани – общедоступные бани у Каменного моста в Москве.
[Закрыть]…
– К-ка-а-к? Суконных бань? – неистово взревел голос, который слышен был выпившему швейцару. – Ты р-р-ра-ази мою жену в Суконных банях з-за-астал?..
– Застал! – утвердительно ответил сатир, скрываясь в куст, не забывши, однако же, подмигнуть своими косыми глазами и брыкнуть косолапыми ногами.
– Вр-р-решь, под-длец! Я на тебя в часть завтра. Пять золотых и голову сахару Иван Фомичу снесу.
– Ну и неси! – послышалось насмешливое слово из тайной чащи девственного леса Древней Эллады.
– И отнесу! А теперь вот тебе, подлец! Тьфу! Прямо вот в рожу тебе, козел ты эдакой, чер-р-рт, получай…
– Ах, Лука Петрович! Зачем же это вы завсегда, как придете к нам, на картинки плюетесь? – сказал Луке Петровичу внезапно соскочивший сверху лакей. – Да еще и пальчиком изволите размазывать. Это нехорошо-с, – хозяин за это взыскивают.
– Молчи, чертов сын! Дома хозяин?
– Дома-с, – пожалуйте-с.
– Сымай шубу, а разговоров со мной не разговаривать. Терпеть не люблю!
– Вот черт-то! – подивился лакей втихомолку, когда Лука Петрович ввалился в залу. – Ведь вот и богатый купец, а не пьяным его ни разу не видал. Приказчик у них живет, седой весь, как леший, а и тот говорит, что как он, после смерти родителя, запил на пятнадцатом году, так ни разу и не проснулся. Вот какой черт-народ по белому свету расхаживает. Даже чудно ей-богу!..
IV
Наконец все, кого ждал Переметчиков, собрались в его великолепном графском доме. Честного народа сошлось много, и беседа, следовательно, завязалась не кое-какая, а все, как говорится, и по Писанию, и из-под политики.
Крестились все сначала страсть как, когда всенощное бдение шло. Протяжные, умиленные вздохи молившихся время от времени перебивал тихенький шепот про нового дьякона, голос которого, так сказать, передвигал с места на место колонны зала и спугивал засевшую на углах потолка паутину. Тихо спалзывали с верха ее серодымчатые, ленивые волны и, встретивши на дороге здоровое и жаркое людское дыхание, они совсем неподвижно останавливались в воздухе, как бы раздумывая, на чью бы это им лучше голову сесть, чьи волосы, опутанные их досаждающим венцом, с большим негодованием встряхнутся на узком лбу и потом, упавши на широкий нос и толстые губы, заставят эти губы с большим остервенением вскрикнуть:
– О, штоб тебе! Вот искушение, сейчас умереть! Чуть было не ругнулся я.
– Каков голосок? – тихо шептал кто-то за колонной. – Органистый голосок!
– Да-с, ничего! – отвечал другой шепот. – Приобрели украшение. Крестовоздвиженские прихожане к себе уж переманивали, да нет, не пошел. Я, говорит, и здесь взыскан…
– Гм! Это хорошо! Значит, хороший он человек! Без фанаберии, значит, человек. Ну, да будет: не перебивай ты меня разговорами, дай помолиться-то…
Наконец тройное заключительное: Господи помилуй раскатисто заключило службу. Вместе с легкокрылыми ангелами, неизменно присутствующими на молитвах, улетел в небо звонкий дискант, замерли тенора и под конечное гудение грозной октавы, долго еще плававшей по зале вместе с благовонными волнами ладана, суетливо тронулся доселе смирно стоявший люд, заговорил, зашаркал…
Батюшка, со сверкающим крестом в руках, поздравлял хозяина с благодатью. Хозяин кланялся и на тихую речь батюшки громким и крайне безнадежным голосом кричал:
– Ах, батюшка! Надежда моя одна на всевидящее око и на вас! Иов я в жизни моей, как есть Иов{291}291
Иов я в жизни моей, как есть Иов. – Святой Иов Многострадальный почитается Русской православной церковью как пример смирения и праведности.
[Закрыть]. Превзыдоша главу мою… но я не ропщу, я знаю, я умею, я всегда готов… Живу только молитвой, беседой, добродетелью… О Боже!.. Милости прошу садиться.
В углу хозяйский сын и какой-то седой купец, в длинном сюртуке, в дутых козловых сапогах, оба страшные охотники до церковного пения, дружески разговаривали с регентом, вокруг которого толпились серьезные лица басов, красавцы тенора и хорошенькие альты и дисканты.
– Вот как я вам скажу, господа, – говорил регент. – Ежели вы мне сейчас сторублевую в руки, так наплюйте мне в лицо, ежели я в следующее воскресенье не представлю вам этого Ва-вилу Петрова. Я уже с ним говорил. «Будьте спокойны, говорит, – я, говорит, с моим превеликим удовольствием». Вот! господа, прямо скажу: уж разуважили бы вас тогда, потому баса такого и на заказ не сделаешь. В Туле он однажды Апостола читал: как раз около него предводительская дочь стояла – девица. «Вел, вел я, говорит, все, говорит, ровно веду: ни вниз, ни вверх, а сам думаю: постой, мол, погляжу я, какая ты на расправу; да как, говорит, полысну с маху, как, этта, гр-р-ромыхну, – барышня моя цоп на пол. Словно бы ее пулей прострелило! Три дня после, сказывают, летаргией одержима была! Ей-богу!»
– Три дни! Тсс! – прошептал купец, медленно помахивая седой, подстриженной в скобку, головой.
– Л-ллетаргией! Вон он как ее чесанул! – каким-то всхлипывающим голосом восторгался хозяйский сын, жмуря глаза и потирая руки.
– Где же тут против нас устоять крестовоздвиженским, когда мы эдакое сокровище к себе притянем! – продолжал регент. – Да еще он что говорил: «Я, говорит, г-н регент, когда в Туле был, так хоша у меня и был верха, но не такой, каким, говорит, теперича я снабжден». Ведь он из усманскнх мещан, так когда это он чувства свои примется выражать – потеха! «Гущины, сказывает, такой не имел, потому пил в те времена самую малость». Ну, и скажу вам, – при этом регент поцеловал кончики своих пальцев, – и приобрел же он в этой Москве гущину, потому для всякого интересно послушать, как это он, словно буря, голосом своим деревья ломает…
– Это точно, что в действительности не человеческому органу подобен, а как бы дубраве какой дремучей, – подтвердил регентовы слова некто мрачный, чье лицо сплошь все поросло густыми черными волосами.
– Неужто страшнее тебя с виду? – замирая, осведомился хозяйский сын.
– Страшней-с, может, в двадцать пять раз, – самоотверженно ответил некто.
– И неужели, голубчик, – в свою очередь переспросил седой купец, вдохновенно поднимая голову, – и н-неуж-жели, голуб-б-чик, ежели, к примеру, свесть тебя с Вавилой Петровым, для того т. е. чтобы потягаться, – неужели ты ему преферанс отдашь?
– Отдам-с! – лаконически ответил мрачный. – Мне с ним не совладать-с, как по голосу, так и по силе, ни за что не совладать-с. В Шустровом трактире{292}292
Шустров трактир – трактир на углу ул. Остоженки и 1-го Зачатьевского пер. В. А. Гиляровский писал о нем: «В первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак да еще пристройки на крыше были заняты голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом – гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик И. Е. Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный по его собственному плану, под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на две улицы. Внизу лавки, второй этаж под «дворянские» залы трактира с массой отдельных кабинетов, а третий, простонародный трактир, где главный зал с низеньким потолком был настолько велик, что в нем помещалось больше ста столов и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестрион, а вверху эстрада для песенников и гармонистов. Один гармонист заиграет, а сорок человек пляшут». (Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1979. С. 293).
[Закрыть] – на Пречистенке, изволите знать-с? – сразились это мы в бильярдной тянуться: схватимся за кий – раз! В двух, а то в трех местах в ту же секунду изломленье давал. Бревешко такое нам гладенькое принесли, потолще вот, пожалуй, моей руки будет, то вытерпело, одначе Вавил меня, как перо, махнул.
– Боже ты мой! – подивился старый купец, а хозяйский сын отнесся к регенту таким образом, по-прежнему замирая и всхлипывая:
– Вы, ради Создателя, не уходите подольше. Как тятенька засядут в горку, сейчас я к ним в кабинет. Только чтобы в надежде было, чтобы беспременно Вавила Петров у нас в хору был.
– Будьте благонадежны-с, – заверял регент с большим умилением. – Помня ваши и тятеньки вашего благодеяния, я теперь такие дела для Господней церкви обделываю, такие дела бедовые! Ну, да помолчу до поры до времени, там увидим, па-а-смотрим после.
– Ш-што, што такое? – с усилившимися судорогами пристали к дельцу ретивые души. – Ради бога скажите, что такое еще?
– Вам только одним говорю, так и быть! Смотрите же: никому ни гу-гу! От Сургучова дискантик-то этот, Сашка-то Милушкин, к нам переходит… – Проговоривши эти слова, регент отставил правую ногу и весело захохотал.
– Ш-што ты? – растягивали купцы, тоже заливаясь самым искренним смехом.
– Ей-богу! От Криволапина обоих альтов скупил, тенора…
– Б-ба-а-тюшки! Святители! Вот шельма-то! Вот он где езуит-то. Ах ты езуит-черт!
– А тут еще тенор из Питера от самого Шереметева подвернулся. Проездом ехал ей-богу! Услыхал я, – сейчас в гостиницу к нему. Выпили; и я его, можно сказать, с одного маху объехал.
– Объехал?

На Сухаревской площади. Фотография начала XX в. Частная коллекция
– Объехал. Ну, уж зато и стоит же он мне коку с соком. Хочу, господа, вспоможения просить, потому один, пожалуй, не выдержишь, лопнешь. Ей-богу! Сами вы видите, как я хлопочу для вас…
Между тем старшая хозяйская дочь, усевшись на диванчик, к сторонке, чтобы никто не мешал, вела в свою очередь не менее интересный разговор с выслужившимся из бурбонов майором Белокопытовым, которого сам Переметчиков, на своем языке, звал всегда воеводой.
– Майор! – шептала Саша, устремляя на него серьезные, черные глазки. – Вы клянетесь?
– Клянусь, – так же серьезно отвечал майор, бренча на гитаре:
Сс-своих с победой пр-роздравляю,
Сс-себя с отор-рванной рукой.
– Милый мой! – шептала Саша, и тут уж в глазах ее, вместо прежней серьезности, засветился какой-то другой огонь, гораздо лучше осветивший ее красивое, страстное личико.
– Моя богиня! – снежничал майор и, закрывшись гитарой, приложил свои вечно шевелившиеся и потому как бы живые усы к девственной щечке.
Зарделась девушка, как спелая вишня, после этого прикосновения, – заалела она от него, как молодая березка в жаркий летний полдень. Смотрела тогда стыдливая купеческая дочь во все свои широкие глаза на шумную залу, стараясь показать шумной зале, что ничего особенного с ней, с красной девицей, в эту секунду не было и ничего не видела; пристально вслушивалась она чутким девичьим ухом, не говорят ли чего про нее в той зале – и ничего не слышала… Сладкий угар какой-то в голове у нее волновался, а сердце так-то билось, так-то ли билось сильно!..
А младшая сестра, давно ревниво следившая за счастливой, гневно прошла в это время мимо нее и, сердито шумя дорогим шелковым платьем, шепнула:
– А? Ты у меня и этого отнимаешь? Ведь он в меня сначала влюбился… Вот ей-богу про все маменьке расскажу.
– Да, пожалуй, сказывай! – не сестре, а скорее самой себе ответила девушка, потому что жаркий язык ее не мог тогда говорить других речей, кроме как: милый мой! Счастье мое! Возьми ты поскорее красу мою девичью! Ведь вянет она здесь, ведь она здесь понапрасну, словно цвет в глухой степи, сохнет…
Но всех рельефнее была группа, сидевшая вместе с хозяином. Жирные выбритые затылки, окладистые бороды, пугающие своей суровой волосатостью, просторные поддевки и новомодные пиджаки – все это в то время, когда втихомолку разыгрывались описанные сейчас сценки заднего плана, – все это, говорю, уже успело разгореться в приятельской беседе, и вследствие этого горланило, как неудержная буря, когда она летит, сломя голову, сама не зная куда, и мнет на дороге все, что ей попадется, не разбирая дурного от хорошего.
– Дом мой стал домом печали и палата моя – палатой скорби… – визгливым тенором вскрикивал сам хозяин, тщедушный, маленький старичишка, с подслепыми глазками, постоянно точившими слезы.
– Будет, будет тебе, Абрам Сидорыч! Перестань: авось бог милостив.
– Афоня! – дружески подзывал к себе один пиджак расфранченного лакея, – поди-ка сюда: видишь ли, милый человек? Хозяин твой в унынии, – пищи, может, лишился; а ты за порядками как смотришь? Что это у вас наставлено все шенпанское да шенпанское? Это, братец, нехорошо. Я вон в Питере был, так там шенпанского этого у купцов и в рот не берут, потому, говорят, ныне про него всякая голь узнала, а подают венгерское. Я у себя уже давно завел такой порядок: как же это ты, братец, не знал до сих пор? Сичас чтобы было венгерское, а то я хозяина твоего – околеть на месте! – подлецом изругаю. Ты видишь ведь, он в унынии!
– Возрыкали на меня несчастья, как скимны{293}293
Скимны – молодые львы, о которых в Ветхом Завете сказано: «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе».
[Закрыть], но я не ропщу!.. – продолжал хозяин, не слушая приятельских утешений. – Яко главу кедра ливанскаго, сокрушил меня гром гнева Господнего! Д-да!
– Эдакой ведь человек начитанный! – удивлялись приятели. – И откуда он только такие слова подбирает?..
– Ты расскажи нам, – упрашивали другие, – как нам тебя понимать?
– Я расскажу, – в совершенном отчаянии соглашался хозяин, – но вам того не понять, потому кто поймет мои чувства? Но все-таки я вам расскажу, ибо вы ближние мои, друзи мои… Точ-чно, я давно запил, признаюсь, потому чувствовал, что идет он, приближается, яко тать в нощи! Я иду по стогнам града, я сижу в храмине своей, на колеснице ли еду, а в уши мне все шептания, все шептания: «Я взыщу тебя, друже! я искушу тебя, рабе!» И понимаете ли вы, насчет чего этот шепот был? – Все насчет раззоренья… Во-з-звел я тогда к небу очи мои, простер руки и говорю: даде и отъя. Твоя, говорю от твоих! Д-да! Так я и сказал, потому сами вы знаете, как я в горестях моих завсегда шел и по Писанию, и по добродетели…
– Что говорить! – перебило хозяйскую речь нестройное и недружное жужжание гостей. – Слава богу! Не в первый раз хлеб-соль друг у друга едим. – Верны слова ваши! – одобрил хозяин. – Только я все не робел, все молчал. Думаю, что будет дальше. Только, что ни день, то хуже, потому не дает спокоя, без отхода шепот этот мне в уши сквозит: «Пришел, говорит, твой час…» Твори, сказал я, волю свою, и заперся в горнице своей и вознедуговал… Пью вот уж, может, недели с три, не слажу никак с сердцем своим, потому слабо сердце-то, боится оно скорбного часа.
– Так! – согласились гости. – Известно, сердце – сосуд… скуделен…
– Теперича сны… Боже! покоя не знаю от них, вот уже который день. Полчища эти с ристанием, на тройках, с колокольцами, с бубенчиками, взъедут на двор мой (все ведь это я из окна въявь и вижу; и добро мое на те тройки наваливают и долой свозят. Пляшут, свистят, буйствуют и надо мной со двора гнусно смеются. Все смеется надо мной, весь обоз: и телеги, и лошади, и колокольцы…
– А это, полагать надо, не от статуев ли от этих, что у тебя по лестнице расстановлены? – боязливо и с большим сомнением предположил было кто-то, но это предположение было сразу перебито всем обществом, живо заинтересованным снами Переметчикова.
– Какие тут статуи? – энергично вступился один из председавших. – С тятенькой с нашим точь-в-точь такая же история не однажды случалась, да ведь у нас в доме ни одной их и в помине никогда не бывало.
– Нет-с, это не от статуев! – самоуверенно и громко сказал один седенький, поджарый старичок-чиновник из духовного звания. – Это я доподлинно могу доказать, что не от них! – прибавил он с твердым убеждением знатока, понимающего в самой тонкости всю суть дела, причем, посмеиваясь, плутовато выпятил вперед нижнюю губу и ждал продолжения рассказа, как бы заранее зная, что расскажут ему.
– Ну-с, что же далыне-с? – любопытно настаивал старичок, секретно похихикивая в огромный желтый фуляр{294}294
Фуляр – легкая шелковая ткань.
[Закрыть].
– Да что же дальше? – спрашивал хозяин, досадуя, что на горе его хихикают. – Рази тебе этого мало? Друг твой в несчастье, глава его аки былие…
– Мы это понимаем-с! А что же далыне-с? – упрямился старичок и хихикал уже вслух, не закрываясь фуляром.
Дело начинало уже принимать серьезный оборот. Гости ощущали в себе некоторое смущение, потому что справедливо полагали, что если старичок чиновник продолжит еще свои вопросы и смехи, то им придется разнимать здоровую драку; но старичок предупредил сие обстоятельство, как всегда сам он выражался, когда писал купцам различные прошения, справки, явки и т. п.
– Находят и налетают в комнату вашу, – начал старик пророчески, – сонмы чудищ разных, двухголовых, трехголовых и более. Так-с?
– Так! – подтвердил хозяин, удивляясь, почему это и как именно седой чиновник известился об этом.

Толпа у дешевой столовой. Фотография начала XX в. Частный архив
– И имеют те чудища – иные облик человеческий, а туловища зверины, а иные – туловища зверины, а облик человеческий. Хвостами и копытами снабжены и, прочие на себя несвойственные естества принимая, во ужас человека приводят, отнимают у него рассудок и память, а такожде порой ударяя в бубны и другие инструменты, порой же голосами буйствуя, в уши тому человеку некие словеса впущают, кои слышны ему, другим же не слышны. Так-с?
– Так! – все больше и больше удивлялся Переметчиков. – Да почему же ты узнал об этом?
Но не ответил старик на этот важный вопрос и продолжал:
– Помавают чудища крыльями и руками, подкивывают очами, языками дразнят, пальцы с железными когтями на носы свои наставляют и, беснуясь и прыгая туду и сюду, как бы плясавицы или козлы молодые, стонут гласами, трубам воинским подобными: дай, дай! Отдай нам душу свою… Так-с?
И гости, и хозяин – все в один голос пристали к старику, сделавшемуся необыкновенно важным во время своего повествования.
– Как же ты все это отгадал?
– Что же это знаменует такое?
– А ничего не знаменует: это она просит…
– Кто просит? Чего просит?
– А просит, Абрам Сидорыч, твоя собственная душа, чтобы ты ей спокой дал. Вот что! Встосковалась она по добрым делам, – жутко пришлось ей без них…. Тут небось всякий запросит, как они тебе гурьбами каждую минуту отъявляться почнут… Так тось!
– Что же мне делать теперь? – вскрикнул сильно перетрусивший Абрам Сидорович.
– Как что делать? – спросил старичок, снова принимаясь улыбаться с видом человека, показавшего еще не все фокусы.
– Да ты, бога ради, не смейся, – молил его Переметчиков. – Скажи поскорее, ежели знаешь.
– Знаю-с и скажу-с… Был тебе шепот, Абрам Сидорыч, что, дескать, я тебя взыщу, рабе! И понял ты этот шепот, что якобы тебе это к раззоренью. Что же ты теперича должон делать?
– Н-ну-с?
– Призри в дому своем брата некоего, странствующа или юродствующа!.. – торжественно договорил старик свой совет. – Не для прибытков твоих, т. е. не для ради какого-либо дела работного, а любви ради дружней. Так-то! Ты богат, – возьми же к себе самого что ни на есть несчастного и спокой его. Завтра же – знаешь небось? – крестный ход будет, дак ведь они туда – люди-то Божьи – со всей Москвы соберутся. Ищи – и обрящеши…
– Друже! – завопил Переметчиков, обнимая седого советника, – ничего для тебя не пожалею теперича. Афоня! шенпанского!..
Расфранченный лакей живо прибежал к хозяину и почтительно доложил ему следующее:
– Сейчас господин Коленкин изволили мне насчет венгерского приказать, потому как, бымши они в Питере, заприметили, что шенпанское из моды вышло…
– Вышло?
– Так точно-с…
– Коленкин! вышло, в Питере из моды шенпанское?
– В рот никто не берет, потому жрет его ныне всякая голь, – отвечал Коленкин.
– О!.. Ну, ин так! Подай венгерского, да прихвати картишки, – мы в трынку для скуки сыграем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































