Текст книги "Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы"
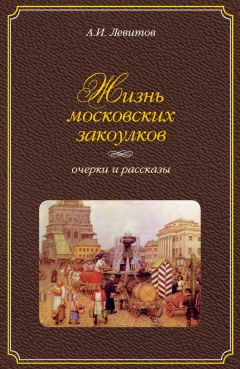
Автор книги: Александр Левитов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
IV
– Вот за это я тебя, куп, страсть как не люблю! – этим восклицанием вывел меня из моей задумчивости старик кум (назовем его давнишним именем, приобретенным им в полку, где его прозвали Обгорелый). – Так вот за это я тебя недолюбливаю, – повторил Обгорелый, – выпьешь ты, дружок, малость какую-нибудь и сейчас же задумаешься, лицо у тебя в синие пятна ударит и словно бы ты в такие времена разорвать кого на мелкие части надумываешь. Право! Это мне очень не по нраву. Выпей-ка, авось, может, поотпустит тебя злоба-то твоя.
– Что же это я все у тебя оглядел, увидал, что все на прежних местах стоит, – сказал я, – а про Катю не спрошу: где она у тебя?
– Помалчивай до поры до времени, – с какой-то плутоватой улыбкой ответил мне кум. – Мы тут такую-то крутую кашу завариваем и как есть, братец ты мой, к самой каше ты подоспел. Вот счастливый какой, а еще все судьбой своей недоволен!
А Катя, про которую я сейчас осведомлялся у солдата, была существом такого рода: во всех вообще девственных улицах существует обыкновение распускать про всякого человека, вновь основавшего свой притон в их тишине, молву, что будто у этого человека страсть сколько деньжищев и добрища всякого, вряд ли на три подводы уложишь. Конечно, этому, по-видимому, странному обыкновению удивляться много не следует, потому что страсть поврать про чужие деньжища и добрище свойственна всей гольтяпе{229}229
Гольтяпа – беднота, городская голь.
[Закрыть] вообще. По этому случаю, лишь только переехал солдат в свой подвал, как сейчас же про него вся улица как в трубу затрубила:
– Одних шинелей у него три, – по секрету перешептывались между собой соседские бабенки, – сапогов четыре пары, голенищев старых видимо-невидимо навалено. Кому копит – а? Скажи, пожалуйста, кому копит старый идол? – даже с некоторым негодованием вопрошала одна из бабенок. – Околеет ведь старый шут, – глаз некому будет закрыть.
– Ты про шинели-то да про голенищи не толкуй лучше!
– вступалась другая, – а ты вот что послушай: видели у него бумажек денежных вона сколько!.. – и при этом бабенка, припрыгнувши, чтобы быть порослее, взмахнула рукой над своей головой, желая означить тем, сколько именно у идола-солдатища было денежных бумажек. – Теперича, – продолжала она, – видели у него также целый сундук с образами и все-то они – батюшки мои – в серебряных ризах у него разодеты, все-то в серебряных…
На основании этих рассказов одна согрешившая девочка некоторой темной ночью взяла да и подкинула свою новорожденную дочку к богачу-солдату.
– Она у него счастлива будет! – рассуждала молодая мать.
– А то, поди-ка, из Воспитательного дома кому еще на руки попадется…
– Вона сокровище какое Господь мне, старому шуту, послал! – сказал кум, вывертывая ребенка из разных лохмотьев. – То тридцать лет с ружьем нянчился, теперь же вот с чужой дитей придется понянчиться, а там уж верно судьба за прялку меня усадит… Поворчал, поворчал Обгорелый таким образом, а все-таки послушной нянькой уселся наконец за детскую колыбель и своими песнями, петыми хотя и на волчиный манер, выбаюкал себе такую прелестную девочку, про которую многочисленные жильцы говорили, что об ней, все равно как об царевне какой, ни в сказке нельзя сказать, ни пером написать.
Я совершенно не знаю, каким образом и для чего именно на тощей и так гибельно воняющей почве подвалов родятся существа с головками улыбающимися и цветущими, как улыбаются и цветут на холсте прелестные создания великих художников, – не понимаю, для чего даются этим существам белокурые волосы, – кого в том подвале хотела природа удовлетворить, творя этот гибкий, как наша стройная отечественная сосна, стан; но знаю и сказываю о том обстоятельстве, что ундер-офицерский подкидыш, прозванный горем подвальным царевной, про которую нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать, – был, есть и будет царевной моего одинокого сердца…

Торговка маслом. С рисунка Ж. Барбье из книги М. И. Пыляева «Старая Москва» Государственная публичная историческая библиотека России
Повинуясь могучим стремлениям нашего времени, я долгое время шатался в кумов подвал, внося, насколько мог, в мерзость его запустения понятия об ином, внеподвальном свете. Я много раз примечал, как цветущая, белокурая головка улыбалась, радуясь такому свету; но улыбка эта, дававшая мне столько радостей, всегда же и глубоко мучила меня, ибо в то время, когда в ней зарождалась другая правда, ничуть не похожая на правду кумовой жилицы – бородастой свахи Акулины, сам подвал в этот момент, мне казалось, начинал покачиваться, словно бы жалея о чем, и, как-то сокрушительно улыбаясь, шептал мне:
– Ах, Иван Петрович! Голова ты этакая болезная! Ну, на что это нам? Ну, что мы с этим добром поделаем? Помни ты мое верное слово, Иван Петрович! Будет у нас с тем добром не в пример больше слез, больше и воздыханий.
И так крепко донял меня подвал такими словами, что я однажды сказал подвальному цветку:
– Прощай, Катя! Ухожу из Москвы на родину. Хочу посмотреть, по-прежнему ли наша матушка-степь своей красотой сияет.
Говорю так и смеюсь, и она смеется.
– Ой, – ответила она, – не ходите, Иван Петрович! Люди, Иван Петрович, переменнее степи всегда бывают, – об этом во всякой книжке говорится, какую мы только с вами читали.
Я даже хотел было остаться, смотря на ту улыбку, с которой Катя говорила о том, что люди изменчивее степи. Так много обещала эта веселая, добрая улыбка! Но, к счастью или к несчастью, подвал опять зашептал мне:
– Ты что же это, Иван Петрович, оставаться хочешь? Гляди ты у меня: я тебя тогда своими старыми стенами в прах раздавлю…
Унося мою больную голову от гибели в этих, так мрачно глядевших, стенах подвала, я пошел. Пошел я, куда глядели мои глаза, и когда, возвратившись назад, спросил у кума, где Катя, он только ответил мне, что я счастливец, подоспевший к весьма крутой каше. Ответ, как видите, весьма замысловатых и таинственных свойств; но я, изучивший нравы девственных улиц, сразу понял, по какому именно поводу и из каких круп заварилась эта крутая каша, – понял до того ясно, что мое сумасшедшее сердце снова дрогнуло и заныло от той страшной боли, которою подарило его это ясное понятие о предстоявшей каше.
– Да, куманек! – снова повторил кум, задумчиво разглаживая свои усищи. – Признаться сказать: заварили хлебово{230}230
…заварили хлебово… – «заварили кашу», затеяли хлопотливое дело.
[Закрыть]! Не знаю только, как иному молодому народу придется его расхлебывать. Про себя не толкую, потому стар я, ну и, значит, хлебывал вволю… Вот как хлебывал – до крови!.. Ну, а молодым как покажется – не знаю, и ежели т. е. не Божья воля, так лучше бы мне скрозь земь провалиться, чем голубчику моему – дите моей кровной – то кушанье из своих рук подносить…
– А вы, дяденька, не ропщите, пытаму судьба наша известно от кого происходит… – вмешался в нашу беседу молодой, еще неизвестный мне, парень в синей чуйке, в смазных сапогах и ситцевой красной рубахе, видимо мастеровой. Он был еще очень молод и потому сделал старому солдату свое юное замечание весьма сконфуженным тоном и притом неуклюже переминаясь на деревянном, выкрашенном черной краской, стуле.
– Молчи уж ты, голова! – сердито отозвался кум на замечание молодца. – Мы у судьбы-то в лапах от люльки и по сю пору находимся, так мы ее лучше тебя не в пример понимаем, какая она до нашего брата милостивая…. Куп выпьем с тобой, да не по рюмочке, а по стаканчику, потому скорбит мое сердце. Ох, какая лютая казнь одолела его у меня! Тебе, куп, об этой казни своей прежде времени не скажу, потому пуще меня ты, пожалуй, винище жрать примешься. Знаю я тебя!
Но я давно уже понял лютую кумову казнь и потому с яростью истого плебея, приученного и, следовательно, привыкшего топить горе в стакане, выжрал стаканище, предложенный мне солдатом, опустил мою голову, послушно склоняющуюся пред всяким несчастьем, и стал, по обыкновению, прислушиваться к тайному подвальному шепоту, а подвальный шепот на этот раз был таков:
– Иван Петрович! – глухо и печально шептали стены, – знаешь небось ты нашу жизнь-то собачью? Ведь Катька-то у нас задурила… Ведь в степь-то тебя черт понапрасну таскал… Может, она, Иван Петрович, эта самая Катька-то, такой бы женой была верной, да доброй, да умной…
А солдат в то же время с тщетно сдерживаемым рыданием говорил молодому парню, нашему собеседнику:
– Выпей и ты, парень! Выпей сразу побольше, потому тебе, паренек, надо час свой великий в полной муниции встретить!
– А я, дяденька, как вы сами изволите знать, – заикнулся было молодой парень, – насчет хмельного ни-ни, т. е. чтобы т. е. одну каплю когда – ни под каким видом…
– Будет, будет, жених, раздобары раздобарывать! – грозно прикрикнул на него кум. – Сами женихами бывали, знаем поэтому, как это ни капли-то, ни под каким видом… Пей, говорю. И ты, куп, выпей! Повторим мы с тобой, голова, потому мы постарше и знать свое дело завсегда мы должны во всяческой полности.
И действительно, я давно уже знал свое горькое, всегдашнее дело – плакать и пить, и потому я с еще большим азартом повторил громадный стаканище.
– Так-то вот лучше! – проговорил кум, когда вся наша компания хватила по стакану. – Теперь словно бы отлегло маленько, – полегче будто бы стало…
– Это точно, что будто полегче безделицу! – вступился молодой парень. – Только, дяденька, вы теперь беспременно меня поддержать должны, потому как это она в любви с ним находится и как я должен с ней от него под честной венец идти, и мне это теперича вот в какой ясности приставляется – страсть! Сердце у меня от эвтого приставленья во как зажгло…
– Пей, парень, ежели приставляется! – командовал солдат. – Когда маленечко ополоумеешь, всегда лекше становится. Ну! – прибавил старичина, внезапно озлобляясь, – ежели бы он мне попался когда, искрошил бы я его в мелкие дребезги! Хоронится завсегда, словно знает, что я бы его зубами изгрыз.
– Нет, вот мне бы Господь когда-нибудь подал его в ручки, ночкой какой-нибудь темненькой, – я бы тово… Прямо скажу: может, с живого-то вряд ли бы и слез, – продолжал мастеровой солдатскую речь.
– А кто это он-то? – спросил я, чувствуя, как горячая кровь обливала сердце мое и душила меня, – чувствуя, что и я, даже не в темную ночь, если бы встретился с ним, так с живого тоже вряд ли бы слез с него.
– Он-то кто? – переспросил меня парень. – Афицер один, богатый… А я допрежь ее знал, как на родную мать издали глядел на нее и глазами своими ее любовал… Может, уж года с три той моей великой любови прошло.

Торговля съестными продуктами на Хитровом рынке. Фотография начала XX в. Частный архив
В это время за окнами послышался глухой стук московской пролетки, – той шикарной, налощенной пролетки, с фордеком{231}231
…с фордеком… – со складным подъемным верхом.
[Закрыть], на которых так называемые московские извозчики-лихачи катают барынь, по народному говору, вольного обращения{232}232
…барынь… вольного обращения… – барынь легкого поведения, гулящих.
[Закрыть], и вслед за этим стуком в подвал вошла Катя, шурша толстым платьем из черного глясе{233}233
Глясе – шелковая материя, которая отливает то одним, то другим цветом.
[Закрыть], сияя дорогой цветистой шляпой и золотыми браслетами на ослепительно белых и маленьких ручках.
– Банжур{234}234
Банжур (искаж.) – Приветствую!
[Закрыть], дяденька! – сказала она старому солдату как-то особенно разухабисто и фамильярно, – Ах! Иван Петрович… – обратилась она ко мне, – какими судьбами?
– Дитя мое, дитя мое! что ты с нами с горемычными сделала? – ответил я с громким плачем пьяного и, следовательно, необыкновенно тонко чувствовавшего сердца.

«Виды нашей прислуги». Денщик. Рисунок С. Ф. Александровского из журнала «Всемирная иллюстрация». 1872 г. Государственная публичная историческая библиотека России
Потом я уж ничего не помню о той крутой каше, которая варилась в это время в подвале.
– Акулина! Акулина! – кричал, как мне помнится, мой кум. – Бежи скорее за причтом{235}235
Причт – состав лиц, служащих при церкви.
[Закрыть], – я уж всем им говорил, какая у нас история… А вы держите крепче, а то вывернется, ускачет.
– Ты опять тут, ты опять пришел! – кричала Катя, очевидно было и для меня пьяного, на молодого мастерового. – Я ведь сказала тебе, что не пойду за тебя.
– Рази лучше скверной девкой-то быть? – кричал в свою очередь мастеровой. – Опомнись, Катя, опомнись!., ведь они над нашим братом потешаются только – господа-то…
– Иван Петрович! – громко кричала мне Катя, – заступитесь за меня: не давайте меня благословлять, сироту, поневоле… Будьте свидетелем: не хочу я за него идти…
Но я уже не мог быть свидетелем для Кати в том, что ее благословляют по неволе за немилого замуж, по многим причинам, из которых самые главные были следующие:
– Ну, ты теперь ее жених! – угрюмо бубнил солдат, – следовательно, все равно муж… Прибей ее, шельму, чтоб она от закона не отказывалась.
– Как же! – истерически всхлипывала Катя. – Погляжу я, как вы меня прибьете…
– А ты думаешь не прибьем? – орал мастеровой. – Ты думаешь, сердце мое не болит? Вот тебе, будь ты проклята! Я, может, жизнь свою загублю, в церковь Божию с тобой идучи, а ты в такое-то время по злодее по моем сокрушаешься.
Послышался звук пощечин и отчаянный крик женщины.
– Молодец, Абрам! – говорил солдат. – Так ее и следует. Опосля слюбится…
Но, повторяю, я ничему не мог быть свидетелем в это время, потому что сидел совершенно разбитый этой сценой, – сидел я, а Катя кричала мне:
– Подлец, подлец! что же ты не заступишься? Зачем же ты иное-то всегда мне говорил?.. Зачем же в книжках твоих про заступу всегда слабому говорилось?
Сидел я, говорю, немея от этих оскорблений, а подвал мне, кроме всего этого, свою речь вел:
– Видишь, Иван Петрович! Всегда я тебе толковал: уйди ты от нас, потому будет у нас от твоих слов большое горе… Господи! – взмолился старый подвал, как бы движник какой святой, – когда столько эти слова будут идти не мимо нас?..
– Ох, горе! Ox, горе! – сокрушенно взывал мой старый кум. – Но, может, к хорошему, может, остепенится – в настоящий закон и послушание Богом данному мужу войдет. Н-ну, только ежели он попадется мне когда в темном месте!..
– С Бог-г-гом, рр-рее-бята! – командовал с печи старый сумасшедший капитан. – К-л-ладсь! п-л-ли! В ш-ш-тыки на вр-ррага! Ур-ра!..
Так смертельно раздразнили его Фаламеевы ребятишки.
Затем вся компания без исключения, вследствие ни с чем несообразной выпивки, потеряла сознание, и я уже ничего больше не помню…
Счастливые люди
I
Раститеся, множитеся и наполняйте землю.
Кн. Бытия, гл. I
Вечер. С неба тихими, грациозно волнующимися пушинками падает первый снег. Сквозь массу этих пушинок, как красавица из-под вуали, светлый месяц любопытно посматривает на далекую от него землю. Тишина и ласка самые успокаивающие лежат в это первозимнее время на душе человека, шатающегося по улицам.
Хорошее время, такое хорошее, что ради него я теперь и сам пойду к хорошим людям, и вас поведу туда же, хотя дорога до них, как ко всякому добру, очень далекая.
Путь нам лежит сначала по тротуарам главных московских улиц. На тротуарах этих, с каким-то глухим, сердитым грохотом, обыкновенно характеризующим всякую ночную человеческую деятельность, работают лопаты, скребки и метлы дворников. В их группах часто слышатся злые возгласы на необходимость разметать, даже и ночью, улицу, которую завтра же заметет новый снег, – слышатся откровенные шутки с запоздавшими женщинами, пересыпанные раскатистым смехом, – дружеские, но тоже страшно-грохотливые заигрывания с приятелями извозчиками, стоящими около тротуарных тумб. Тут же происходят постукивания пальцем по берестовой табакерке, сладкие понюшки забористого зеленчака и таинственные сговоры, что как бы, дескать, это насчет тово… раздавить на сон грядущий полштофишку-другую.
Характер этих улиц, по которым идем мы к счастливым людям, чисто немецкий{236}236
… чисто немецкий – западный, европейский.
[Закрыть], особенно нелюбимый коренными жителями в длинных чуйках{237}237
Чуйка – здесь: длинный суконный кафтан, армяк прямого покроя.
[Закрыть], в суконных барашковых тулупах, с длинными серьезными бородами.
Изящные керосиновые лампы освещают большие зеркальные окна магазинов, сплошь покрывших своими золотыми французскими вывесками дома этих улиц. Верхи громадных магазинных рам, как бы крыльями какой-нибудь невиданной птицы, драпированы изнутри грациозными белыми занавесками. У ресторанов с княжескими подъездами стоят решительно непьяные извозчики-франты, прозванные Москвой лихачами, и одеты эти лихачи в армяки из синего сукна и подпоясаны канвовыми кушаками, а на головах у них надеты бобровые шапки, с заломистым верхом, затейливо разрисованным золотым позументом.
Гурьбами стоят эти франты в стеклянных подъездах ресторанов и меблированных комнат, ведут они со швейцарами солидные разговоры, покуривая из бумажных крючочков так крепко пахнущие махорку и нежинские корешки{238}238
…нежинские корешки… – смесь трубочного табака с травами.
[Закрыть]. Тихо все и солидно на этих улицах и казалось бы, что истому москвичу, сочинившему пословицу, что где, дескать, тишь да гладь, там Божья благодать, должна бы вся эта обстановка прийтись как нельзя более по душе, однако на деле выходит совершенно иначе.
И выходило именно вот как.
Идет кровный москвич, деловой, в барашковой шапке, с белокурой тридцатилетней бородкой, – идет он теми поспешными, не терпящими ни малейшего отлагательства шагами, которые обязывают бравую в спокойном положении фигуру русского человека к согнутию спины в три погибели, к одышке, к потной краске на здоровом лице, а главное – к какому-то шепотливому, отрывочному разговору с самим собой, вроде:
– Ах-х, Боже ты мой милосердый! Фу ты, Господи! Да куда же это я? Д-да зачем?
И вот такой-то согнутой иноходью поспешает куда-то москвич вместе с нами, пы сваму дельцу-с, па близости, так на минутую-с – и глубоко предался он этому быстрому, как бы на заказ, отмериванию шагов, сопровождая свое шагание неразговорчивым шепотом; как вдруг, на всю улицу, раздается звонкое ржанье стройного, белого рысака, стоящего у подъезда, а затем послышалось нетерпеливое топанье звонкой подковы о булыжную мостовую.
– Тише, дьяв-вал! – хладнокровно говорит угрюмая и, так сказать, игольчатая октава{239}239
…игольчатая октава… – здесь: одетый «с иголочки» кучер, ожидающий своего хозяина.
[Закрыть] с железно-решетчатого крыльца ресторана.
Чего бы, казалось, проще такого обыкновенного вечернего пассажа? Нет, мимошедший москвич вдруг, почему-то, останавливает свою проворную поступь, снимает шапку, отирает пот с лица красным ситцевым платком, и пристальным мельком оглянувши и рысака, белая спина которого так гордо рисовалась на вечернем уличном фоне, и ярко освещенный подъезд, и саженные стекла магазинов с их белокрылыми драпри, – снова обращается в свое торопливое бегство и не то с досадой, не то со злобой шепчет:
– Вот черти-то! И куд-ды же это я, братцы мои? Зач-чем – а? Вот дьявола, так дьявола!..
Бежит дальше москвич, говоря своей походкой, что его «никтоже гонит, сами ся гоняху» и вдруг
– Миласливый гасударь! – как лист перед травой, выросла пред ним какая-то бурая, в дугу согнутая личность. – Миласливый гасударь! из бальницы… седьмой день… ни фкушаю, – верьте слову благородного человека!.. Находимшись при разных должностяв… Многие инаралы и даже, можно сказать, графы…
– Да под-ди же ты! – с тоской восклицает москвич, стремясь дальше и дальше. – О Б-боже!
– Мусью! – возникает перед несчастным другой образ с хриплым женским голосом. – А, мусью! позвольте-с на пару слов…
– Господи! Да што же это я? Где – а?
С горки, на которую, по узкому тротуару, поднимается москвич, со звонким смехом, сопровождаемым немецкими ребячьими фразами, самым полоумным манером, скатываются с глухим свистом железные салазки с целой кучей ребятишек – и бац! Москвич падает со всех ног на холодный камень плит и, приподнимаясь, крехчет:
– Ишь, дьяволята немецкие разыгрались!
С быстро ускользавших в туманную даль железных санок услышали между тем враждебную речь, вследствие чего солидная улица немного побаловалась, ответивши за оскорбленных ребятишек звонким смехом и немецким словом:
– О, руссиш швейн{240}240
О, руссиш швейн! – О, русская свинья! (нем.)
[Закрыть]!
Пойдемте же и даже, в случае надобности, побежим за москвичом. Нам с ним по дороге. Он, очевидно, бежит тоже к счастливым людям, о чем я, как человек достаточно знакомый с Москвой, заключаю по направлению его стремительного курса.
Пошли улицы потемнее. Фонари, освещавшие их, стояли друг от друга на таком расстоянии, про которое говорят: колос от колоса – не слыхать человеческого голоса. Очевидно, они были поставлены для блезиру{241}241
…для блезиру… – ради шика, напоказ.
[Закрыть], и они сами, как видно, очень хорошо понимали свою призрачную роль, потому что так плутовски подмаргивали и друг другу, и проходящему народу, что возбуждали в наблюдателе целый рой сомнений насчет того обстоятельства, что едва ли это фонари и что чуть ли это не какие-нибудь кривые, плутоватые люди, подкивывающие и подмаргивающие, с условленной целью объегорить какого-нибудь любезного благоприятеля.
Подославши к воротной верее соломки и закутавшись в здоровый бараний тулуп, в самой нежной позе покоящейся одалиски{242}242
Одалиска – наложница, состоящая в гареме султана.
[Закрыть], лежит около одного, по-московски орнаментного, дома молодой дворник и дремлет сладкой дремой под эту тихую музыку пушисто летающего снега. То откроет глаза дворник, то снова закроет их, то вытянет ноги, то снова спрячется под теплый тулуп и свернется калачиком. По временам он споет что-то бессловное, напоминающее собой песню сытого кота; иногда протяжно и сладко зевнет, перекрестит уста и проговорит:
– О Б-боже ты мой Господи милосердый! О Господи Боже!..
– О Б-боже ты мой милостивый! – с тоской шепчет в свою очередь бегущий впереди нас коренной москвич. – Куды? Зачем? О Б-боже!
– Ха-ха-ха-ха! – раскатывается дворник со своего уютного сиденья. – Вот, теперича, друг любезный, тебе только девять раз осталось шарахнуться. Не тужи. Эва! сколько дров наломал, а еще с обеих сторон фонари… Ха-ха-ха-ха!
– Да не будь их чертей – фонарей эфтих слепых, я бы совсем не шарахнулся. Только тень одна от них. У нас вон, в нашей улице, ни одного их нет – и чудесно! Идешь так-то – любезное дело! Ни разу не оступишься…
Говорит москвич такие слова и ожесточенно отряхает шапкой снежную пыль со своего тулупа; а фонари на едва-едва приметный момент ярко мелькнули своим колеблющимся светом и вдруг опять померкли и серьезно сморщили лица, с настойчивостью, основанной на твердом убеждении в своей невинности, показывая и улице, и дворнику, и мимоедущим извозчикам, что это «не мы, не мы, – ей-Богу-с! Мы вот светим, а дальше мы – ни-ни! Напрасно вы так про нас полагаете. Это он, может, спьяну шарахнулся, – д-да-с»!
И этой серьезной рожей фонарей были обмануты и улица, и дворник, и москвич, и извозчики.
Однако, шутка шуткой; но только, Боже мой, как нежно этот славный вечер своим серебристым снегом, своей гармонической тишиной будит и оживляет иные, видимо начинавшие засыпать, человеческие души.

Перед рождественским праздником. Гравюра А. И. Зубчанинова по рисунку Г. Бролинга из журнала «Всемирная иллюстрация». 1874 г. Государственная публичная историческая библиотека России
Пойдемте тише, пользуясь этой, так внезапно налетевшей, мирной минутой. Будем благодарны ей и станем смотреть на фонарь как на фонарь, а не как на одноглазого плута, которого за его насмешки, без этой минуты, непременно выругал бы и послал ко всем чертям…
Очень темны были улицы этой второй категории. Высились на них гордые барские дома, выстроенные про себя{243}243
…гордые барские дома, выстроенные про себя… – особняки.
[Закрыть]. Их большие, так надменно смотревшие окна завешены шторами, сквозь которые чуть-чуть пробивался тот таинственный полусвет, при котором, по старинным романам, княгиня Мери, пользуясь отсутствием мужа, дает уланскому корнету Г. понятие о своем высоком уме, необыкновенно тонком, анализирующем самую глубь любви. Зло смотрит на такие дома человек голода и холода, проходя мимо их больших, так крепко запертых, лакированных дверей; а я, напротив, даже люблю ходить мимо них, потому что всегда в позднее аристократическое после-обеда, перед самым так называемым аван суаре{244}244
…аван суаре… – искаженное французское выражение «l'avant-soiree», что значит «под вечер», т. е. до званого обеда.
[Закрыть], оттуда слышатся могучие звуки дорогих пианино, – и говорят мне эти звуки о том, что разнообразные страдания, сокрушающие род человеческий, протискиваются и в надменные окна, защищенные плотными шторами, и в лакированные двери, стрегомые лакеями во фраках и в голландском белье…
Таинственный полусвет, льющийся из окон, дает мне возможность видеть прелестные цветы, уголок громадного зеркала с половиной портрета серьезного, генеральского, так сказать, лица, отражающегося в нем, – и вот я остановился на тротуаре и слушаю. Слушаю, а из дома несутся ко мне рыдания какого-то необыкновенно великого горя, и все существо мое, прислушиваясь к ним, дрожит нервической, страстно сочувствующей дрожью…
Как прикованный, стою я, и вот, по дивной воле артиста, в голове моей крайне спутанным строем проходят многоразличные людские недоразумения: проклятые, от века безответные вопросы, – мысли, обязывающие человека на всегдашнее отметание от прекрасных благ земных, – мысли, фатально влекущие в могилу по такой дороге, от хаотической пустоты которой леденеет сердце и встают суровым лесом молодые кудри, – молодые кудри, каких еще, может быть, ни разу не лелеяли нежные женские руки…
Вследствие этих представлений сокрушительная истома по чужому горю зажгла душу мою своим необыкновенно жгучим огнем: эта головка, что плачет теперь над дорогим пианино, является в моем воображении несравненно прелестнее всех этих цветов, стоящих на окне, и я принимаюсь отгадывать настоящую причину грусти этой, видимо, назначенной для всякого счастья птички. Быстро сменялись мои думы, нагоняемые на меня звучавшими, как волны, октавами инструмента, и ничего не мог уяснить я себе до тех самых пор, пока настоящее лицо, интересовавшее меня, не удостоило показаться мне и товарке моей – темной ночи, на минуту вырисовавшись в окне. Было оно, как рассказывается во всех романах, «интересно-бледно, аристократически-сдержанно; черные волосы обольстительно обрамляли его» и проч. и проч.
Совсем не то рассчитывал я увидеть, и обманутое ожидание сразу поселило во мне какую-то странную уверенность, что барыня эта играла так хорошо потому только, что была голодна. Я громко засмеялся глупой мысли и пошел дальше, рассуждая на тему, черт знает откуда на меня налетевшую, что любого человека ко всему приучить можно; даже крайнего идиота можно выучить быть умным. Тут же подвернулось и доказательство этой истины.
«Медведей выучивают же плясать», – думал я и хохотал все громче и громче, так что один бутарь вынужденным нашелся объяснить мне, что это довольно даже нехорошо для благородного господина – идти по улице и грохотать по-лошадиному.
Выслушав нотацию с прирожденным мне смиренством, я пустился в самую глубь тех улиц, граничащих с заставами, на которых совсем смолкает крикливая столичная жизнь. Ворота во всех домах плотно приперты толстыми засовами, окна закрыты ставнями и лишь изредка, около освещенных кабачков, можно приметить каких-нибудь двух или трех друзей, в ватных халатах, тихо и задумчиво рассуждающих, после выпивки, о необыкновенной тягости нынешних времен и о неизбежной надобности хватить еще малую толику ради этого горестного обстоятельства.
Из будки, иногда начинающей, иногда замыкающей собой подобные улицы, льется на дорогу маленький дрожащий огонек, который ежели и горит еще, так потому только, что в будке ночным временем без огня быть ни под каким видом нельзя.
– Квартальный, пожалуй, вздумает с дозором пойти, – объяснительно покивывает огонечек улице, как бы оправдываясь перед ней в том, что он осветил собой ее естественные виды, очевидно отвергавшие всякое освещение.
Коренной москвич, руководящий нас по дороге к счастливым людям, лишь только вступил в эту тихую улицу, всю залитую лунным сиянием, всю заваленную блещущими снежными сугробами, как сейчас же изменил свою порывистую, суетливую побежку на шаг человека, который, видимо, действует в своей сфере. Вот он шутит дружескую шутку с будочником, сладко прикорнувшим на резном балкончике своего солдатского жилища: подкравшись к стражу своей улицы на цыпочках, москвич сдергивает с него кэпю и изо всей силы швыряет ее в далекие небеса. Кэпи, вероятно, не считая себя настолько заслуженной, чтобы навсегда застрять и успокоиться на одном каком-нибудь из этих летающих по небу облачков, снова черной галкой спускается на землю.
С громким хохотом оба друга стремятся захватить шапку в свои руки. Искусно подбрасываемая москвичом, она перелетает через снежные бугры, через низенькие лачужки, останавливается на деревьях, сучья которых любопытно смотрят на эту игру, и, спугнутая с них ловко швырнутой палкой, снова летит по сугробам, иногда останавливаясь на них и, следовательно, вызывая тем самым разыгравшихся приятелей к новым, еще более поразительным, состязаниям в самом, так сказать, центре снежного царства, т. е. другими словами, по уши в снегу, разлетавшемся от этой борьбы миллионами серебряных искр.
Перебросивши наконец вражескую голову через забор пустынного огорода, москвич издали кричит своему спорнику:
– Где тебе со мной, полицерия ты эдакая несчастная! Хоть бы насчет куроцапства-то умел обходиться как следствует, а то эва – надумал меня обороть. Ха-ха-ха-ха!
Будочник, слушая эти разговоры, энергически царапался на высокий забор огорода, куда улетела его разнесчастная солдатская голова.
– Ишь ты, ведь, куда угораздило его запустить! – без тени даже досады толкует будочник. – Черт ведь это его расхватывает, должно быть, на игру-то. Спал бы я теперь да спал без него.
– Илю-ю-ша! – раздается через минуту голос чуть-чуть уже виднеющегося москвича, – находи поскорее фуражку-то свою, да приволакивайся ужинать поживее; водочки поднесу, потому у меня сынишка менинник.
– Да как же я с чисов-то, Мирон Петрович? – кричит в свою очередь будочник. – Нельзя ведь с чисов. Пожалуй, взыску какого бы не было…
– Вз-зыску? – отзывается москвич. – Эвося! Махонький што ль? Вз-зыск!.. Приходи знай…

У входа в дом подворья Валаамского монастыря на 2-й Тверской-Ямской улице. Фотография начала XX в. Частный архив
Исполинские собаки, разбуженные этим дружеским переговором, ответили на него крикливым лаем и неистовой беготней по следам москвича; но москвич, с опытностью американского морехода, лепился под заборами, твердой ногой ступая по едва приметным тропинкам; он храбро выходил по временам на самую средину улицы, отыскивая перенесенные туда другим предшествовавшим ему храбрецом едва приметные следочки, и только посвистывал, только посвистывал.
Так он был безбоязнен среди этого безлюдья, среди этих сугробов, – так был уверен в том, что ежели собачье чутье обманется и не узнает в нем соседа, Мирона Петровича, так непременно сам он, Мирон Петрович, узнает всякую собаку своего околотка и, судя по обстоятельствам, может во всякую секунду или приласкать ее, или взбутетенить, что одинаково обезопасит его, ни для какого смертного, кроме истого москвича, неосуществимое путешествие.
– Орелка! Косматка!.. Што вы, лешие, аль своих узнавать перестали? – покрикивает наш руководитель, мощной рукой стуча в тесовые ворота. Собаки сознаются в своей ошибке радостным визгом и фамильярными скачками на грудь и спину Мирона Петровича, что составляет такую добрую житейскую картину, что пробиравшийся в соседний домишко на ночлег забулдыга-извозчик{245}245
Забулдыга – беспутный, гуляка, пьяница, пропойца.
[Закрыть] никак не может ей не позавидовать и говорит:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































