Текст книги "Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы"
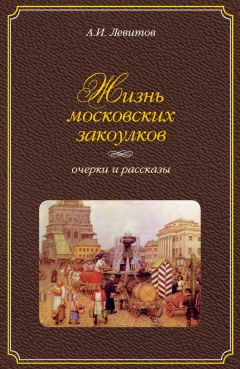
Автор книги: Александр Левитов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
– Ах, хозяин! Как это вас собачки здешние любят, ей-богу! Все равно, ваша милость, по всей по улице здешней для всякого человека вы заместо отца родного, сичас умереть!
– Разговаривай, разговаривай по субботам, Митька! – отвечает москвич голосом, в котором явственно слышатся недовольные ноты. – Ты бы вот мне долг поскорее приносил, чем чаи-то по харчевням расхлебывать. Так-то, друг! Зубоскалить-то нечего. Нас не удивишь, потому сами в старину зубоскаливали…
– Ишь ты, хитрый какой! – говорит тихомолком извозчик, благоразумно заглушая воротным скрипом хитрое хозяйское слово. – Сейчас ведь узнает, к чему какой разговор человек подводит… А я, было, завтрашнего числа думал к нему еще подкатиться насчет займу. Теперь не даст, ни в жисть не даст, хоть и не ходи!.. Эхм-ма!..
С глухим гулом упала наконец воротная задвижка, отдернутая седым дедом-дворником, который, несмотря на зиму, был бос и в одной только ситцевой, полинялой рубахе да в пестрядинных штанах. Зорким, серьезным взглядом оглядевши хозяина, он спросил его:
– Пошто полуношничаешь? У нас тут душа не на месте; все про тебя думаем: как бы, мол, головушка-то наша разудалая опять в трактир не качнула…
– А ты, дедушка, не думай, – пошутил москвич, – потому думают-то знаешь кто? индейские – петухи… Так-то!
– Ну-ну, проходи! – сердито перебил дед и затем, помолившись на крест соседней церкви, ушел во двор неторопливой, важной поступью, и в то время, когда москвич уже из самого нутра своего дома продолжал звать будочника Илюшу на сынишкины аменины, дед глухо и неразборчиво ворчал:
– Банкетчики-черти… Эх! – плачет матушка-палка по эфтому по народу! С какой радости?..
– Счас, счас, Мирон Петрович! Сей сикунтой сберусь! – в последний раз откликнулся будочник, и после этого отклика мы, читатель, остались с тобой в этой пустынной улице, залитой лунным сиянием, заваленной снежными сугробами, решительно одинокими и беспомощными, потому что, несмотря на нашу с тобой охоту знать счастливых людей и вести с ними приятное знакомство, мы, на дороге в такое желанное царство, лунным светом залюбуемся, перед снежными горами остановимся, собак лютых испугаемся…
II
Когда я, читатель, один иду к хорошим людям, я дохожу до них так же легко, как пришел сейчас истый москвич в свой собственный дом. Я и с будочником побалуюсь, я и собак поласкаю, ежели они смирны; а ежели злы, то даже и побью их, несмотря на то, что от «гуманства» этого, которое во мне понасыпано, я бы в пропасть всей головой моей готов во всякое время шарахнуться без малейшего разговора… Снежные сугробы, или даже грязь по колено, меня тоже нисколько не останавливают на моей дороге, потому что я такую песню знаю, которая говорит, что
Но ты, читатель, всегда был, есть и будешь для меня тяжелой обузой, потому что ты ежегодно тратишь шестнадцать с полтиной на какую-нибудь газету или журнал, выписка которого обязывает всех твоих друзей твердо веровать в то, что ты человек цивилизации, друг прогресса и т. д. Друзья с благоговением просят у тебя почитать журнальчика или газетки, и ты снисходительно даешь им оные и тут же сообщаешь им, что Гарибальди{247}247
Гарибальди – Джузеппе Гарибальди (1807–1882). Народный герой Италии, участник итальянской революции 1848–1849 гг., организатор обороны Римской республики в 1849 г. В 1848, 1859 и 1866 гг. во главе добровольческого отряда участвовал в освободительных войнах против Австрии. В 1860 г. возглавил поход патриотов – «Тысячи», освободившей юг Италии, что обеспечило победу итальянской революции в 1859–1860 гг. Во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. сражался добровольцем на стороне Франции.
[Закрыть]… что земная кора… питание опять… социальность… терпимость и… и черт тебя знает, о чем ты, с чужого голоса, нагородил в разные минуты своей жизни, чего совсем не городят в тех улицах, где мы находимся с тобой в данную минуту и куда по-настоящему ходить тебе решительно незачем; но ты в последние дни твоего существования очень приналег на все эти петербургские, московские, варшавские et cetera трущобы, и так как роли политика, натуралиста, социалиста и, наконец, порицателя или поощрителя различных внутренних мероприятий тебе демонски опротивели, то ты, вспомнивши золотое время твоего невозвратно минувшего детства, захотел, на старости лет, еще раз порисоваться в роли знаменитейшего принца Герольштейна – и пошел ты по этому случаю, вместе с авторами различных трущоб, по столичным кабакам, для ради изучения младшей, падшей и вообще всяческой братии, которую ты почему-то считаешь во всех отношениях хуже себя и которую, на этом основании, ты назвал меньшей братией. Авторы-то кое-как выкарабкались из кабаков, конечно, не все, и правда, что с достаточным угарцем, потому что быть в огне и не обжечься – нельзя; но тебя-то, непривычного человека, там либо исколотили насмерть, либо сам ты залился в них, не могши сладить со своим ретивым, которое до конца изомлело и сокрушилось от того крепкого буйства, какому предавались кабачные, погибающие люди на порогах своих видимых могил…
Вот почему ты для меня обуза, читатель, на этой улице. Воротись лучше назад от действительности, которой ты брезгаешь до отвращения или боишься до смерти. Вернись, говорю. Слышишь, как будочник Илюша, только что сейчас по-ребячьи игравший с москвичом, пристально всматривается в нас с тобой и, совсем как настоящий часовой, грозно вскрикивает:
– Кто идет?
А эти собаки?.. Обличаемые каждым нумером московского «Развлечения»{248}248
«Развлечение» – литературный и юмористический журнал, выходивший в Москве в 1859–1918 гг.
[Закрыть], они тем не менее не перестают пробирать незнакомых пешеходов, беспокоящих их мирную жизнь в тихой улице.
Видишь, каким бешеным стадом и с каким неистовым лаем мчатся они на нас? Бежи!
Бежи и не связывайся с этим извозчиком, который вдруг, ни с того, ни с сего, строго и бранчиво принимается уличать тебя в полунощничестве и в шаромыжничестве, легким подсвистыванием натравливая собак на то, чтоб они согнали тебя с» ихней» улицы.
– Часовой! – кричишь ты, справедливо полагая, что будочник Илюша сейчас прольет за тебя всю кровь и сразится с собаками не на живот, а насмерть. Бедный! ты сильно ошибаешься.
– Проваливай, проваливай! – отвечает на твой крик Илюша и затем суетливо начинает соваться в разные стороны, разговаривая промеж себя, что «ах ты, братцы мои, куд-ды это д-дубину я тут положил? Ах-х! Хорошо бы это вдоль ног ему запустить…»
– Здравствуй, Илюша! – приветствую я лично стража тихой улицы. – Как живешь-можешь?
– А, здорово, барин! Кто это с тобой проходил сейчас?
– Да это так, Илюша! Это – читатель.
– Читатель?.. Какой такой? Ноне, сам знаешь, как стр-рог-га!
– Ну тебя к лешим! Ты на именины, что ль, к Мирону Петрову собрался? Я ведь слышал, как ты с ним переговаривался. Я сам тоже к нему.
– К самому?
– Нет, я к прачке – к Петру Александрову. Дома скучно стало. Дай, мол, схожу поболтать.
– Так, так! – совсем уже ласково подтверждает Илюша. – Вместе, значит, пойдем. Я тебя через забор подсажу, а то у них экую рань ворота всегда запирают, так чтобы не стучать, не беспокоить, потому дед у них – дворник, и сердитый такой насчет беспокойства… Так-то облает…
– Зачем беспокоить? И так, как-нибудь, перескочим, – нынче снег, мягко; авось, не расшибемся.
– Известно, не хрустальные. Только што же это тебя в наших краях давно не видать? Я думал – ты пропился, али бы околел; а у нас тут без тебя какие истории пошли – бед-да!
– Ну?
– То есть просто смех! На комедию не ходи. Мирон Петров-то – слышь? – любовницу полюбил, а жена за ним, с мастеровыми (она их вином за себя заступаться подкупает), кажинную ночь по улице с дубьем, словно ведьма, бегает. Нагонит так-то его – тр-рах этим самым дубьем по спине, – а он ей говорит: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» Словно солдат на смотру, – вот шут-то! А сам так и раскатывается: ха-ха-ха-ха! Я это тоже сижу здесь и смеюсь. Заб-бава!
– Да, точно, смешно, – согласился я.
– А того смешнее, как эта самая женщина, – снова заговорил и залился звонким, добродушным смехом Илюша, – как она зараз мужа и со слезами умаливает, чтоб он хоша не грохотал-то над ней, а сама все его дубьем, дубьем… «Дай ты, умаливает, сердцу моему хошь в этом разе облегченье какое-нибудь», т. е. это выходит, чтобы грохотать-то он перестал.
– Что же, они часто у вас так-то?
– Говорю: каждую ночь полоскаются. И теперь вот, того и гляди, сбесятся. Да ведь это что? У нас чего другого нет, а побоищев этих – сколько угодно. Ты вот знал, может, востроносую девицу, какая жила у прачки-Петрухи с учителем-то? Да ты и учителя-то знаешь, – я вас с ним часто в прошлом году в кабаках видывал.
– Ну?
– У их тоже история, да смеху в этой истории малость. Ах, жаль парня, – ни за грош пропадает, а парень добрый.
– Да в чем дело-то? Я обоих их знал, люди оба хорошие, жили дружно.
– Дружно! – с какою-то унылой иронией воскликнул Илюша – Было, может статься, когда, да сплыло; а теперича… баб этих сам шут не разберет, в какую она погибель его шарахнула! Видишь, ему, это учителю-то, – слышь? место какое-то на городе вышло. На железку{249}249
…на железку… – здесь: на вокзал, в поездку по железной дороге.
[Закрыть] я его провожал, чемоданчик это, подушки, саквояж с книжками – все это в пролетку я ему выносил, и она тут же, востроносая– то, провожать его едет – и, т. е. я тебе говорю, плачет, рекой разливается и, словно бы даже как в помрачении ума, металась и вскрикивала. Слышу, толкует она ему: «Ты это, говорит, нарочно к месту едешь, – отвязаться от меня, как ни на есть, захотел», потому ей это в привычку было, не в первый раз. Сам знаешь, когда, ежели к примеру, «гысспада офицер «по полкам своим разбираются, так бросают их, девок-то, без всяких эфтих церемониев, – ну, ей это, значит, и в привычку. А он ей свое толкует: «Я, говорит, не прапорщик». И точно что это он правду сказал, потому он совсем штатский… «Сколько раз говорил я тебе, – сказывает он ей, – затем и еду, чтоб и тебе, и себе спокой доставить какой-нибудь, чтобы не мыкаться нам больше с тобой по белу свету…» Утешает он ее так-то, а мне пятиалтынный{250}250
Пятиалтынный – монета в 15 коп.
[Закрыть] в руки, потому душа человек. Укатили. Смотрю, посмотрю: к вечерку эдак возвращается моя барышня. Спрашиваю: проводили? – Проводила, говорит, и смеется; а из-за угла, – о, чтоб тебя черти забрали! – уж и выглядывает хахаль какой-то, рукой эдак, поманивает, – поскорее, значит, не замешкайся! На что меня смех разбирает, так ведь истинно по тому случаю, что в тот же день… «Это после слез-то так-то вы, барышня? – спрашиваю. – После шести-то годов вы эдак-то?..» Смотрит на меня и хохочет, аки безумная какая! «Моя, говорит, теперь воля. Куда хочу, туда и пойду. Одна, говорит, осталась. Ха-ха-ха-ха!» И то года с три я видал: гулять, бывало, пойдет с самим, или одна по надобности куда-нибудь, – всегда это так тихо, степенно, – всегда, бывало, ласково так поклонится; а тут… примечай, куда пошло! Как почнет приплясывать моя барышня, как загорланит на всю улицу песню:
С ке-ем хочу, с тем и гуляю!..
– Ну, ей-богу же, барин, – продолжал Илюша, – я перекрестился, глядя на нее, потому вижу, девка-то выпимши. Хотел было ее тут же в фартал отправить, да думаю: ежели, мол, умный человек с ней не сладил, – мы с фарталом при чем тут будем? Ай правду, должно, пословица-то говорит: «Не сделаешь пана из хама!..»

На Сухаревском рынке в Москве. Фотография начала XX в. Частная коллекция
– Иные делают, – заметил было я, но Илюша заговорил с большой живостью, как бы приготовляясь жестоко спорить со мной, и поэтому я замолчал.
– Нет вить, какая тварь-то! Воротившись ко мне, сейчас четвертак{251}251
Четвертак – четверть рубля, 25 коп.
[Закрыть] подает; говорит: «получи, да смотри, не очень болтай, потому учитель, – забери его душу сам дьявол, – жениться на мне похотел. А впрочем, посмеивается, ежели и проболтаешься сдуру, так он не поверит… Как, говорит, знаешь!..» Такая тварюха бедовая! – и опять заплясала, и опять загорланила. Плюнул да ушел в будку. Так это даже злость меня на эту мразь проняла…
– Ну, будет, Илюша. Твоих историй всех не переслушаешь. Снимайся с часов поскорее, да и пойдем.
– Да что с них сниматься, с часов-то! Взял – да и пошел. Вот-те и вся недолга! А насчет историев, точно что… вволю всего насмотришься, потому слышь, прошло ль еще две недели, учитель-то и примахнул сюда, да все это по ночам около дома и шастает. Узнал я его и прямо ему с-бацу: так и так, мол! Малый хороший, думаю, отчего ему всей правды не сказать, – пущай, мол, развяжется с тварью необузданной. «Знаю, говорит, – мне сердце про все рассказало… Пойдем, умоляет, – Илюша, в кабак. У меня во всю жизнь только и доброго было, что она. Пропьем же все, говорит, – вдосталь, чтобы заодно уж, чтоб и помину ни о чем не оставалось…» И вот уже, сударь мой, с месяц, как этот самый учитель по соседским кабакам шастает безустанно. Пьет, спаси его Бог, до идольской смерти… Докладывал квартальному. Тот сказал: «Поприсмотри, Илюша, попристальнее, потому тут дело не без опаски… Запахнет, пожалуй, чем-нибудь нехорошим». А ей, востроносой-то, велел сказать, чтоб она подальше куда-нибудь от Мирона Петрова, на другую фатеру перебиралась; только она на этот счет вне сил, – видно, не очень шаромыжничеством-то люди разживаются. Д-да-с! Жаль, жаль учителя-то, ей-богу, потому гибнет хороший человек заместо мухи, самой паскудной. И дьяв-вал, што ли, какой ее взбунтовал, – шут ее, прости Господи, знает! Ах, бабы! Ах-х, б-ба-абы! Н-ну!
– Это точно, Илюша; бывает иногда, что ты сказал сейчас насчет дьяволов, – соблазняют….
– Какой там иногда, судырь! Так надо полагать, что они завсегда такими манерами бабенок этих разжигают, потому сам я… Вот расскажу, благо к слову пришлось: родимшись, этта, в Нижегородской губернии, я женился. Женимшись, вдруг от приятелев от своих доклад получаю: «ты, спрашивают, что знаешь, Илья?» – А что, говорю? А самого так в сердце что-то и шаркнуло. Должно, учитель-то правду сказал: мне, говорит, сердце обо всем рассказало. Да, да! Приятели-то мне и говорят: «а знаешь ли ты, милый человек, Фому-краснорядца?» А сами: гро-о-о-о, гра-а-а! – так и раскатываются. Раскусимши это, домой я сейчас же побег. Бегу, земля подо мной гормя горит. Прибегши, кэ-экк развернусь, ддэ-экк х-хвач– чу… Так то-с!..
– Ну, и что ж?
– Да ничего! На другой день в губернию махнул, всю ночь тайно в овине проплакамши; а в губернии себя в охотники объявил, – прямо, значит, в царскую службу… Гыс-спада инаралы сказали мне: «Молодец! – говорят. Гуляй!» Ну, я вот и гуляю… Побежим, барин, одначе; поздновато быдто становится, – пожалуй, аменин не застанем…
Тут Илюша запер на замок будочную дверь и ключ припрятал в потаенное место, известное только ему и товарищу.
– Товарищ-то у меня, шут его побери, несуразен больно. Ужо, к полюбовнице пошодчи, сказал: до завтрева не жди. Только раньше, знаю, бесприменно раздерутся, как черти, и сюда спать прибегут. Для того и ключ оставляю. Н-ну, жисть!..
III
И вот мы с Илюшей, наконец, в самом царстве этой, как он выразился про нее: «н-ну, жисти», – в доме Мирона Петрова, очевидно недавно выстроенном, потому что дом так привлекательно белел на ночном фоне своими гладко выструганными бревнами, а жестяная ярко-зеленая крыша так гостеприимно звала к себе. Изо всех окон мелькали те дрожащие, как будто постоянно переносимые с места на место, тусклые огоньки, какие бывают от сальных свечей.
– Мы все здесь! – вскрикнул в темных сенях над самым моим ухом голос, принадлежавший прачке – Петру Александрову, цели моего далекого путешествия. – Нас всех со всего дома вообче сбил хозяин на именины к своему сыну. Он у него над всем имуществом законный наследник. Пойдем, Иван Петрович, и ты к нему. Гуляй! И затем прачка, сделавши несколько пьяных вариаций из чего-то отроду моего не слыханного мной, схватил меня под мышки и потащил куда-то по кромешно-темной лестнице с такой быстротой и таинственностью, с какими злой дух увлекает в ад грешные души.
– Тро-тро-та-та! – благодушнейшим, но бессмысленным старческим голосом выводил он свою арию, блаженно хихикая и ласково тиская меня так, что даже временами я ощущал на моей левой щеке прикосновение его небритых уст, обдававших меня жарким спиртуозным паром.
– Порядочно, должно быть, ныне заложил? – спрашивал я у старика, просто, ради дружеского разговора, но избегая, впрочем, местоимений, потому что старик по таким временам делался необыкновенно обидчив. На знакомого, который ему начинал говорить ты, он, в качестве старинного камердинера какого-то знатного московского барина, страшно принимался кричать в том роде, что «как-де ты смеешь тыкать меня, музлан необузданный – а? Где ты такой политике научился, мерзавец? У-у-у!..» Принимал он в это время гордую позу своего бывшего повелителя, опрокидывал назад седую, гладко выстриженную головенку, а руки, по-барски, закладывал в изорванные штанишки, запущенные в голенищи, что все, в сложности, очень шло к его добренькому личику и к белому жилету, в который он неуклонно облекается вот уже, как я его знаю, четыре года. Но, с другой стороны, трудно было решиться в эти минуты почествовать его и политичным – вы, потому что он тогда залился бы горючими, стариковскими слезами и, благородно негодуя на вас, сказал бы вам: «Ты мне больше не друг! Сколько лет мы были с тобой на ты – а? сколько?» И тут случалось, что он, хотя и в бессильном азарте, но все же бросался на своего обидчика с поднятыми кулачищами, с раскрасневшимся личиком и с глазами полными слез.
– Тро-три-трэ-э-тр-ру-у! – снова восклицал он, отыскивая дверь, ведущую в нутро той бездны, в которую мы сошли с ним. А из бездны уже явственно доносился до нас глухой, смешанный гул одной из тех демонских пирушек, которые вдруг, нечаянно как-то, как бы сами собой, устраиваются в различных сферах трудящегося, но все-таки бедного мира, заставляя этот, бедный и финансами и головой, мир своими результатами думать, что злые духи устраивают эти безалаберные оргии на погибель ему, рабочему человеку, – на погибель отца его с матерью, детям и, наконец, на погибель его мастерства, только-только что начинавшего было разрастаться и радовать хозяйское, исстрадавшееся, сердце…
– Ну-ка, я отворю, Петр Александрыч! – сказал я, тоже избегая местоимений.
– Погод-ди-и! Тро-рро-ро-р-ру-у! – снова заорал он, и наконец-то из бездны, сопровождаемый хохотом пирующих, послышался такой же отзыв:
– Тр-ру-у-та-та! – Вслед за тем дверь отворилась прямо на нас с такой силой и быстротой, как будто говоря нам: «Вы к-куд-да?»

Верхние городские ряды. Малый ветошный ряд. Фотография 1880-х гг. из альбома «Москва. Городские ряды». Фототипия «Шерер, Набгольц и К°; Государственная публичная историческая библиотека России
Мы не испугались этого окрика, и на нас пахнула волнистая туча седых паров, как бы какой последний, но самый заколдованный сторож, не пускающий храбрых в наши сказочные царства, – и мы вошли. Ярче всего блестело, как бы золотое, брюхо медного самовара на белой, как снег, салфетке, покрывавшей стол. Потом дружелюбно закивала и заморгала нам с прачкой пара сальных свечей в медных подсвечниках, потом засветлелись чайные чашки своим уродливым золочением, наконец в уши наши ударил тот стозевный, русско-кутящий говор, называемый гомоном или галдой, и в заключение над всем этим, как шум прорвавшейся плотины, царило металлически-свирепое шипение громадного самовара.
– Добро пожаловать! – вскрикнул хозяин, Мирон Петрович, позируя перед нами новенькой ситцевой рубашкой, изукрашенной по белому полю черными мушками, плисовыми штанами, заткнутыми в козловые сапоги, а главное – длинным суконным жилетом, по которому тонкой змейкой вилась длинная часовая цепочка из так называемого нового золота.
– Гляди, хозяин, – закричал прачка, – какого я тебе дорогого гостя привел! Тро-ро-о-трэ-э!
– А-а! – протянул, в несказанной радости, Мирон Петрович. – Сколько лет, сколько зим…
– Мирону Петровичу!.. – поприветствовал, в свою очередь, я владыку дома, подавая ему руку, и владыка дома сейчас же закричал:
– Жена! Иван Петрович пришодчи… Пожаловали… В кои-то веки…
Как бы по щучьему велению, после этих хозяйских слов, стала предо мной супруга Мирона Петровича с подносом в руках и, ласково улыбаясь и кланяясь, потчевала меня:
– Извольте-ко! С дорожки-то, выкушайте…
– Ну-ко, ну-ко-сь! – торопливо упрашивал хозяин. – В сам деле, с дорожки-то… Теперича если с морозцу-то… Ну-ко-сь!
Я выпил.
Поднос плавно обернулся ко мне своим другим углом.
– Ну-ко-сь! Ну-ко вторительную… Хе-хе-хе-хе!
– Мирон Петрович! подождите, голубчик! Закусить нужно.
– После эфтой уж закусите, – мягким тоном упрашивала хозяйка. – Без того и к столу не пущу.
– Вот это так! Вот это по-нашему. Так и не пускай, потому ты здесь, одно слово, хозяйка…
– А то кто же? Ты без меня-то пропал бы совсем… Кушайте-ка!
Я вступил во вторительную.
– Бежи-ка, Мирон Петрович, за пирогом поскорее, – приказала супруга. – Они вот выкушают у меня еще третью, да уж тогда и закусят.
– Ха-ха-ха-ха! – радуясь изобретательности своей половины, раскатился Мирон Петрович и стремглав бросился за пирогом, с которым через секунду и стал передо мной, как лист перед травой.
– Ну-ко-сь! Всю, всю, всю! – подталкивала мою руку гостеприимная хозяйка и, таким образом, помогала ей опрокинуть в горло третью рюмку. – Всю, всю, всю! Нечего на кудри-то оставлять. Вы и так у нас кудрявы. Ну вот, так-то лучше! Теперь и в компанию милости просим, гостек дорогой!
– Так-то лучше! – подсмеивался тоже и Мирон Петров. – А то захотел дом без Троицы строить{252}252
А то захотел дом без Троицы строить… – Имеется в виду пословица «Без Троицы дом не строится», употреблявшаяся в контексте «Бог Троицу любит».
[Закрыть]…
Та ласка, с которой ввалили в меня сразу три громадных рюмки померанцевой водки, принудила мой организм с каким-то особенным удовольствием смотреть на все окружавшее меня. Теплота и комнаты, и влитого в меня спирта разлилась по всему моему телу и, расположивши глаза мои к самому розовому созерцанию, поминутно вызывала на мои губы нежнейшие улыбки. Сознавая, так сказать, милую неуклюжесть этих улыбок, я в одно и то же время и старался спугивать их с моих губ, и сердился на себя, зачем спугиваю, конечно, с отличной основательностью рассуждая при этом на следующей глубокомысленный манере:
«К чему тут сдерживаться? Это мир не такой!.. Все здесь так беззлобно, так просто… Веселятся люди эти редко, да зато от души…»
Улыбка, нежнейшая паче только что согнанной мной, снова, алым розаном, расцветала на губах; а хозяйка, как бы отгадывая мои молчаливые думы, уже стояла передо мной со своим фатальным подносом, на котором, вместе с дымящимся чаем, блестела и новая рюмка.
– У нас просто, – отвечала в лад мне угостительница. – Кушайте-ка… И когда я протянул было руку к тому углу подноса, на котором стоял чайный стакан, она грациозно повернула подносом, и рука моя вместо чая схватилась за рюмку.
– Перед чайком-то! Прошу покорно.
– Ну-ко-сь, Ну-ко-сь! – по своему обыкновению, торопливо подсказывал хозяин. – Ну-ко, ну-ко! Вот и я с вами для компании…
– Тебе-то не довольно ли будет? – спрашивала хозяйка, повертывая перед сожителем своим подносом таким манером, что рюмка, как молния, мелькала только перед носом сожителя, а в руки ему, как привидение, не давалась.
Эти супружеские эволюции производили в гостях наиприятнейшего качества дружественный хохот.
– Ха-ха-ха! Хи-хи! Хэ-э-э! – раздавалось в разных углах комнаты сдержанное грохотанье, покрываемое несколько насмешливыми трубными возгласами прачки-Петра, выкрикивавшего свое обыкновенное: тру-ру-ро-ри-дри!
– Ну, будет уж тебе! – ласково упрашивал хозяин. – Совсем ты меня ноне, девка, измучила.
– Ну, бери, да смотри ты у меня!.. Это последняя.
– Дело! – плутовски подмигнул хозяин. – Последняя у попа жена. Так ли я говорю, Иван Петрович?
– Так! – согласился я, стоя с рюмкой в руках. Хозяин чокнулся со мной, и мы выпили; а прачка-Петруха, точно как бы нарочно для сей цели нанятый трубач, оттрубил это выражение нашей дружбы сугубо варьированным маршем.
Пошло круговое потчевание, сопровождаемое супружескими понуканиями в обыкновенном роде: «ну-ко, ну-ко-ся, по всей!»
– Да, милые, – вырывался чей-нибудь утружденный голос, – ведь я уж пятую. Сейчас умереть, невмоготу!
– Бона! – вскрикнул хозяин, – сичас уж и считать принялся. Без пяти просвир обедня-то рази служится – а? Хе-хе-хе!
– Ах, забавники! Ах, потешники! – согласно гудел хор гостей в похвалу этих присловий и поднесений.
– Мы – потешники! – многозначительно хмыкал хозяин, соглашаясь с комплиментом гостей своей способности потешать их.
– Кого же нам и забавлять-то, как не дорогих гостей? – добавляла хозяйка. – Рази они у нас часты – гостьбы-то?.. Нет, по нонешним временам, часто-то не разгостишься…
– Где разгоститься! Нет, ноне времена-то… – с некоторой жесткостью в мягком голосе продолжил будочник Илюша хозяйкин протест против нынешних времен.
Трое рослых, с громадными, мозолистыми руками, столяров, живших в работе у Мирона Петровича, и которые, как гости не главные, давно уже без речей сидели вместе с Илюшей в дальнем углу комнаты, но теперь, при слове «нонешние» времена, тоже заявили свое присутствие, с какой-то скорбной отчетливостью заговоривши в один голос:
– Нонешние времена-то, ежели, к примеру, правду-то матушку говорить, – не-ет! В их не зарадуешься… Не с чего…
– Куша-кос! Берись, дядя Трофим!.. Дядя Микит! качни-ка во славу Божию! – подскочила и к этой полузабытой группе угостительная хозяйка, как бы утешая ее в ее прискорбии, по случаю негодности разнесчастного нынешнего света.
– Ах, ваше степенство! Мать ты наша! Без тебя што бы наша за жисть? – какими-то тягучими, так сказать, рабскими басками взывали столяры, вливая в себя, в некотором роде, предлагаемое.

Продавец кваса. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция
Хозяин между тем на разные манеры прыгал предо мной со своим, еще несмысленным, наследником, поднимал его на руках к самому потолку, агукал, заставлял плясать русскую, причем и родитель, и я, и сидевшая с нами какая-то старушка-купчиха, очевидно, самая почетная гостья, изображали из себя тилиликающих губами разные вариации музыкантов; а ребенок, повинуясь отцовским рукам, семенил ножками и блаженно улыбался. Я, – трудно мне в этом признаваться печатно, – улыбался еще блаженнее…
– Наследник-с, Иван Петрович! – взывал Мирон Петров, лаская ребенка. – Как есть, законный наследник! Все для него… А-ах-х, милый барин! Одна только утеха и есть – он-н!
– Ну тоже эфти наследники! – вступилась в наш разговор почетная старушка. – Тоже ими, Мирон Петрович, я тебе прямо скажу, подождать надоть хвастаться-то… Я вот вам расскажу про наследника-то про одного, – пообещалась старушка, обращая свою речь ко всей компании. – Была я, голуби мои, вот тоже по нонешней осени в гостях у одной – у богатой. И вижу я: входит в залу барин какой-то, молодой еще, с черной с эвдакой козлиной бородкой, в золотых очках. Поддевка, этта, на ем, ангелы вы мои, такая короткохвостная, что как только он, этта, спиной обернется, так все со смеху и покатываются. Я и спрашиваю: чей это, мол, барин такой? Как его по прозвищу величают? А мне и говорят: «Да разве ты не узнала? Ведь это не барин, а Петька Коленкин, у какого, говорят, в городе две лавки». Я и вспомнила, как это при матери его еще при покойнице (дружьё мы с ней были – водой не разольешь!) я его за вихры дирывала. Вспомнила я это и говорю ему: что же это ты, Петька, расканальин сын, заспесивелся? Поди-ка ты, мол, сюда, – я тебе, по старой памяти, волосья-то твои напомаженные своей рукой завью. А он, разбойник силы небесные! тому ли, как вспомнишь, злодея эдакого отец с матерью учивалили, – а он, разбойник подошел и смеется. А? Над старым-то человеком?.. Вертит, вертит вот эдак, золотые мои, хвостом-то своим и смеется. Я ему и говорю: что же это ты, Петрушка, али забыл, как с вашим братом старые люди за такие дела расправляются?.. И все нет тебе от него, от паскудника, почтения! А все это смех один, все смешки, – так это на губах бегают одни смешки, милые мои, а нет тебе ни единого слова. Вот они как, эти наследники-то!
– Ай-ай-ай! – удивились гости Мирона Петровича великой обиде старушкиной.
– Вот так-то, – продолжала старушка. – Ну, признаться, я уж тут и не вытерпела: бросилась так-то на него, вцепилась одной рукой в кудрясы-то, а другой по щеке, да по щеке…
И что же, голуби вы мои? Бросились, этта, растаскивать нас, – тащут так-то меня от него, говорят: будет вам, тетенька, будет, Марья Петровна! А я-то не пускаю, потому и замерла-то я, и учить-то без родителев, чувствую, надо; а он тоже шумит, как невтерпеж-то ему пришлось: «Возьмите ее, старую дуру!» Вырвался, отошел и опять ведь его, искариота, опять-таки в прежний смех вдарило. Стоит и смеется, – смеется и говорит: «Каких зверей ни видал, а эдаких не пришлось посмотреть…» Вот тебе и наследник! – как бы пропела старушка, преимущественно обращаясь к Мирону Петровичу, и затем заговорила с новым одушевлением:
– После того нашлись добрые люди, шепнули мне: «Что вы, Марья Петровна, с эфтим олухом царя небесного связываетесь? Ведь на него все давно рукой махнули, потому он все книжки читает и фанаберии{253}253
Фанаберия – спесь, надменность.
[Закрыть] этой ученой, словно бы черт какой, набрался. Скоромное по постным дням жрет…» Матерь Божия! – вскрикнула я, услышамши это, и опять на него. – Что же это ты, мол, Петька, делаешь? И тут ведь не допустил – такой клятой! Упер ручищами в это самое место, прямо-таки в грудку наставил – и говорит: «Будет, будет, стар человек, а то ведь в суд потащу…» Как услышала я это, терпела, терпела все от него, а тут уж и заговорила: будь же ты от меня, отныне и до века, анафема проклят! Родители если бы твои видели теперича, они бы то же с тобой, с разбойником, сделали. «Вот это дело!» – он мне в ответ послал и опять засмеялся… И ведь, ангелы вы мои, что пуще всего душу-то воротит во мне, ведь сердца-то этого в нем (когда бьешь вот кого-нибудь, так видишь, что злится на тебя человек), – ведь этого-то в нем, вот бы в камне ровно, ни чуточки нет. Такой-то проклятый! В кого уродился только?..
– Ну-с, так вот тебе и наследник! – закончила наконец словоохотливая старушка свой длинный рассказ, снова обращаясь к Мирону Петровичу.
– Д-да! – задумчиво произнес хозяин, осоловелыми глазами пристально вглядываясь в головку сидевшего у него на коленях сына, как бы стараясь наверное отгадать, наберется ли впоследствии его наследник такой же фанаберии, какой набрался распроклятой Петька Коленкин.
Какая-то тяжелая пауза царила в комнате, – одна из тех пауз, когда люди, ажитированные{254}254
Ажитированные – разгоряченные, возбужденные.
[Закрыть] разговором о каком-либо особенно интересном предмете, вдруг почувствуют, что тема исчерпана до конца, – и долго сидят они тогда молча, со взволнованными лицами, – до тех пор сидят, пока кто-нибудь из общества поумнее снова не зажжет еще более одушевленного спора какой-нибудь новой мыслью, хватающей предмет с более широкой стороны.
То же было и с нашей паузой. Ее прервал хозяйский выкрик, обращенный к жене.
– Ну-ко-сь! Ну-ко-сь, Матренушка! И магический поднос снова пошел в кругокомнатное путешествие.

Москва. Женщины покупают мануфактуру у уличных торговцев. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































