Текст книги "Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы"
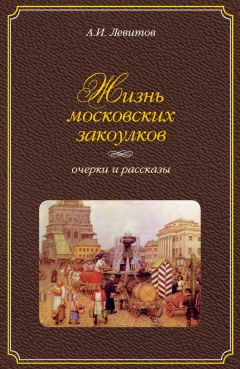
Автор книги: Александр Левитов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
V
То поднимаясь на высокие холмы, то спускаясь с них в широкие и грязные площади, медленно валила за крестным ходом громадная сила народная. Общее дыхание ее, долетавшее, казалось, до далеких небес, обманывало близорукий глаз видимой крепостью груди, из которой вылетало оно, потому что главная нота в этом громовом гуле толпы до смерти сокрушала чуткое ухо своей необыкновенной, медленно и мучительно убивавшей, печалью…
– За-а-ступ-ница усердная! – вскрикивала маленькая, изнуренная бабенка, с желтоватым, сморщенным лицом, выделяясь из толпы на дорогу, по которой длинной цепью тянулись экипажи и парадировали жандармы. Высоко подняла она руку, чтобы перекреститься на высокую хоругвь.
– Эй! Куды под экипажи лезешь? – предостерег ее бравый жандарм, манерно потряхиваясь на лошади и побрякивая, вследствие этого, палашом.
– Ах, милые! Я и не знала… – запугалась бабенка, как бы каменея на опасном месте.
– Па-а-ди! Стар-ронись, баба! Эй, женщина, берегись! – на разные лады выкрикивали бородастые кучера.
– Что же ты? Что же ты расселась-то здесь? Задавят сейчас! – говорил жандарм, командирски помахивая на бабенку своей белой перчаткой.
– Рада бы, рада б я сейчас отсюда, кормилец, да не знаю как. Трясутся у меня поджилки-то, ноги-то у меня не стоят. Испугалась я тебя.
– Ну-ну, бог с тобой! Поднимайся, – я тебя не трону, проходи. Ах, какие эти бабы чудные! – подивился жандарм, догоняя товарища. – Как они нас боятся! Не в пример пуще пехоты боятся.
– Как же им нас не бояться? – ответил товарищ. – Одно слово: лифантерия! Опять же ты-то возьми в расчет: то человек на коне сидит в тонком платье, при белых перчатках, а то так человек – пешком, в серой шинели. Что ж его бояться-то?
– Верно!
Из узкого бокового переулка выскочил вдруг пожилой мастеровой в синей чуйке, с длинной черной бородой, с унылым лицом, смотревшим как-то вкось. Долго смотрел он на крестный ход, любопытно провожая его мутными глазами, потом вдруг повалился в ноги какой-то старушке, вместе с другими пробиравшейся за процессией, и с обильно полившимися слезами закричал ей:
– Бабушка! прости ты меня, Христа ради! Не взыщи ты с меня, стар человек! Для бога не взыщи! Видишь вон, святые образа идут, священники, бабушка, из всех церквей даже собрались…
– Пусти-ко, пусти-ко ты меня поскорее, мастеровщина! – испуганно отбивалась от него старушка. – Что, я тебя трогаю разве? Вишь, для праздника начесался!
– Бабушка! я ничего, я ей-богу ничего! – продолжал взывать мастеровой. – Я не начесался, а потому как я имею добрую душу, жалосливую, я и сказал хозяину: «Что это ты, мол, хозяин, в праздник нас работой трудишь? За это тебе на том свете худо придется». Я ему из жалости сказал, а он в морду… За что? Нет, стой! Погодишь немного в морду-то. Ноне за это строго…
С легкими смешками и над приостановленной старухой и над мастеровым провалила толпа дальше, а сам виновник этих смешков тут же уткнулся под забор в мокрую траву и бормотал:
– Я ведь ему из жалости… Я ведь правду сказал, что грех, что праздник, мол. Ан оно по-моему и вышло: со всех церквей собрались, празднество большое, а он работать… Не-е-т! Не очень-то тебя за это жаловать будут…
В то же время в дорогой коляске Переметчикова, следовавшей за ходом, самым сладким образом разговаривая между собой, сидели сам Абрам Сидорович Переметчиков и вчерашний старичок-чиновник.
– Я тебе, Абрам Сидорыч, не все вчерашнего числа рассказал, – поучал старичок, – потому при людях неловко было. Старые люди советуют, чтобы как можно меньше народа знало про такие дела. Посоветовал я тебе взять кого-нибудь на призрение, только что же с этого будет? Мало ли благодетелей, какие на призрение к себе бедных людей берут? Самое главное в нашем разе, чтобы как-нибудь нам так исхитриться, чтобы никто не приметил и не догадался, как и за каким делом мы того человека брать будем. Попросту сказать ежели, без затей, так – как бы украсть надо. Да! Действительнее так-то. В старину так делывали, потому ведь незаправское воровство, – значит, стыда тут нет никакого. Понял?
– Понял! – утвердительно отвечал Переметчиков.
– Ну, хорошо! Теперь, ежели нам матушка-Царица Небесная в этом деле поможет, умей ты так поступать с несчастным, чтобы беречься тебе от разоренья его счастьем и благочестьем. Тут опять, сказываю я тебе, по старине поступай: как молодцы пойдут в лавку, так чтоб они беспременно с собой убогого человека прихватывали, для того, чтоб он самым первым покупателем был. Примерно сказать, на гривенник ли, или же хота на семитку, только чтоб убогенькому прежде всех товару какого ни на есть отпустили. Верь ты мне: отбою не будет от покупателей.

Столовая в арестантском доме. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г. Государственная публичная историческая библиотека России
– Ах, друг ты мой великий! – восклицал Переметчиков. – Чем я тебе за твои благодеяния отплачу только?
– Благодарность что? Нам не нужно ее, – нам лишь бы хорошему человеку хорошее сделать. Ты вот теперь высматривай получше человека-то.
– Во все глаза смотрю, окромя как пятеро молодцов приказ от меня с самого утра получили, чтобы как только увидят что-нибудь подходящее, сейчас же мне бы докладывали.
– Ну, это чудесно! – похвалил приказный купеческую предусмотрительность, затем он перекрестился и с набожным и вместе с тем решительным вздохом, означающим приступ к самому делу, окончательно отдал это дело во власть Божью, проговоривши: с Богом!..
И было тут много людей, которые бросались в неопытные глаза Абрама Сидоровича своим убожеством, ранами, железными посохами, нечеловеческими криками; но старичок упорно отвертывался от обыденного страдания и, на рекомендацию купца – взглянуть на ползающую по грязи старушку или на перекошенного параличом и безрукого мужика, сердитым, наставительным тоном говорил:
– Не наша! Не наш!
Порой к коляске подбегали уставшие, запотелые молодцы и впопыхах докладывали:
– Видел я, сударь Абрам Сидорович, сичас паренечка одного, – ах, жалости подобен! Глух и нем от рожденья, язвины этта на ем все тело покрыли, – смотреть страсть! Только, этта, улыбка у него по лицу беспрестанно ходит, и такая-то улыбка райская! Ах ты, Господи, подумаешь, до какой святости человек дойдет!
– Кажи сюда! Приведи его к нам как бы за милостыней! – командовал приказный.
– Такие ли есть? Не наш и этот! – говорил он, когда молодцы подводили, или даже подносили к коляске какого-нибудь парнечка, глухого и немого от рождения и, кроме того, с язвинами на всем теле.
Со всех, кажется, бесчисленных сел и деревень, как бы на какую выставку, собралось в Москву русское горе и русские лютые болезни. Целые сонмы прихожих баб-богомольщиц, в неописанных рубищах, с неизъяснимо-убитыми, как у подстреленного зайца, испуганными лицами, спешили за ходом, втихомолку собирая копеечки и грошики. Бабы московские, нищие по ремеслу с самого малолетства, бойко шныряли в толпе, привычным глазом отыскивая людей, подающих по пятачку и по гривенничку. Как пчелы, в этом нищенском рое визгливо жужжали свои просящие выкрики сборщики «на церковно построенье», позванивая в колокольчики, погромыхивая белыми оловянными кружками, до краев наполненными медными деньгами. Какими-то судорожно-поспешными шагами там и сям мелькали неизвестные люди в особенной, полудуховной одежде, в высоких плисовых, поношенных шапочках, – серьезные какие-то люди, у которых у всех до одного человека были почему-то необыкновенно большие, навыкате, глаза, сердито и быстро обстреливавшие толпу. Расслабленные и убогие всякого рода шли и ползли длинными вереницами; безногих и безруких везли в маленьких тележках; а по углам улиц и переулков, по которым плыло шествие, по двое и по трое стояли еще люди, молчаливые, неподвижно стоявшие, как говорится, по струнке, с большими усами, с каким-то строгим выражением в глазах. Безмолвно, порой только едва приметно подергивая седыми усами, смотрели они на публику, да и публика тоже не без любопытства смотрела на их деревяшки вместо ног и на рукава, пристегнутые к пуговицам вместо рук.

Ночлежный дом Е. П. Ярошенко на Хитровом рынке. Фотография начала XX в. Частная коллекция
– Где ты, братец, лишился ноги? – спрашивает какой-то чиновник в скомканной и облезлой шляпе.
– В 48-м году, сударь, ходили когда… – начал было говорить человек тихим басом.
– А-а! – восклицает удовлетворенный чиновник и, не дослушав, убегает. Усы на секунду пошевелились было, как бы недовольные чем – и только! По-прежнему осталась безмолвной и бесстрастной позитура, в которой всегда подобает стоять храброму и неторопливому солдату…
Мимо всего этого равнодушно проехали наши искатели. Старичок продолжал налагать на эти, так долго не забываемые, лица свои немилосердные резолюции: не наш! не наш! Наконец к коляске подбежал главный приказчик Переметчикова, из всех сил старавшийся угодить хозяину.
– Ну, что? Нашли?
– Нашел, судырь! – сияя радостью, вскрикнул приказчик. – Уж истинно, что благодать. Рта нет…
– Как нет? – вмешался удивленный чиновник. – Неужто совсем нет?
– Так только, судырь, одно званье что рот… Вот увидите сами.
– Веди скорее, да не болтай там! – посоветовал опытный старик и затем, обратившись к кучеру, дал ему такого рода нотацию:
– Слышишь, Лука? Как только я скажу тебе: трогай, – валяй во все лопатки. Дело не шуточное. Держись крепче, Абрам Сидорыч! Господи благослови! – сотворил наставник окончательную молитву, и в это время не только кучер или седоки, а, кажется, самые купеческие лошади затаили дыхание.
Под конвоем переметчиковских молодцов медленно подвигались к нашим друзьям две, очевидно деревенские бабы, но в той нелепой, против воли заставляющей всякого покатываться со смеху, городской одежде, в которую мужики, а пуще бабы с претензиями походить на господ, облекаются тогда, когда им удается зашибить где-нибудь лишнюю копейку. На их головах были полинялые ситцевые платки, на плечах, как говорят, пальты, брошенные средней руки горничными или модистками, не получающими содержания от придмета, на глазах слезы, на лицах благоговейное умиление. Они, парадно подхвативши под руки, вели что-то такое, чему, при первом взгляде, нельзя было дать решительно никакого названия. До такой степени не походило на человека существо, имевшее своим счастьем спасти богатейшего московского купца от чудищ, которые так долго нашептывали ему страшную песню про разорение.

Старая карета на московской улице. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция
Рта у приведенного существа действительно, как объявил главный приказчик, не оказалось, а было вместо него какое-то небольшое красноватое отверстие, освещенное постоянным светом мертвой, безвыразительной улыбки. С головы на плечи и на спину, вместо волос, спускался какой-то скучившийся, отвратительный войлок сизого цвета. Красное, все в швах и и шрамах, лицо его было исковеркано и изорвано, словно в борьбе не то чтобы с заклятым врагом, а с диким зверем. Ноги, едва сдерживая тощее туловище, тряслись ежесекундно, а при ходьбе так странно хромали, что издали можно было подумать, что идет кто-то до того несчастливый, который на каждом шагу попадает в глубокие, скрытные ямы, проворно вылезает из них и снова падает.
– Вот, судырь, извольте взглянуть! – самодовольно рекомендовал приказчик Переметчикову свою находку.
– Батюшки! Гос-спо-ода, бояре честные! сотворите свою святую милостыню убогому сиротинке… – запели вожачихи протяжными и плаксивыми голосами.
– Поистине такого страдальца найти нигде невозможно, – продолжал приказчик. – Зато, сказывают, и взыскан же он… Однажды, вот они говорят, воспророчествовал даже…
– Хо, ххо, ххо-о! – Не то засмеялся, не то заплакал несчастный, причем его всегдашняя улыбка не слетела с его ничуть не изменившегося лица. – Ххо, хо, ххо! – продолжал он, протягивая обе руки к купцу и его приятелю.
– Вот от него только и слов слышим! – сокрушенно доложили вожачихи.
– Ничего больше не говорит? – в какой-то тихой задумчивости полюбопытствовал Переметчиков.
– Ни словечушка.
Старичок-приказный выразительно моргнул в это время молодцам, те схватили юродивого под руки и мигом посадили в коляску.
– Пошел! – закричал воротила всему делу, и Лука резко щелкнул вожжами по спинам породистых рысаков.
– Держи, держи! – раздались за коляской крики баб, потерявших вместе со своим питомцем все возможности одеваться в пальты и ходить в кабак, когда вздумается.
– Держи, держи! – заревела толпа, бросаясь куда-то с обольстительными надеждами поймать жулика и исколотить его до полусмерти.
– Ах, дьяволы! Ах, черти! – орали бабенки. – Эти купцы-черти всегда так-то для счастья у нас блаженных воруют. Чем только мы, горемычные, кормиться будем теперича? Ах, идолы толстомясые! Еще ль мало у них деньжищев эфтих идольских!..
– Слава тебе, Господи, слава тебе! – согласно взывали, под грохот экипажа, Переметчиков и старый приказный, а убогий смотрел на них своим мертвым, освещенным безумием лицом и кричал:
– Хо, ххо, ххо-о!
VI
Стал наш Абрам Сидорович после описанного случая жить, поживать, да, как в сказке рассказывается, добра наживать.
Покупатели толпой наваливались на его лавки: шла в них неугомонная, беспрестанная толкотня и, пожалуй, даже такая толкотня, за которой, по пословице, не угоняешься. Самому паскудному парнишке ничего не стоило выхватить из лавочных касс зеленую бумагу и, сообразуясь с темпераментом, или спрятать зашибенную копеечку про черный день, или задать ею тону в горячем трактире.
Чудищ, некогда пугавших Переметчикова, как не бывало. Стал купец еще более блажен и благословен, чем был прежде; рассказы благоприятелям про святость, которую он, по словам его, хранил в палатах дома своего, сделались и шумнее и, так сказать, воззвательнее…
– Воистинну, – покрикивал он уже не в безобразном запое, а так только, пьяненький малость, – воистинну, объял меня свет и увидели очи мои согрешенья мои… О Б-б-о-оже! Ребята! приведите Гаврилу.
И ребята приводили Гаврилу, и Таврило, поскакивая по гладкому паркету залы, как по глубоким ямам, разбивал эту мрачную тишину, воцарявшуюся всегда при его появлении, своим обыкновенным криком:
– Хо, ххо, ххо!
Находились любители и знатоки, умевшие понимать Гаврилины речи и подслушивать в них самое малейшее уклонение от всегдашних возгласов. И одним утром истолковывали эти любители и знатоки Гаврилино: хо, ххо, – так, что это значило: хорошо, хозяин, хорошо; а другим утром в этих же самых изречениях они подмечали, что юродивый говорит: худо, хозяин, ох, худо! И береглись тогда все в доме, начиная с хозяина и кончая лихим подкучером, таким мастером сочинять новые стишочки.
Долго таким образом тянулось это благоденствие и протянулось бы оно на веки вечные, ежели бы не существовало пословицы, говорящей к великому людскому сокрушению: нет ничего вечного на земле, о люди!
Однажды Абрам Сидорович услышал в своей передней большой шум. Ему послышалось, что в ней происходила рукопашная, – вследствие этого, воскипевши своим праведным, хозяйским гневом, он сердито вскрикнул:
– Афонька! что это у тебя в передней за возня такая? Уши все, шельмам, оболтаю пойду.
– Да вот, сударь, – заговорил Афонька из-за притворенных дверей, – неизвестный человек какой-то беспременно вас видеть хочет. Говорит: двери все расшибу, а уж дойду до хозяина, потому, говорит, важное дело.
Вслед затем двери, ведущие из передней в зал, с шумом распахнулись и гневно-изумленным очам Переметчикова предстал некоторый молодец, высокого роста, в длинном нанковом сюртуке, перетянутом черкесским, с серебряным набором ремнем и, вдобавок, с серьгой в левом ухе.
– Ты что за человек? – сердито спросил его Переметчиков.
– А я – липецкий мещанин, Кондрат Добыча, – отрекомендовался молодец, встряхивая враз и густыми волосами, и золотой серьгой. – К вашей милости по дельцу пришли.
– Ах ты такой-сякой! – закричал на Добычу купец. – Да я тебя, шельма, в часть сейчас отправить велю. Как ты смеешь драться в моем дому – а?
– А нам не только что в часть, – беззаботно ответил Кондрат, – а, примерно, ежели в острог, или на каторгу, так нам все единственно, потому рази там люди не живут?.. Сами вы, ваше степенство, извольте рассудить!
– Что ж тебе надо?
– А надо мне, как перед истинным Создателем моим говорю, так и перед вами, – надо мне этого Ветчинникова в тартарары упечь – вот что мне надо! И в этом я вам помощь большую могу оказать, по тому хоша он и говорит, что кучер его первый силач в Москве, только рази он против меня может сустоять?
– Да ты об чем разговариваешь-то?
– Все об том же: без меня Ветчинников вас совсем задолеет, потому кучер у них точно что гора-человек…
– Да за что же мне с Ветчинниковым ссориться, голова?
– Как за что, судырь – ваше степенство? – спросил Добыча в большом изумлении. – Рази я вам не говорил? Ведь Ветчинниковы беспременно решились нынешним месяцем украсть у вас отца-Гаврилу (слава юродивого разнеслась уже так далеко, что многие звали его не иначе, как отцом-Гаврилой).
– Как? – завопил Переметчиков, – отца-Гаврилу? Бо-оже! Что же это такое?
– Так точно-с, потому зависть… Бедняют они очень… Они было себе, доложу я вам, тоже подцарапали мать-Христинью, но нет, все плохо! Души-то у них очень уж того… иродские…
– Почем же ты знаешь об этом? – тревожно спрашивал Абрам Сидорович. – Как ты намеренья их отгадал воровские?
– А как они, эти самые Ветчинниковы, зная мою силу и ловкость, призвали меня к себе и говорят: так и так, Добыча!
Зная мы твою силу и ловкость, приказываем одному тебе всей этой командой заправлять. Ты, говорят, у нас один в ответе за все про все будешь… То есть понимаете? Насчет этой кражи-то у вас они мне наказ дают – а? Я им в ту ж пору ответ стал держать: это, мол, я могу, потому и в ратниках когда был, так девок, или баб для господ-офицеров воровывал. «Что с нас возьмешь? Наше дело мещанское, работное…» Только, говорю, господа, за эдакое прокуратство пожалуйте мне сто на серебро, и опять же – деньги сейчас налицо. Потому, сами вы рассудите, ваше степенство, ежели бы меня за эти дела стегать принялись, что б я без денег-то делать стал?.. Ну-ка?
– Так, так, – согласился сильно озабоченный Переметчиков. – Это ты верно…
– Истинно, что верно, ваше степенство! А Ветчинниковы на такие мои слова что же сказали? Так это удивительно даже, однова дыхнуть! Сказали мне Ветчинниковы: «А-ах ты, говорят, шаромыга! Да сам-то ты и с потрохами с твоими стоишь ли сотню рублев? Да у нас, говорят, кучер Исай один вас таких-то троих за пояс заткнет. Ведь мы тебе за тем и велели прийти, чтобы дать тебе, гольтяпе, какой ни на есть хлеба кусок». Ладно, думаю про себя, ладно. Покажу я вам Кузькину мать. Потому зачем же они врут? Зачем они тем враньем человека обижают напрасно? Да рази я их кучера-то этого хваленого не разутешивал? Слава богу! Я ему, ваше степенство, в полпивной однажды, вот тут у Серпуховских ворот, сейчас умереть – не вру, кэ-эк дам в башку, так он с час сидел, словно бы обалделый какой. Точно что, признаюсь, дербанул{295}295
Дербанул – ударил.
[Закрыть] я его внезапу, сзади зашодчи. Все же, однако, рази его можно за это похвалить?
– Так, так, – ободрял Переметчиков. – Кому много дано, с того и взыщется много.
– Верно! Только я все же, – продолжал Добыча, – не дал обиде моей верха над собой взять и говорю Ветчинниковым: прикажите, мол, нам с вашим Исаем силу попробовать: борьбой ли, или, мол, на кулачки. А сам, грешный человек, мыслю в душе моей кучера того разнесчастного так угодить, так это, разметываю в своем уме, разутюжить его – сударика… Проникли купцы такое мое намерение и, опасаясь срамоты, какую, верно вам докладываю, я бы на их похвальбу кучером своим напустил, – сейчас же напали на меня с великим многолюдством – и со двора в шею. Грозились тоже они на меня всячески, когда били: «в сибирке, кричат, сопреешь, ежели словом одним заикнешься об нашем умысле Переметчикову». Теперь одна надежда на ваше степенство, т. е. насчет чести, потому раскассировать кого ежели, так я и один много народа могу раскассировать.
– Спасибо тебе, Добыча, за верную службу, – поблагодарил лихача Переметчиков. – Отныне ты мой раб. Сейчас мы с тобой к частному едем, там ему обо всем доложим и солдат возьмем на подмогу, дабы нам в полной безопасности быть.
– А это вы напрасно изволите, – посоветовал Добыча.
– Насчет чего?
– А насчет солдат, потому что же такое полицейский солдат? Одно слово: крупа! Рази он может сустоять, нетокма против меня, или бы даже кучера Ветчинниковых?.. Сичас он, можно сказать, от одного моего щелчка с копыт вверх тормами должон лететь, потому солдат – служба… Он, ваше степенство, кажинный день в чижолой работе и опять же на легких хлебах…
– Так как же мы с этим делом управимся?
– А так и управимся, – решил Добыча. – Я теперича все разузнал, какая у них, Ветчинниковых, команда будет. Первое – кучер. Его я, глаза лопни, с одного наскоку подомну под себя. Другое – Курилкин Иван – мясник. Его тоже пробовал я: по бревну разобрал. Третьим теперича у них – Бучилов Анкудин. Действительно, этот прежде силен был, только я ему еще в третьем году, на кулачном бою, на Крымке-с, левую руку сломал. Я уж и говорил ему: ты, говорю, Анкудин, на одну руку-то не очень надейся. Остальные все – сволочь, поголовная сволочь! – добавил Добыча. – Не извольте их опасаться, ваше степенство. Мне их на одну руку мало.
– Да ведь все же ты один? – возражал Абрам Сидорыч. – Как же ты один против них всех пойдешь?
– А тоже и мы своих молодцов наберем, из ваших, потому вся сила во мне, а им на гулянках ничего – поразмяться для скуки… Да, право, ей-богу! Ведь им, ваше степенство, тоже небось жалованье платите?
– Как же! Как же!
– То-то и есть! Опять ежели ваши молодцы очень уж слабосильны, так мы ломы возьмем, дубье, потому ведь и они тоже с колами и дубинами прикатят. Вот мы их впустим в сад-то, дадим им на келейку-то отца-Гаврилы взглянуть, чтобы недаром им проезжаться, а там уж и с Господом!..
– Молодец Добыча! – похвалил его Переметчиков. – Ступай в куфню… ешь и пей там, что только твоя душа пожелает.
– Осмелюсь спросить, ваше высокоблагородие, – заговорил Кондрат, после хозяйского приглашения, мгновенно меняя и титул, с которым он относился к Абраму Сидоровичу, и свое собственное, необыкновенно мускулистое, дожелта загорелое лицо, на кроткую физику ягненка, – осмелюсь спросить у вашего высокоблагородия деньжонок малость на расходы: сапожишками вот пообносился, опять же на родину думаю жене с ребятенками послать. Семеро их у меня, ваше высокоблагородие, мал мала меньше.
– Можно, можно, дружок! – покровительственно принял эту просьбу Переметчиков и подал деньги. – Я умею награждать верных рабов, – важно закончил купец и как будто он был в самом деле вашим высокоблагородием, парадным шагом отправился во внутренние апартаменты, самодовольно посматривая в зеркало на свою закинутую вверх голову и на свои по-майорски вздутые щеки.
– Счастливо оставаться, ваше высокоблагородие! – окончательно потешил его Добыча, живо юркнувший в переднюю, с целью прямо оттуда пробраться в какую-нибудь пивницу, где он во всякое время любому может насандалить рожу, чупрыснуть в едало, закатить под микитки, разуважить в бок и проч. и проч.
* * *
Закончилось дело в непроглядную осеннюю ночь. И была эта ночь, пожалуй, во сто раз ненастнее, угрюмее и дождливее того осеннего утра, в которое началось дело. Так сказать: тьма тьму била в сыром и как бы горько истосковавшемся о чем-то воздухе. Дождь лил, как из ведра; ветер выл совершенно понятные слова:
– Вот я вас! Ого-го! Огу-гу-гу! Вот я вас!
Фонари, освещавшие столицу, так-то жалобно, так-то скорбно моргали, словно бы старались удержать незримые и неведомые Московской думе слезы свои, которая, в жестокосердии своем, отпускает им так мало посконного масла, называя его и спиртом, и керосином, и минеральным маслом, и разными другими почетными и современными именами… Жалобы фонарей, точно так же, как и взвизги ветра, можно было очень ясно расслышать. Они плакались:
– Что же мы с такой темной ночью поделаем?.. Ничего!.. И тут они расставляли свои тонкие, кривые, железные руки с видом человека, сильно недоумевающего, и глубоко вздыхали; а улица оставалась по-прежнему такой темной, что зги не было видно, и дождь тоже хлестал, и ветер громыхал жестяными крышами, и, разбуженный этим громыханием, будочник, как и вчера, глубоко, протяжно и громко зевал и секретно поверял пустой улице такие слова:
– Одначе, как много дьяволов завелось на потолке у мещанки Кривохвостовой. Надо ей об этом беспременно завтра сказать… Все, может, разорится она на шкалку за такой доклад.
В такое-то время из густого сада, опушавшего дом Переметчикова, над которым, как бы не в пример прочему, особенно гневно раскинулось сердитое осеннее небо, – в это время, говорю, из сада на улицу светились тонкие, но частые огоньки от свечей и лампад, затепленных пред образами в уединенной келейке отца-Гаврилы. Они только одни да шум столетних деревьев говорили пустынной и безмолвной улице, что дескать:
– Ах! не одна ты здесь! Поменьше тоскуй.
Улица точно была не одна: на заборе Переметчикова сада сидел Кондрат Добыча и пристально во что-то всматривался.
– Что Кондрат Иваныч, – спросил его кто-то из густых, хотя уже давно облетевших, малинных кустов, – не едут еще?
– Не ори ты, шутова голова! – отвечал Добыча. – Когда приедут, скажу; не все ведь такие зеваки, как ты. Дай-ка я покамест, для храбрости, цопану…
Послышалась выпивка на заборе и вместе с тем сдержанный лошадиный хляск на конце переулка. Добыча соскочил с забора и прерывистым шепотом прошептал малиновым кустам:
– Держись крепче, ребята! Ломы чтобы, главное, наготове были. Как скажу: действуй, – так и валяй.
– Бо-о-же! – слышалось в то же время с тесового крыльца кельи отца Гаврилы. – На враги же победу и одоление….
Несколько голов показалось на том же заборе, с которого только что слез Добыча. Они перешептывались насчет того, кому первому в сад лезть.
– И ни за что не пойду прежде всех… – шептал кто-то, – потому Добыча теперь беспременно у них. Живот вынет, ежели под первый кулак к нему подвернешься.
– О, дьяволы! – вслух проворчал какой-то медвежий бас, и тут же бас этот тучей скатился с забора в густой бурьян, опушавший забор сада. – Идите, лезьте, черти!.. Никого нет.
Головы, торчавшие на заборе, после этих слов все дружно попадали в сад.
– Теперича все вы тут, али нет? – громко вскрикнул Кондрат Добыча, бросаясь на кучера. – Теперича я тебя, Исай Петрович, потешу, я тебя поте-е-шу! Хозяева твои говорят, что сильней тебя во всем свете нет. – Теперича мы поглядим на это, на силу-то на твою, пог-ггля-ядим!..
Тут зазвенели ломы, застучали дубины и раздался страшный, задушаемый голос кучера:
– Дру-уг! Анкудин! Заступись: душит!
– А вот мы и Анкудина попробуем сейчас! – словно черт этой дьявольской ночи, грохотал Добыча. – Я у него теперича другую руку намерен испробовать… – Но оставшейся здоровой рукой Анкудин сокрушил вековой забор Переметчикова сада – и был таков.
– Где хозяева? Где хозяева? – рычал Добыча, как зверь, вывертывая руку у кого-то из поголовной, как он говорил, сволочи. – Сказывай: где? Я кишки из какой-нибудь шельмы выпущу, потому не обиждай занапрасно.
– На вр-р-раги же победу и одоление! – перебивала Переметчиковская молитва костоломную суетню сада.
– Голубчик, Кондрат Иваныч! – кричал человек, которого пытал Добыча, – пусти ты меня Христа ради… Наше дело, все равно как твое, подневольное; а хозяева уехадчи, потому они за забором с лошадьми были.
– А-а-а! – лютовал Добыча! Я бы им, я бы их…
– Охо, х-хо, х-хо! – орал юродивый, вырвавшись из кельи и бегая по капустным грядкам, в которые завалились оставшиеся борцы. – Хо, х-хо!
– Взыскал ты меня, Боже мой, над врагами моими!.. – громко молился на крылечке Переметчиков.
– Уж истинно, что Мамаево побоище! – радостно говорил Добыче главный помощник его в победе, подкучер Дмитрий. – Пошел бы ты, Кондрат Иваныч, попросил бы у черта-то на чаишко. Теперь бы в ночь-то пустить ничего…. Ей-богу! Оченно бы это прикрасно!
– Я и то сейчас подкачусь к нему… – шепнул Добыча. – Только вряд ли даст теперича, потому дело мы ему уж обделали… Они ведь, эти купцы, хоша и неотесы, а надувать здоровы…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































