Текст книги "Это невыносимо светлое будущее"
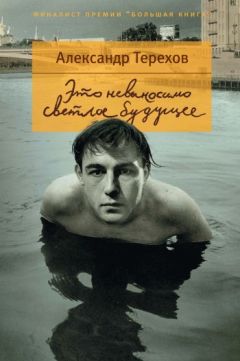
Автор книги: Александр Терехов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Россия – страна кладов Кощея, позарыты на каждом шагу», «Сталинский режим, совершенно вненациональный, даже внечеловеческий, во внешней политике осуществил все чаяния Российской империи. Поэтому старые интеллигенты не могли напрочь отрицать Сталина. Они видели кровь, но ценили силу», «Сталин сделал адскую машину, и она идет по рельсам. Но он никому не сказал, как она устроена. Дергаем за одно, а срабатывает другое». По пути, посреди зимы, согласно кивая, мы ругали урода Ельцина, демократическое быдло, презирающее наше Отечество, и в счастливом облегчении от совпадений я трогал будни: «Ну, а за кого будете на выборах в Госдуму голосовать?» – «За Карякина». – «За Карякина?!» (Вот за это самое то, что гвоздили мы сейчас, в самом похабном варианте?!) – «Да. Он алкоголик».
Через три месяца после смерти Эдуарда Григорьевича Бабаева, в июне, его семья попросила меня забрать тираж его последней книги из издательства. Я страдал: поймаю ли на Поварской свободный грузовик, но тираж – две пачки книжек тоньше школьной тетрадки – поместился в одной сумке, я ехал на частнике и листал. «Рекламная библиотечка поэта», «Собиратель трав». Тираж 1000 экземпляров. Цена договорная.
«Задумали для поддержки писателей издать крохотные книжечки стихов, чуть ли не всем. Дошла очередь до меня. Я рукопись сдал, к печати она двигалась медленно. И как-то зашел в издательство, там сидит серьезный человек «на рукописях», обстоятельный, все знает, про каждого у него в блокноте записано, раскрывает и читает. Я ему говорю: «Хотел внести некоторые исправления. Посидел тут с рукописью на свободе, и в голову пришло…» Он просто взорвался: «Где вы нашли свободу?!» Я: «Хочу переделать буквально пару строф». – «Как фамилия?» – «Бабаев». «Так, Бабаев… – человек полистал блокнот. – Нельзя. Ваша рукопись уже в производстве». – «Так вот же она на полке лежит». – «Это уже не ваша рукопись. Это наша рукопись. Вы что хотите, чтобы мы ее дважды редактировали?» – «Жаль. А вот в девятнадцатом веке один литератор прибежал в типографию, где печаталась его книга, и умолял дать ему возможность внести исправления. Наборщики качали головами: поздно, уже вертятся машины. Литератор сорвал с руки золотые часы: вам! Наборщики: а-а, ладно, где там ваши правки, только живей!» Человек «на рукописях» внимательно выслушал и осведомился: «Часики при вас?»
Мне кажется, он с удовольствием писал о юридическом образовании Ахматовой, держа в памяти свое математическое, словно это их роднило, он прожил правильную жизнь поэта, у него были странствия – «бродил по пескам Каракумов и Кызылкумов», поступил на математический, окончил филологический, летом работал в геодезических партиях, нанося на карты старые крепости, новые дороги и русла высохших рек, – не поэтому; он прожил правильную жизнь поэта потому, что не двигался, врос в свое время, до смерти сидел в сторожке, и все, что написал, можно прочитать без приливов крови на лице, и просто прочитать, и он не умрет – как подохла литературная братия, работавшая десять лет туалетной бумагой, продавшая (что там идеалы!) свою юность и родителей, отрабатывая, отрабатывая, отрабатывая – нет, не деньги, – просто грызла среда и обсасывала косточки, трамбовали обстоятельства – сперва обстоятельства одни, а потом обстоятельства другие, вот и ложились, как скажут. Когда они идут, когда они пишут, когда они умирают (все чаще), это парад самострелов и саморубов – прошлое мешает: они рубят руки, написавшие не то, рубят ноги, заносившие то и дело в партбюро, выжигают доли головного мозга, «не отдававшие должного отчета», выкалывают глаза, не видевшие человеконенавистнический характер режима, урезают языки, отнимавшиеся, когда надо было вскакивать и орать: «Фашисты! Не трогайте его!», даже у самых здоровых – то пальца на руке нет, то шрамик на животе – подвела злосчастная опубликованная статья шестьдесят какого-то года, подвел разговор в пивной, подслушанный и записанный соседом недружественной ориентации, – на месте времени у них появилось «одно время», «другое время», «еще одно», появились разные литературы, совести, чести, национальности. Только смерть осталась одна.
От Бабаева я узнал слово «хронофаги» – люди, пожирающие наше время. Шах звонил мне, когда его забывал: хронофаги.
Бабаев уцелел в своей сторожке, на маяке. Стихи его просты, кажутся неловкими. Сам он про них ничего не говорил. Но они же спасли его, значит, он – настоящий поэт. Он знал, что сторожил: «Поэзия не признает разрывов, храня «связь времен», единство нашего опыта, истоки и начала нашей жизни». Это была одна из самых любимых (не осмелюсь на «главных») его мыслей, он часто пересказывал ее на лекциях математическим языком: «Функция берется только от непрерывной кривой». В слове «функция» мне чудилась какая-то сила, ее сберечь могла только непрерывность. «Многие несчастья в нашей жизни вызваны пропущенными и разорванными связями в рассуждениях и делах, из-за которых вопросы не сходятся с ответами или же возникает произвольная замена целей и величин», «В математике от 1 до 2 бездна. Это для упрощения вводятся какие-то единицы. Так и в литературе».
Сила Бабаева казалась веселой: «Поэтов не любят за их непобедимый здравый смысл. Именно на нем основана способность поэзии предсказывать или предвидеть будущее – предмет особенной зависти науки и политики».
Больше писал летом, на снятой даче или в Доме творчества Переделкино, отказывался от переводов, чтобы хранить волю, и любил близкому и не близкому: «Вот, я написал стишок. Послушай». «У меня голос не сильный, но свой». Что он думал об отсутствии читателей, когда слушателей находил не каждый день? О стихах Бабаева, двух тонких книжечках, написали раза три за жизнь: «они появились в те годы», «когда в стране гремела эстрадная поэзия», и «не привлекли к себе внимания» – так холодно и ясно написал кто-то, а Бабаев прочитал, улыбнулся, наверное, и дальше жил: «Я одинокий, я скромный поэт. Читателей у меня немного, один, два», и жене: «Мне никто не нужен, лишь бы ты и Лиза были дома».
«Отдыхал в Переделкине. Там такая публика…» – «Какая?» – «У каждого за спиной колокольня!»
Он сходился со всеми, признавали свидетели, без всякого разбора: со всеми! – такой Жуков, литератор, любил при отдыхающей публике грозно: «Эдуард Григорьевич, я считаю: всех черных давно пора кинуть в топку и пожечь!», такой Анатолий Знаменский, певец красных казаков, любезно предлагавший на прогулке толстым еврейкам для чтения газету «День» и после брезгливого: нет, никогда! – шептавший в спину: «Ничего, скоро всех мы вас…» – таких обходили дальней дорогой, жена Бабаева с ними не здоровалась – а Эдуард Григорьевич ел за одним столом, дружно гулял тропинкой мимо колодца, обсуждая повести и романы, и сносил вечернюю атаку жены: «Зачем ты с ними ходишь?! Зачем ты соглашаешься с тем, что не думаешь?!» – «А мне интересно, вдруг что-то стоящее скажут. А переубедить их я не смогу». Его жизнь и стихи ничего не боялись.
Есть у стихов надежная основа
Мечты, воспоминания, дела.
Всего-то надо записать два слова,
Присел к столу, глядишь – и жизнь прошла.
Никогда не говорили про собственную смерть, Шах (как я уже упоминал выше) будто бы говорил с Бабаевым: «Я каждый день думаю о смерти». – «А я нет. Мне не надо». – «Я все написал, где и как меня похоронить». – «А я нет. Все равно», – Шах мог не то чтобы наврать (в его способность тронуть в разговоре с Бабаевым все, что угодно, я ни мгновенье не сомневаюсь), он мог неточно запомнить и переврать самое важное.
«Я уже старый. Пора все собирать». Вот, оживляются свидетели, он все время думал о смерти: возился с фотографиями, чистил архивы – но это ничего не значит.
Бабаев ничего не написал о смерти, похоронах дорогих или незнакомых людей. Еще он ничего не написал про университет. Словно смерти и Московского университета в его жизни не существовало. Или написать об этом нельзя. Словно за глухотой наступило молчание. Единственное об университете стихотворение «МГУ»:
В канун зимы земля крепка.
И желтый лист в окно стучится.
Зима покамест далека,
Но за ночь может все случиться.
Он удивленно сказал: «Мы с женой стали такие старые, а были такие молодые», и загадывал, начиная работу: моя последняя статья о Пушкине, моя последняя статья о Толстом, читаю последний курс и – на пенсию… И посреди лекции остановился, чтобы: «Странное дело, смерть! Еще вчера можно было подойти, спросить что-то, а сегодня человека уже нет, и ничего не спросишь!» – смерть в его глазах – это то, что лишает знаний. Жену он просил не ставить гроб в факультетском спортзале и не позволять речей. Спортзал – это впечатление от тоскливых похорон профессора Ковалева, а речи – Бабаев знал, что его не любили (те, кто почувствует себя обязанным выступить вперед, обвести плачущих взглядом и разинуть рот) – чего там говорить.
Он хотел издать курс лекций (издатель не находился) и не мог завершить рукопись долго (мне кажется, понимая, что лекции невозможно сохранить), но: «Не надо торопиться. Надо, чтобы что-то осталось неизданным». Почему?
Ему нравились слова Марциала: «Книжек довольно пяти, а шесть или семь – это слишком…» Что-то находил он свое в жизни этого человека и непонятно для всех, понятно для себя однажды сказал: «Жизнь стала такой же ненадежной, какой она была во времена Марциала». Я приехал с похорон Бабаева и ткнулся в «Сегодня» (любимая газета, потом ее удушили): «16 марта 1995 года. Во вторник 14 марта сотрудниками Регионального отдела по борьбе с организованной преступностью задержан 61-летний авторитет азербайджанской преступной группировки Бабаев, известный большинству по кличке Ба-бай. При обыске в роскошной квартире авторитета найдены…» – что значит, что значит «ненадежная жизнь»? Жизнь, которой нельзя верить. Жизнь, которая не спрячет. Берет твое и ничего не обещает взамен.
Что он думал и что думает сейчас – и что вышло, остались буквы, сложившиеся в неизвестность: «Золото добывается просеиванием… Бывает, что все написанное просеивается, а имя остается. Но случается и так, что имя просеивается, а кое-что из написанного остается».
Вот что, мне кажется, он написал для многого, но в том числе и для могильного камня: «Я и сам не решаюсь назвать тот или иной жанр «главным» для себя… В моей работе не было резких переломов… Я помню своего деда Нерсеса. Он был мастеровой и всю жизнь работал: плотничал, переписывал Евангелие, складывал очаг из камней. Так и я всю жизнь работал».
«В те годы многие студенты гораздо лучше знали в лицо квартальных надзирателей, чем своих профессоров. И Полежаев в духе времени стал завсегдатаем «веселых домов» в Марьиной Роще:
Вот в вицмундире,
Держа в руке большой стакан,
Сидит с красотками в трактире
Какой-то черненький буян.
Веселье наглое играет
В его закатистых глазах.
И сквернословие летает
На пылких юноши устах.
Сказал о себе: «Вот все, чему научился. Свидетель – университет».
«В 1835 году в журнале «Московский наблюдатель» появилась статья Шевырева «Стихотворения Бенедиктова», в которой он говорил о новом поэте как мыслителе.
Точка зрения Шевырева казалась достаточно обоснованной и опиралась на суждения знатоков поэзии и на общее увлечение его стихами.
Но в том же году появилась в журнале «Телескоп» статья Белинского под таким же названием – «Стихотворения Бенедиктова», во всем противоположная статье Шевырева.
Если Шевырев охарактеризовал Бенедиктова как поэта-мыслителя, то Белинский называл его «фразером» и отказывался признать в нем какие-либо права на философичность в поэзии.
«Обращаюсь к мысли, – пишет Белинский. – Я решительно нигде не нахожу ее у Бенедиктова. Что такое мысль в поэзии?.. Сочинение может быть с мыслью, но без чувства, и в таком случае есть ли в нем поэзия?»
«У него нельзя отнять талант стихотворца, – продолжает Белинский, – но он не поэт. Читая его стихотворения, очень ясно видишь, как они деланы…»
Белинский указал на стихотворение «Всадница», где, по его мнению, особенно заметно «решительное отсутствие всякого вкуса». В стихотворении «Всадница» действительно «сугубая проза» одерживает верх над «сугубой поэзией», создавая ощущение чего-то безвкусного и аляповатого:
Люблю я Матильду, когда амазонкой
Она воцарится над дамским седлом,
И дергает повод упрямой ручонкой,
И действует буйно визгливым хлыстом…
Матильда спрыгнула в роскошном волненьи
И кинулась бурно на мягкий диван.
Эта Матильда прямо погубила Бенедиктова. Пример, приведенный Белинским, был убийственным, убедительным.
Между Шевыревым и Белинским произошла дуэль, а убит был Бенедиктов. После скандала, разразившегося над ним в 30-е годы, он в течение двадцати лет почти ничего не писал и не печатал. Однажды он написал в альбом одной из своих почитательниц:
Не дорожу я криком света;
Весь мир мне холоден и пуст;
Но мило мне из ваших уст
Именование поэта,
Итак, да буду я певец,
Да буду возвеличен вами,
И мой сомнительный венец
Пусть блещет вашими лучами.
Так это навсегда и осталось. Не то чтобы Шевырев был не прав и не то чтобы Белинский был во всем прав. Но Бенедиктов был увенчан «сомнительным венцом».
Хотя отзвуки его лиры можно услышать и в стихах Лермонтова, и в поэзии Северянина».
«Опять пошли пиры, Полежаев ушел из казармы, пропил все, даже шинель, был возвращен в полк, судим и наказан: его провели сквозь строй. Умирал в госпитале. На смертном одре узнал, что произведен в ротмистры: можно было уходить в отставку – и он умер».
Он всегда внезапно взмахивал рукой: «Ну… Прощайте!», неловко поворачивался и брал палку, зацепленную за спинку стула, спускался с кафедры, как со сцены, и уходил по коридору и налево забирать пальто, студенты хлопали в ладоши уходящей спине. «Он же у нас артист!» – весело сказала Майя Михайловна. Он был певец, «человек, промышляющий голосом», я оставлял его одного за пять минут до начала лекции, казалось, за это время Бабаев поднимается на какую-то огромную высоту и остается на ней с первого шага на кафедру, когда он в полном молчании писал на доске три-четыре названия разделов лекции, словно заполнял театральную программку. В его голосе не было актерства, он не рассчитывал шаги, движения его были экономны. Странно слышалось после лекций Бабаева безнадежное: «Пушкин был…»
Бабаев по обязанности принимал экзамены. Мучительные дни. Изнурительное прислушивание полуглухого к бормотанию идиотов. Выставление оценок. Роспись в зачетке. Бабаев пел кому? – своим героям, на экзамен строем топали те, кому приходилось покоряться учебному плану и слушать, такие, как я, или немного лучше. Я, уже окончив университет, иногда напрашивался посидеть рядом. Зачем? Я собирался когда-то написать о «лучшем лекторе», значит, должен «собирать материал», повидать его разным. Присоединялось немало жалких соображений: поглазеть на девушек с начальственной высоты, насладиться, как жалко трепещет чужая душа, покорная чужой силе (и моей! я ведь сижу по ту сторону стола, где власть), словно моя душа, ведь, читая вопросы билета, слушая вопросы Бабаева, я представлял: а что бы я? на этом самом месте? – и все метания и прыжки, ужас и мелкие надежды, и надуванье щек жертв – все это мое, чувствовалось остро и полностью – услышав какую-то особенную глупость, Эдуард Григорьевич поворачивался ко мне, словно за поддержкой, я сокрушенно поднимал брови, качал башкой и вздыхал: нд-а-а… – на мгновение холодея: а ну как скажет он сейчас – Александр Михайлович, покажите-ка, как надо ответить на этот вопрос, или сам запнется на какой-то ступеньке и попросит: подскажите мне поскорей год написания «Руслана и Людмилы».
«Я их пугаю поначалу. Катятся у меня, как с горки, – мы выходили погулять по коридорам, давая возможность списать, – люблю студента слушающего. Но его боюсь. Боюсь встречи с ним на экзамене. Ужас перед студентом. Ведь придется с ним еще разговаривать. Даже не знаю, о чем спросить… Студенты записывают на лекции только то, что знают. Говоришь новое – просто изумленно смотрят… Сдать экзамен по русской литературе невозможно, а побеседовать можно. Нельзя ни перед кем на брюхе лежать. А то о Достоевском говорят, как о секретаре Союза писателей. А есть простые пути. Надо говорить то, что понимаешь. Просто встать и открыть окно. Не двигать по пути мебель, не спотыкаться о стулья, не бить горшки».
Еще он сказал то, во что я не поверил: «Плохой студент всегда на экзамене суетится, ищет учебник, роется под столом в шпаргалках. Этот чаще всего хочет обмануть. Средний – волнуется, я вижу, что пытается он обдумать свой ответ, но мало у него «золотого запаса» – значит, прошел со мной не весь путь. А хороший никогда не суетится, и сразу я вижу, что этот человек прошел со мной до конца…» – в существование последних я не верю. Я почуял: правда, да, так – когда Бабаев усмехнулся про одного: «К моим лекциям относится с таким уважением, что при ответе их не использует».
Экзамены он принимал с достоинством.
Два раза в году Бабаеву безжалостно показывали, кто ему аплодирует и что запоминают по свежим следам (нетрудно представить, что останется в памяти через год), священнику приходилось по жаре тащиться на рынок, актер, не смывая грима, выходил к публике и подсаживался за ближайший столик, «Они отвечают, как в игре «Поле чудес»: я не знаю, но попробую ответить», – он рукой, как козырьком, прикрывал глаза и слушал-слушал-слушал:
«Ну, Мефистофель просто ответил ему, ну, говорит ему…»
«Аракчеев был жестокий…»
«В его творчестве имеют место элегии, идиллии».
«Пушкин не знал народа. То есть Годунов».
«Ломоносов окончил МГУ».
«Стал литературным и политическим реакционером – стал приближенным царя».
«Мама Батюшкова сошла с ума и умерла».
«Поэзия глубоко проникнута трагическим и вольнолюбивым характером».
«Герои басни не такие уж животные».
«Да, у Толстого очень длинные предложения».
«По понятным причинам Лермонтов…» Бабаев мертвечины не пропускал: «По каким?» И страшная пауза.
Кончалось почти одинаково: «Ну, братец, ты совсем ничего не знаешь, поставлю тебе четверку. Отдавал зачетку: «Помните, что вы в долгу перед русской литературой». И уже много пройдя нашим маршрутом (Большая Никитская, налево в переулок за Консерваторию, еще налево мимо пожарной части и ГИТИСа), он жалобно показал руками, глядя куда-то вверх, как судостроитель на скелеты кораблей, остовы дирижаблей, железо, словно обойдя какую-то стройку: «Духоподъемность, водоизмещение малое!»
Экзамены Бабаева отличались от экзаменов других преподавателей факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова только одним – Эдуард Григорьевич требовал: студент должен выучить одно стихотворение русского поэта и на экзамене прочесть. Это единственное, что не спишешь со шпаргалки. На прямой вопрос: ну, что прочтете?! – студент выдавливал, к примеру: «Пророк» знаю наизусть. На тему «Поэт и общество», «О самоубийстве знаю – «Не дай мне Бог сойти с ума», обязательно запинался посреди заученного и жалобно повторял последнюю уцелевшую в памяти строку, какую-нибудь там: «Не найти тебе нигде горемычную меня» – трижды, словно забрасывал удочку в воду, надеясь, как магнитом, подцепить оставшееся, – Бабаев не выдерживал, подхватывал и допевал до конца, преображаясь в героя, героиню, лисицу:
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка! Как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!»
Порой: почему выбрали именно это стихотворение? – народ отчаянно врал, кто попроще, врал к правде поближе: «Просто мне короткие нравятся». Бабаеву казалось: выбором стихов поколение говорит о себе, ну так вот – чаще всего с наслаждением долбили: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ» (Эдуард Григорьевич, к слову сказать, сомневался, что строки эти Лермонтова, как не признавал за Пушкиным «Гаврилиады») или Вяземского о русском языке:
На нем мы призываем Бога,
Им братья мы в семье одной,
И у последнего порога
На нем прощаемся с землей.
Экзамены мне казались взаимным обманом, приносящим легкое удовлетворение, мертвой церемонией, поработившей экзаменаторов, но мне ни разу до того, как я выбыл из студентов и развлечения ради посидел рядышком с Бабаевым, не приходило в голову – как это мучительно, мучительно, унизительно (для тех, кто слушает и пишет оценку в ведомости и зачетке) – Эдуард Григорьевич после экзаменов валился спать, как после бессонной ночи, он и умер потому, что на экзамене надорвался.
«Мне все время кажется, что я читаю в последний раз. Но потом все это продолжается».
«Усталый шел крутой горою путник…»
«Жуковский был новым типом религиозного поэта. Он слушал, что ему говорил «ангел-утешитель», полагая, что поэзия для того и существует на земле, чтобы человек помнил о небесах».
«Был некий человек, который тяготился своим крестом. «Господи! – говорил он. – Я согласен нести крест, но какой-нибудь другой, а не этот. Дай мне другой, какой угодно крест: он будет легче моего…» И Бог услышал его мольбу. И сделал так, как просил его этот человек, пожелавший изменить свою судьбу и выбрать себе крест по собственному разумению. Ибо он и сам не понимал, о чем он просит… Но все исполнилось именно так, как он хотел:
И вдруг великий
Поднялся ветер; и его умчало
На высоту неодолимой силой;
И он себя во храмине увидел,
Где множество бесчисленное было
Крестов…
И он стал с увлечением выбирать для себя крест. Возьмет один, попробует другой… Но все было не то и не так.
И вдруг он увидел один простой крест, «им прежде оставленный без внимания». «Господи! – сказал он. – Позволь мне взять этот крест, он мне по росту и по силам…»
Но это был тот самый крест, который он нес всю жизнь и от которого так хотел избавиться.
Эта баллада столь пронзительна по своему смыслу, что ей нужна была простая по языку форма притчи».
Часто думаю: быстролетно, смертно – годами, пятилетками читал лекции, повторялись темы – что осталось? так, быстро тающие воспоминания о воспоминаниях, и про живого про него писали как про мертвого: «Почему-то совершенно не запоминалось, как Эдуард Григорьевич входил в аудиторию, как здоровался…», «И сейчас вижу его невысокую сутуловатую фигуру, его непременную трость, его берет, его старомодность – опознавательные знаки особого, скромного изящества…» – но ведь и мы для него умирали, он оставался вечно юным с вечно юными, а нас относила быстрая вода, с ним не оставался никто, «Мне кажется, студенты изменяются, как эпохи… Количество тружеников науки неизменно», да он и сам не ждал учеников: «Переступая порог школы, учитель ждет ученика и идет ему навстречу. Переступая порог университета, студент может увидеть спину своего профессора, который идет своим путем». Слово «спина» объяснило мне, что я пишу.
На втором курсе я по совету-понуканию Шаха снял комнату и навсегда уехал из ДАСа, через три месяца женился на девушке, с ней познакомил Шах. В конторе, где расписывают, нас встретила широкоплечая деваха с лицом выразительным, как батарея парового отопления: «Документы. Ждать там».
Вдруг команда: «Идти!» Собрались в кучку. Деваха пробурчала: «Жених слева. Щас заходим. Невеста-жених на край ковра. Гости в первую шеренгу. Сумки убрали. Цветы целый день держали вниз, теперь – вверх. Так, а что, у вас свидетеля нет?» – «Есть», – я показал на Шахиджаняна. На лице девахи проявилась мрачная веселость: «Вы? Правда?!» Шах обиженно поднял цветы выше головы, словно пытаясь подрасти.
Наш курс пытался обогатиться: покупал, продавал, уезжал чернорабочими за границу, наша комната поползла в разные стороны – Костян женился еще на первом курсе, раз – ребенок (до свадьбы), два – ребенок, теща, тесть – в одной квартире, Рязанский проспект, ушел на вечернее и после извилистых движений присел в коммерческом отделе издательского дома «За рулем», хохол и Виктор Анатольич Карюкин вселили на мою кровать сперва дагестанскую малую народность, представлявшуюся налетчиком, грабителем прохожих у ЦУМа и чемпионом Европы по айкидо, потом негра, надеясь, что он привезет им диктофон с родины. Негр повел себя странно, водку не пил, объясняя это болезнью. Но тут Миша Смирнов женился на здоровенной, жирной бабе из химико-технологического института и вселил ее в нашу комнату, в свой угол за шкаф: «Не моются! Не готовят! Не стирают! Жара, у бабы рожистое воспаление – всю раздуло, а он сидит под боком у нее и шепчет: «Моя рыбка»«, – лютовал хохол и обещал молодоженам: куплю кольцо, хрустальную люстру куплю, только уматывайте! Пьяный Карюкин заглядывал на их половину: «Покажите – как вы вдвоем на кровати помещаетесь?», у отца бабы имелась «вольво», хохол признавал: это аргумент.
Хохол и Карюкин не собирались бизнесовать (после журфака перевелись в бывшую Высшую партийную школу учиться на менеджеров, спали и пили теперь в общаге на Садово-Ку-дринской) и строить семьи, хотя хохол вяло атаковал крокодила-официантку валютного ресторана, обещавшую за свадьбу семьсот долларов (наличными четыреста и на три сотни – товары), но, придя знакомиться в дом, напился, подрался с родителями невесты и заключил: «Ничего. До тридцати лет еще погуляем».
Зарабатывание денег подхватило Шаха, но не впрямую, он всегда говорил: «Будешь думать о деньгах – денег не будет», нет, при умирании социализма Шах посвободнее проявлял свою гениальность и удовлетворял непрерывно рождающиеся интересы. Он вырастил «добрую мафию» учеников, пришло время «мафии» заработать. Шах остановил столетнюю войну за кандидатскую, бросил писание статей и рассказов и взялся за коммерчески выгодные книги.
Надо сказать, что писание, письмо, сочинение фраз, постановка абзацев, нахождение слов Шаху давалось невероятно трудно, настолько, что казалось: он физиологически не способен к письму – его беспомощность была трогательна и окончательна, как беспомощность старика. Видя въявь его недельные мучения над трехстраничной газетной мелочью, любой, я восклицал: да, Владимир Владимирович, дайте лучше я напишу! – все, что писал он собственноручно, имело несчастную издательскую судьбу – для учеников Шаха день, когда он приносил для публикации заметку, окрашивался черным цветом – писать Шах не мог – мог говорить, собирать чужие мысли, склеивать из отобранных кусочков композиции, только не писать свое – с каждым годом Шах настойчивей объяснял это нарушениями мозгового кровообращения, провалами памяти и охотно принимал помощь машинисток, корректоров, соавторов, советников, редакторов – учитель наговаривал на пленку, артель доводила до ума – и этот человек двадцать лет учил писать студентов! – воскликнете вы – не усмехайтесь, чужие слова Шах судил точно, замечания его помогали, его предсказания сбывались. Во всяком случае, мне так казалось, сам я не большой знаток.
Он не писал повестей и романов, Шах писал клоунские репризы, кусочки воспоминаний и рассказы – жалостливые, взятые, по его утверждению, из собственной жизни, но выглядевшие терпимо и нетерпимо вымышленными. Их легко пересказать. Я записал один. Название: «День встречи птиц». Содержание: мальчик Шахиджанян учится в ленинградской школе. Вдруг объявляют: ребята, наступает весна, и скоро прилетят птицы, зимовавшие в теплых странах. Каждый из вас должен сделать скворечник – устроим птицам достойную встречу! Кто сделает скворечник лучше других – получит приз. Два старательных дня мальчик с мастеровитым соседом выпиливает, строгает, сколачивает и, наконец, торжественно несет и сдает в школу свое изделие, помеченное особой краской, чтоб потом отыскать, на какое дерево повесили его птичий домик, чтобы узнать, какой поселился в нем жилец. Но поздним вечером выясняется, что мальчик случайно засунул в скворечник документы своей матери, какие-то важные бумаги. Мама ругается. На ночь глядя он бежит к зоопарку (скворечники школьников зачем-то отнесли в зоопарк), никто не хочет его пускать, злой дворник, свирепый вахтер, но он добился, проник, добежал и вдруг видит: скворечники охапками носят в котельную и бросают в печку – жгут. Все сожгли. На его глазах.
Назавтра в школе дают призы лучшим строителям скворечников. И всем дают призы, каждому. Кроме мальчика. Конец.
В университете Шаха ненавидели. Он решил написать лучший в Советском Союзе учебник машинописи. Ну почему, вы-то? Вы ведь нигде не учились! Что вы можете понимать?! Шах собрал и изрезал на куски все, что вышло про печатные машинки на русском языке, ему привезли и перевели на русский все, что выходило не на русском, – изрезал тоже, кусочки перемешал, выложил по-своему, дописал, придумал упражнения, составил «уроки», понес по методическим лабораториям и высшим курсам машинописи, где, как рабы на галерах, слева и справа гнулись над грохочущими электрическими «Роботронами» и «Ятранями» вечно сутулые девушки – их седые надзирательницы, старшие научные сотрудницы вертели в руках Шаховы «уроки», проседая под ударами молота: как? так? не так? а как? а вот теперь так? теперь напишите предисловие! а отзыв? только должность, пожалуйста, полностью и кандидат таких-то наук – «добрая мафия» зарядила «уроки машинописи» по журналам и газетам, тогда еще отзывчивый народ отзывался письмами – Шах, справедливо подозревая во мне недоверчивость, заставлял читать ему вслух (вел машину), сами, сами открывайте конверты и читайте, все подряд: народ благодарил в счастливых слезах – если бы не вы, когда я бы так классно научился печатать вслепую десятью пальцами – я холодел от прикосновения к чуду в то самое время, когда у народа после телевизионных сеансов «целителей» вырастали волосы в безнадежно лысых местах.
Как бетонобойная бомба, Шах прошибал насквозь издательские этажи, и его принимали только в подвале: вот – он выкладывал газетно-журнальные вырезки: опубликовано! Опробовано на студентах. Двести человек за год, эффективность девяносто два процента! Хотите, мой студент Виктор Анатольевич Карюкин покажет, как он печатает? (Шах любил ходить с адъютантами) – издайте мой учебник! Владимир Владимирович, тянул издатель, Володя (двадцать лет знаю, чудак, радиожурналист, в цирк водит, книжки собирает про секс, но вечно какие-то выверты, выгоды, темные истории…), но уже чуя свой неумолимый конец: ну ведь это как бы самодеятельность, что ли… Два! – потертая и заметно грязная сумка Шахиджаняна взрывалась в его руках, разбрызгивая по полированному столу вееры засаленных конвертов – а это? Две тысячи шестьсот тридцать два письма за два месяца (не совсем врал Шах) – читайте, открывайте любое и читайте – страна требует учебник машинописи, молодежь рвется к новой жизни, вы не представляете, как это связано с психологией мышления. Лев Толстой в восемьдесят лет научился работать на печатной машинке. Я сам соберу сто тысяч заявок на книгу без всякой там «Книги – почтой». Второе издание – полмиллиона тираж. Сделаю двадцать пять публикаций в газете и пятнадцать в журналах, упоминания на радио и по телевидению (чистая правда). Подписываем договор?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































